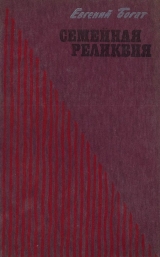
Текст книги "Семейная реликвия"
Автор книги: Евгений Богат
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Письма к читателю
О Шиллере, о славе, о любви…
В XIX веке не было понятия летной и нелетной погоды, но именно нелетная погода вернула меня в XIX столетие. Было это на аэродроме. За широкими, в полмира, стеклами мела-мела метель, самолеты, лишенные неба, стояли на бетонной полосе беспомощно и тяжело.
Не было несколько дней вылетов, и аэропорт был насыщен самой тяжкой суетой: суетой ожидания. В отель попали не все, и люди устраивались, как могли, в залах, ставших тесными и неуютными… Задремывая, я услышал фразу, показавшуюся мне архаической характеристикой ситуации, которую мы переживали: «Солнце дорогу ему тьмой заступило…»
Я узнал текст, памятный с детства. Женский голос читал негромко:
«Мгла поля покрыла, щекот соловьиный заснул, галичий говор затих. Русское поле великое червленными щитами огородили, ища себе чести, а князю славы».
Да! Это было «Слово о полку Игореве» в переложении В. А. Жуковского.
Боясь быть нескромным, осторожно, как бы невзначай, как бы всматриваясь в мглу, наплывающую на окна аэропорта, я обернулся. Их было четверо: две женщины, обеим лет за сорок, и две девочки. Девочкам было лет двенадцать-четырнадцать, они, казалось, забыли обо всем на свете. И я вдруг тоже забыл обо всем на свете и дослушал «Слово» до последней строки, до последнего, завершающего «аминь!».
Женщины достали термос, началось чаепитие. Кто они? Почему именно «Слово» вслух читали в обстановке, совсем не располагающей к этому? Надо было, наверное, с ними заговорить, но я постеснялся и никогда уже не узнаю, почему именно «Слово» они читали в возбужденной ожиданием, мающейся от собственной беспомощности толпе. Почему они вообще что-то читали вслух?..
А вернуло меня это в XIX век потому, что давно трогает одна особенность уклада и быта той эпохи: люди собираются вечером за семейным столом и читают по очереди вслух. На заре века – Шиллера, в середине века – Тургенева, на излете, на рубеже двух столетий, – Чехова, Горького, Андреева, Куприна. И весь век – Пушкина. И хотя воспоминания сохранились лишь о людях замечательных или великих, чувствуется, что это черта типическая.
«…Вечером после обеда Л. Н. читал вслух „Душечку“ Чехова, со смехом и с грустью. Два раза переставал из-за смеха и давал Ивану Ивановичу (Горбунову), чтобы тот читал, конец же с трудом дочел до конца, так сжимало ему горло от грусти. Он встал, немного отошел, вытер слезы.
…Л. Н. читал вслух Диккенса.
Вечером… Гольденвейзер читал вслух последний рассказ Горького „Тюрьма“. Когда он кончил, Л. Н. сказал: „Как хорошо читаете“.
…Вечером читали вслух „Поединок“ – повесть Куприна.
Вечером читали вслух Герцена „Доктор, умирающий и мертвые“.
Это – из „Яснополянских записок“ Д. П. Маковицкого „У Толстого“».
Сегодня кажется странным и необычным: собралась большая семья и гости и вслух читают. А тогда было важной особенностью умственной и нравственной жизни. И судя по мемуарам – не только гениев.
Коллежский советник Михаил Андреевич Достоевский был в сущности, рядовым лекарем начала XIX века, но в его небольшом скромном доме царил культ Карамзина и Шиллера. Он читал вслух вечерами детям, о чем потом вспоминал с волнением один из его сыновей – Федор Михайлович Достоевский.
Семейное чтение исчезло совсем.
Его вытеснили стереосистемы, радио, телевидение.
Шиллер и Карамзин – великие писатели, но состязаться с большим футболом, большим хоккеем, чемпионатом мира по фигурному катанию, записями модных бардов они не в силах.
Думаю, если бы некий Экспериментатор вошел в любой из сегодняшних домов вечером, когда семья упоенно сидит перед голубым экраном, и попросил – то ли в шутку, то ли всерьез, – «выключим телевизор и почитаем вслух», ну, не Шиллера (великий романтик, возможно, «устарел»), а, допустим, Шукшина, его бы, Экспериментатора, в лучшем варианте вежливо, вежливо…
И вовсе не потому, что Шукшина не любят и не читают. Даже Шиллера читают и любят. Но про себя и для себя.
Потому и восхитили меня, наверное, те минуты в аэропорту. Я услышал «Слово», читаемое не про себя. Будто бы какие-то незримые нити соединяли все теснее четверых – двух женщин и двух девочек. Будто бы какое-то незримое благо их объединяло. И я все полнее понимал, что имя этому благу – культура. Они были маленьким содружеством людей, сохраняющих в экстремальной ситуации культуру и человеческое достоинство.
И, может быть, именно в этом – высший смысл семейного чтения.
С фантастическими достижениями науки и техники мы стали в чем-то не богаче, а беднее. Мы стали беднее, потому что без душевных затрат получаем – как балованный ребенок игрушки – бесценные дары. Мы путешествуем не путешествуя, мы читаем не читая. Нам без тяжкой работы души и тела достаются вещи, для достижения которых наши прадеды изнашивали сердца и башмаки.
Чтобы научиться читать, даже элементарно, азбучно, нужно затратить и время, и силы. Чтобы читать вслух людям, которые тебе дороги, нужны еще большие затраты, нужен талант любви и понимания. Это работа. Нужна работа. Но она вознаграждает. Судя по воспоминаниям и мемуарам, люди, вовлеченные в это умственное и нравственное общение, как бы очерчивают вокруг себя некий круг, внутри которого торжествует великое «Да» и не менее великое «Нет».
«Да»: духовности, человеколюбию, пониманию, «Нет»… Это «Нет» уточняется и конкретизируется в зависимости от ситуации, от индивидуальностей характеров и судеб. Но в общей форме это «Нет» – тому, что нас унижает. Оно может выйти за семейную черту, в большую общественную жизнь, может мирно остаться в домашнем кругу; мирно, но не бесследно для повседневного поведения. Судя по воспоминаниям и мемуарам.
Имея в виду «демографический взрыв», часто говорят, что сегодняшний человек устает от тесноты и перенаселенности – в рабочей комнате, на улице, в трамвае, в аэропорту в нелетные сутки. На самом деле, по моим наблюдениям, люди устают от одиночества. Сегодняшний человек бывает порой и нервозен, и раздражителен не оттого, что вокруг него много людей, а потому, что чересчур мало людей его понимают. Да и давным-давно замечено, что «ситуацию толпы» особенно остро и мучительно переживают одинокие люди.
Непосредственным поводом для написания этого письма читателю послужило небольшое событие, к сожалению, не замеченное нашей печатью. (Но читатели, сужу по письмам, заметили!) Вышли две книги для семейного чтения. Это можно рассматривать, конечно, как эксперимент. Но эксперимент интересный, социально важный, заслуживающий быть отмеченным и осмысленным.
В оба выпуска вошли стихи, рассказы, эссе, страницы из дневников А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, В. М. Гаршина, А. М. Горького, А. И. Герцена, Ф. И. Тютчева. В обоих выпусках – Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Андрей Платонов, Константин Симонов, Сергей Есенин, Чингиз Айтматов, Борис Слуцкий, Николай Заболоцкий, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко…
Не поленимся поставить опыт: почитаем вслух вечером, за семейным столом, ну хотя бы из «Круга чтения» – любимого труда Л. Н. Толстого, ставшего давно библиографической редкостью.
«Для того, чтобы воспитать человека, годного для будущего, надо воспитывать его, имея в виду вполне совершенного человека, – только тогда воспитанник будет достойным членом того поколения, в котором ему придется жить…
Цель истинного воспитания не только в том, чтобы заставлять людей делать добрые дела, но и находить в них радость; не только быть чистыми, но и любить чистоту; не только быть справедливыми, но и алкать и жаждать справедливости.
Ученый – тот, кто много знает из книг; образованный – тот, кто усвоил себе самые распространенные в его время знания и приемы; просвещенный – тот, кто понимает смысл своей жизни…»
Или почитаем – только вслух, вслух! – для детей и взрослых воспоминания Л. Ф. Достоевской об отце.
«…На этот раз он избрал русские былины. Эти древние легенды гораздо больше подходили для нашего детского воображения, чем драмы Шиллера. Мы слушали с восторгом и увлечением, плакали горькими слезами».
Плакал, как мы помним, Л. Н. Толстой, читая «Душечку». Плакали дети Ф. М. Достоевского, когда отец читал им былины.
Нет, мы не будем сегодня плакать, читая вслух или слушая, как читают нам. Мы не столь сентиментальны и старомодны.
Но, быть может, поставив этот опыт, мы поймем, что стали участниками нескольких событий. Событие первое: единение людей, сидящих за семейным столом. Второе событие: новый ритм жизни, та небыстрота мыслей и чувств, которая возвращает нас из житейской суеты к самим себе. А третье событие, может быть, существеннейшее: мы стали духовным содружеством, сохраняющим культуру, передающим ее дальше.
Три события…
Но есть и четвертое: язык. Стертый, обесцвеченный, заштампованный, он вернется к нам с голоса жены, дочери, мужа и с нашего собственного в том фантастическом богатстве, которое часто неощутимо при чтении про себя. Язык, как музыка, должен зазвучать.
Он зазвучит, и мы услышим Слово.
«О Боян, соловей старого времени! Вот бы ты походы те воспел, скача, соловей, по мысленному древу, летая умом по подоблачью, свивая славу обеих половин сего времени…
…Тут Игорь-князь пересел из седла золотого в седло рабское…»
…Соловьи старого времени. Их пение – в веках, в тысячелетиях. И мы начинаем чувствовать и верить, что бессмертны. Не счесть пожаров, землетрясений, войн, извержений вулканов, эпидемий чумы, наводнений, стихийных, нестихийных бедствий. И не однажды человек, как князь Игорь, пересаживался из «золотого седла» в «седло рабское» и из рабского опять в золотое и падал с седла под бешеные копыта, горели рукописи и фрески, крошился мрамор, плавилась бронза, стирались с лица земли города и цивилизации. Бесмертным оставался человек, и поэтому ничего не было потеряно. Пели соловьи, соединяя половинки веков, половинки эпох. Пели соловьи, а когда утихнет их пение, не станет культуры, не будет и человека.
Во второй половине XX столетия во всем мире обострилась тоска по тому, что утрачено: по исчезающим животным, птицам и растениям, по уходящим чувствам и состояниям души. Это хорошая тоска. Но она не нова. Она существовала во все века и тысячелетия. Ее можно ощутить в вавилонских текстах и надписях на стенах египетских пирамид, в песнопениях Экклезиаста. Возможно, она родилась с человеком, возможно, именно она делает человека все более человечным. Монтень писал о том, что исчезли великие характеры, Стендаль сокрушался, что ушли великие страсти. И, вероятно, все это не ушло именно потому, что была тоска об утраченном.
Самая опасная утрата – утрата тоски об утратах.
Пока существует эта тоска – не утрачено ничего.
Не поленимся же, поставим этот опыт – почитаем вслух – и не будем отчаиваться, если не завтра и не послезавтра станут ощутимы его последствия. Будем помнить, что сеют весной, а всходит только осенью, а может быть, вовсе не стоит думать об отдаленных последствиях, а наслаждаться самим опытом, дышать высокогорным воздухом, общаться с великими душами и учиться у них доброте, пониманию, умению любить и идти, если надо, для этого на жертвы.
А почувствуем, что опыт не выходит, увидим перед собой лица унылые, сонные – захлопнем книгу, засветим голубой экран и увидим, если нам посчастливится, любимую женщину механика Гаврилова.
Судьбы, которые мы оставляем, или Реквием по Медынскому
«Как немилосердно летит время!» – повторял он часто.
А сегодня и я говорю: «Летит немилосердно…»
Летит и уносит любовь, юность, силы и те великие «порывы души», без которых человеческое существование лишено смысла. Но и унося все это, оно ставит перед человеком великие вопросы, от ответа на которые зависит его судьба и судьба мира.
Эти вопросы кажутся детскими, когда их задают поэты:
«Миры летят. Года летят. Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, о счастии твердишь, – который раз? Что счастие?..»
Что счастие?
…Кажется, лишь позавчера или третьего дня, не позже, я с замиранием сердца поднимался по ступеням его дачи, чтобы отдать ему, немолодому известному писателю, на суд первую мою «большую» вещь: повесть «Ахилл и черепаха».
А было это двадцать пять лет назад, даже, пожалуй, больше.
Четверть века.
Литературная моя судьба лишь начиналась, а его, думалось мне, естественно шла к закату… И только потом я понял, что и его судьба начиналась: не литературная – нет, выше! – судьба социальная.
Незадолго перед этим был опубликован его роман «Честь» – о человеке трагической судьбы, который волей обстоятельств и по собственной вине нарушил закон и сумел в тяжких условиях заключения, а потом недоверия окружающих сохранить в себе достоинство и человечность. Повесть вызвала даже не волну, а цунами читательских писем. Это была настоящая стихия: судеб, исповедей, сигналов бедствия, социальных и нравственных исследований и рекомендаций.
Высокая волна ударилась о Медынского, но не накрыла его с головой. Он почувствовал, осмыслил в ней стихию, которая нуждается в его участии. Это участие можно, наверное, определить старинным словом – «помужествуем».
У него был задуман в то время новый роман. Надо было выбирать между романом и читательской почтой. Он выбрал письма.
Он ответил на тысячу писем.
И получил новую тысячу писем…
Это была неожиданность, но неожиданность, которую он ожидал всю жизнь. Ожидал не одной лишь мыслью, не одним лишь сердцем – всем существом, как ожидают первую или последнюю любовь.
Это и была его последняя любовь к человеку.
Но надо было не только ответить, а и реально помочь, то есть быть и духовником, и деятелем. Надо было помочь тем, кому казалось, что они наказаны незаслуженно строго, надо было помочь и тем, кто понимал, что получил по заслугам, но начал утрачивать веру в возвращение к нормальной человеческой жизни.
И – самое существенное! – надо было помочь осужденным безвинно.
Надо было исследовать сотни судеб, обстоятельств, сопоставлять, думать, писать в компетентные инстанции, беседовать с людьми, от чьих решений зависит исход дела.
И на старости лет стал он духовником, и исследователем, и ходатаем, и борцом.
Я уже говорил в этой книге, как на его 80-летии рассказал с трибуны о небольшом курьезе.
Помните, освобожденные по амнистии заключенные томились в зале ожидания вокзала без билетов. Кто-то из них позвонил по телефону-автомату в руководящее учреждение и заявил: если их всех не отправят сейчас домой, они дадут телеграмму писателю Медынскому. Через полчаса ответственные сотрудники УВД города уже были на вокзале, и все бывшие заключенные уехали. Попросили их лишь об одном: Медынскому не писать.
Зал, в котором я об этом рассказал, помню, весело, по-доброму зашумел.
А он сидел рядом, неподалеку от трибуны. Я посмотрел в его сторону и увидел то странное выражение лица, которое появлялось у Медынского в особенные минуты: нельзя было понять – смеется он или плачет.
И пока шум затихал, мелькнула мысль, которую я уже потом додумал: в социальной жизни общества наряду с разнообразными учреждениями и не менее разнообразными должностными лицами, стоящими на страже интересов личности, должен быть человек без должностного ранга и кабинета, к которому можно в тяжелую минуту обратиться за помощью. Должен быть человек, избравший, по доброй воле, особую социальную роль, которую утверждает лишь одна неформальная инстанция – его собственная совесть.
А потом, тоже на 80-летии, была неожиданная минута, когда кто-то из зала во весь голос попросил-потребовал: «Герои Медынского, встаньте, мы хотим вас видеть». И они встали…
Живые социальные романы.
Его живые ордена…
(Один из этих живых романов можно было бы, наверное, назвать «Господа удавы». И мы к нему еще вернемся…)
Через пять лет я увидел их всех в траурный день. Тогда они съехались на радость, теперь – на горе.
Хоронили Медынского.
Исполнилось ему за двое суток до последней минуты восемьдесят пять. Судьба отмерила нескупо, но точно.
За поминальным столом я вдруг неожиданно для самого себя, понимая и не понимая от горя, подумал: а зачем Медынскому все это было нужно? Зачем?!
На старости лет это неподъемная и для молодых трата душевных сил! Ну сидел бы в тиши и уюте домашнего кабинета, писал бы повести и романы. Ведь писал же он их раньше, не нарушая «нормального» писательского образа жизни, и почетом не был обойден, стал лауреатом, «выходил» хорошими тиражами. Вот и состарился бы безбурно, в озарении мыслей и сюжетов, за письменным столом. А вечерами гулял бы с женой Марией Никифоровной. Посмотрели бы хорошую кинокартину, пошли в консерваторию…
Но даже и не в вечерах дело, а в утренних высоких часах, бесценных для писателя, когда важно не рассредоточиться, себя не расплескать.
А тут с утренней почтой письма, письма, письма. И что ни письмо, то сигнал бедствия, и надо идти, ехать, доказывать, убеждать.
Или утренние нежданные посетители, и тоже, что ни человек – узел обстоятельств, живой комок «болей, бед и обид».
За поминальным столом Виктор М. (один из тех, чью судьбу Медынский спасал) рассказал, что сейчас у него двое детей: сына он назвал Антоном в честь Антона Шелестова, героя «Чести», а дочь Марией – в честь Марии Никифоровны.
Это и был герой романа, написанного Медынским в соавторстве с жизнью, который можно было бы назвать «Господа удавы».
Они украли в сарае охотничье ружье, находили в лесу оставшиеся с войны автоматы, похищали автомобили, задумывали серьезные дела. Они называли себя «господа удавы», в само это наименование помещая особую «идею»: безжалостности, силы, ледяного расчета.
Удавы.
А «удавам» было по пятнадцати лет, когда часто определяется вся будущая жизнь и юношеская жестокость может отвердеть в ледяные удушающие кольца…
Они были на рубеже расчеловечивания, которое начинается с убеждения: все дозволено, а кончается бездной. И удержать над бездной может лишь Человек. Этим Человеком и стал Медынский (ему написал Виктор М. в минуту сомнений или колебаний).
И вот там, где могла быть бездна, сегодня играют дети – маленькие Антон и Мария.
«Сотворить» из «удава» человека – высшая доблесть. Социальная доблесть.
Рядом с бывшим «господином удавом» сидел – теперь уже сорокалетний – человек, которому Медынский некогда написал одно из самых горьких и гневных писем.
…«С чего начать? Первым чувством было негодование и ужас, негодование на тебя и ужас вообще. Неужели в людях есть что-то неисправимое и безнадежное? Это ужасно! Это подрыв всего, во что я верил, на что я, не жалея, тратил последние стариковские силы. Ведь я старик. Я мог бы тихо получать пенсию и жить для себя, ни о чем не думая. А я вожусь с одним, вторым, третьим. Я выслушиваю сотни клятв, воплей и заверений. А думаешь, это легко? Я до сих пор верил, что делаю нужное и полезное дело. И ты, ты был одной из опор этой веры. Теперь она рушится…»
Он вел его через темный лес, через сыр-бор за руку. Письма, встречи, гостеприимство теплого дома Медынских: Григория Александровича и Марии Никифоровны. Нет, точнее определить – он вел его за руку не по лесу, а по болоту – тот тонул, он вытаскивал, нес на руках… Терял и вытаскивал опять.
А я думал непрестанно: зачем это было нужно Медынскому? Получилось, что последняя четверть века его жизни, когда тело и душа все больше хотят покоя, стали самыми маетными.
…При самой нашей последней встрече в больнице я рассказывал ему о том, что и тогда волновало его больше всего: о борьбе с несправедливостью. Несправедливость – любую – он ненавидел яростно, люто.
Мы говорили долго… А поскольку на столике больничном, рядом, лежала открытая на первых страницах моя книга «Урок», в которой писал я в самом конце, что хочу расстаться с судебными очерками, потому что устал от маеты и обузы, то я и вознамерился объяснить ему мотивы ухода в жанры более «тихие» и «отдохновенные», чтобы не удивился он, читая об этом.
Он перебил меня резко, гневно:
– Стыдитесь!..
И в памяти моей, обжигая, ожили те негодующие строки из письма человеку, который, показалось ему, не оправдал его доверия:
«…это ужасно! Это подрыв всего, во что я верил, на что я, не жалея, тратил последние стариковские силы… Я до сих пор верил, что делаю нужное и полезное дело…»
И я помню, тогда, в больнице, подумал, что это язык подвижника, положившего душу на то, чтобы человек стал лучше, и отчаявшегося на минуту в этом. На минуту. Но на минуту особую, в которую и утрачивается, и возвращается вера в человека.
Общество, наверное, может существовать и без гениальных писателей. Не лучшим образом, недолго – но может (что и бывало иногда в отдельные эпохи). Но без подвижников (а негениальных подвижников нет!) оно существовать не может.
Их во все века было мало.
Они горели на кострах, старились в темницах, но они были.
И они существуют.
Подвижник – фигура особая. Суть ее, наверное, в том, что она не утверждает ценности, она их излучает.
Уходя из жизни, человек оставляет то, в чем был смысл его жизни: научные открытия, собрания сочинений, дома, космодромы, осушенные болота. Он оставляет турбины, кинофильмы, корабли, детские игрушки. Он оставляет и нечто невещественное, но не менее важное: поиски истины, мысли, чувства…
Но, быть может, доблесть наибольшая в том, чтобы оставлять после себя человеческие судьбы, потому что из человеческих судеб рождаются и научные открытия, и турбины, и поиски истины. А судьбы несостоявшиеся – это непосаженные сады, ненаписанные книги, не открытые истины.
Все это (понимаем ли мы всегда?) – неотъемлемая часть того необъятного мира – мира лучшего, что создал человек, и лучшего, что есть в самом человеке, мира, который мы именуем широким и многоплановым словом – культура. В истории человечества были разные типы культур: античности, Возрождения, XVIII века…
Я не ученый, а писатель. И, наверное, потому понимаю наивно: культура, любая, умирает тогда, когда истощается нравственная подпочва, питающая ее, когда иссякают ее этические источники. А источники эти – человеческие сердца.
Культуры умирают, когда останавливаются сердца, в которых жили любовь к истине, к добру, к справедливости; от рисунков бизонов до симфоний Шостаковича и ЭВМ пятого поколения этические силы рождали художественные, и научные, и все остальные ценности.
Медынский делал большую, нужную социальную работу. Это то, что было на виду.
Но он же созидал, созидал культуру, питая собственным сердцем ту подпочву, из которой вырастает все, чем жив человек.
Чем жив человек…
Хоронили Медынского…
За несколько дней до этого Мария Никифоровна, которая ежедневно и ежевечерне (а можно было бы – то ежечасно!) говорила с больницей, поближе к ночи позвонила, беспокоясь.
К телефону подошел дежурный доктор и на молящий ее вопрос: «Что… что… что???» – ответил с ледяной лапидарностью: «Еще дышит». – «Ну, пожалуйста…» – попросила она – не утешительных вестей, ну что поделаешь, если их нет! – а утешающего тепла, хотя бы в интонациях. «Еще дышит», – повторил с нетерпением молодой голос в трубке. «Вы послушайте, – начала она объяснять с той архаической обстоятельностью, которая в ней, в старой учительнице, сохранилась навсегда, – это хороший, добрый старик, мы живем с ним шестьдесят пять лет, у нас сын с войны не вернулся, вы послушайте, – объясняла она, не допуская мысли, что ее не поймут, – когда мы поженились, ему было двадцать, а мне двадцать один…»
Голосу, к которому она обращалась, было это абсолютно неинтересно. «Еще дышит», – повторил он в третий раз уже раздраженно и оборвал разговор, повесил трубку.
Когда Мария Никифоровна наутро рассказала мне об этом, я почувствовал ярость, перехватывающую дыхание, и хотя больницы были тогда наглухо закрыты из-за карантина, решил тотчас же ехать. «Не делайте этого, вы сейчас за себя не отвечаете, – с непостижимой в ее положении рассудительностью попросила она, – Вы пошумите, уедете, а он останется, беспомощный, ему могут отомстить…»
Этой страшной мудрости научила ее жизнь.
Она всю жизнь рядом с мужем была и рядом с ним делала добро, но и этой страшной мудрости жизнь ее научила.
А мне все не давало покоя то бездушие, которое (не ощутимо – он был уже без сознания) коснулось Медынского в последний час жизни, и поскольку бездушие, как и любая несправедливость, выступало в лице определенного человека, мне все хотелось высказать ему то, что я о нем думаю.
За поминальным столом я спросил Марию Никифоровну: «Ну теперь-то мне можно поехать в больницу, у меня ведь записан и день, и час его дежурства, я его найду». – «Сыночек, – посмотрела она на меня с тем „медынским“ выражением, когда не поймешь: смеется или плачет, – не надо мстить, мстить не надо».
Я опустил голову и почему-то подумал, что они родились в XIX веке.
Он вышел из сословия сельского духовенства, в молодости резко порвал с укладом семьи, с религией, изрубил топором икону, кидая вызов небу, стал атеистом. Но атеистом он был особым – страдающим, поэтому, возможно, и назвал последнюю книгу, не опубликованную еще, – «Страдания мысли».
Страдания мысли и страдания сердца – не одно ли и то же, ведь давно замечено мудрецами, что мысли рождаются в сердце.
В XIX веке думали, что если нет бессмертия, то не должно быть и добродетели. Этой мыслью страдали герои Достоевского. Ради чего быть добродетельным, если уйдешь из жизни бесследно?!
В XX столетии мы поняли, что добродетель нужна именно потому, что личного бессмертия нет.
XX век обнажил в человеке и лучшее, и худшее. И ранее небывалую ослепительную человечность, и небывалую ранее жестокость, которую и архизвериной не назовешь, потому что в живом мире в ней изощрился один человек. Первый раз в истории поставлен конечный вопрос, что может быть, если…
Если наступит та степень расчеловеченности, когда человек для человека станет опаснее удава. Потому что удавы, о чем известно биологам, не способны уничтожить удавов как род.
А человек – может…
Но он же может поднять со дна моря корабли, затонувшие две тысячи лет назад, выйти в открытый космос, ощутить, что старинный город утром похож на серую розу, и, постигнув ядерные метаморфозы, объяснить, почему горят звезды.
И он может понять, что жизнь бесценна.
Но и – бесценны человеческая душа и судьба.
И он может, поняв это, ответить на детский вопрос: «Что есть счастие?»
Добродетель – единственно возможная форма бессмертия.
Бессмертия в судьбах, которые мы оставляем.
«Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет уходя».








