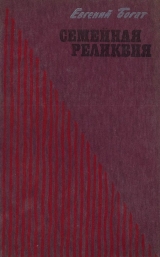
Текст книги "Семейная реликвия"
Автор книги: Евгений Богат
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
И даже узнав, что он сейчас не один – с женой, с сыном, все равно собираются в дорогу. А почему едут? Село Ходорков не Гагры, не Олимпийская деревня с горнолыжной базой и само по себе, зимой тем более и поздней осенью, соблазнить не может. Тут иной, высший соблазн – человек.
Человек: его духовная нерастраченность, его борьба за лучшее в себе в общении с людьми, в которой он долго терпел поражение, а после одержал победу.
Патрушев поздравлял меня с Новым годом, Первым мая, с октябрьскими годовщинами, писал о жене, о сыне, посылал стихи.
Они переехали в новое жилище, появился молодой заботливый доктор, который одновременно и лечил его и был собеседником на том «высоком духовном уровне», к которому Патрушев постоянно стремился.
…Потом было письмо от одной из корреспонденток Владимира Патрушева – Ирины Молоковой.
«Нет с нами больше Владимира Патрушева… Он умер от удушья. У него остались жена и маленький сын, которому третий год. А у товарищей Владимира остались его чудесные духовные и душевные письма. Только у меня их 34. А Володе шел тридцать четвертый год…
Владимир Патрушев любил и умел соединять людей: при его посредстве рождались семьи. Он объединял людей в человечный союз: союз понимания, доверия, деятельного добра».
В том же письме Ирина Молокова написала мне:
«Всех нас, живущих в разных концах страны, объединял Володя. Мы переписывались, иногда встречались в его доме, мы стали как бы членами одной новой неформальной семьи. И мы решили увековечить имя Володи, назвать этим именем наше сообщество».
А через день я получил письмо от Татьяны Ляховой – молодого инженера из города Калинина. Она была одной из первых, кто после выхода книги «Ничто человеческое…» написал Володе Патрушеву; она же, как помнит читатель из письма Володи, известила меня об изменениях в его жизни.
«Сейчас для меня самое важное, – сообщала мне Т. Ляхова, – собрать копии всех сохранившихся Володиных писем, чтобы уберечь и память о нем и богатство его души. Думаю, что когда-нибудь для его сына, маленького Володи, эти письма станут семейным сокровищем, семейной реликвией, а для всех нас, и тех, кто переписывался с ним, и тех, кто читал о нем в Ваших книгах, это будет нравственное социальное сокровище».
Получил я письмо и от неизвестного мне человека Валерия Сугробова (он тоже узнал о В. Патрушеве из книги «Ничто человеческое…» и начал с ним переписываться, тогда он служил в армии, теперь курсант Высшей школы милиции).
«Володя умер… Для нас, для его друзей, это невосполнимая утрата. Он был человеком с огромным добрым сердцем. Сколько энергии, сколько жизни, сколько силы воли было в нем и что для него означало это слово из пяти букв – Жизнь!
…Остались жена и сын. Их горе – это наше горе. Я пишу Вам от имени всех, кому дорог Володя. Его сыну сейчас всего лишь два с половиной года. Настанет время, когда он захочет узнать об отце все, когда это ему будет жизненно необходимо. У Татьяны Ляховой появилось хорошее желание. Он соединял нас всех до конца, теперь пусть наша память, наши мысли и воспоминания соединятся для Володи-маленького. Соберем все его письма, все письма к нему. Сохраним их для его сына, для наших детей».
Потом у меня побывал корреспондент областной житомирской газеты «Комсомольская зорька», который и переписывался с Патрушевыми, и бывал у них часто.
Он рассказал мне о последних неделях жизни Владимира Патрушева. Володя все время писал стихи. Обширная переписка – у него появились корреспонденты во многих городах – и литературный труд заполнили всю его жизнь. Он увлекся античной литературой, древнегреческой мифологией… Самой большой мечтой его было побывать весной в лесу.
Он передвигался по квартире в кресле-коляске и ожидал первых теплых дней, когда можно будет не только на балконе, но и в лесу думать, писать, наслаждаться одиночеством или общением с дорогими людьми.
Жена Володи Валя Патрушева, когда его не стало, написала журналисту:
«Дорогой Юра![9]9
Юрий Борисович, Шуринок – корреспондент житомирской областной комсомольской газеты.
[Закрыть]Вот уже месяц Володи нет. Он совсем рядом, видно из окна. Когда мы с Володей маленьким идем в детсад, мы видим место, где он похоронен.
…Когда в феврале повеяло весной, мне так горько было. Ведь он ждал эту весну. И вот она. Всего четыре недели он до нее не дожил. Когда мы его хоронили, он, казалось мне, улыбался так счастливо, так безмятежно, так легко. Его несли навстречу лесу, навстречу весне…
Хорошо, что у меня есть Володя, сумею ли я воспитать его достойным Володи-отца?
Мы хотели купить машину, я бы сидела за рулем, он бы увидел мир…»
Первое письмо Владимира Патрушева было судьбинным не только потому, что он рассказал в нем откровенно и бесстрашно о себе, а потому, что изменило его судьбу.
Этот, казалось бы, физически беспомощный и духовно одинокий человек был для десятков и сотен людей источником душевных сил, духовной радости. Он ободрял, успокаивал, утешал, он соединял людей, при его участии рождались новые семьи. Он стал могущественным, необходимым.
Хорошая мысль Татьяны Ляховой: собрать, сохранить все его письма, говорит о том ощущении ценности и уникальности человеческой судьбы, которое появилось сегодня у лучших людей нашего времени.
1984 г.
Ниже нуля
Они пили уже сутки…
А может быть, и больше суток. А насколько больше – неизвестно было даже им, потому что череда дней и ночей, когда они пили, укладывалась в десятилетия. И если существует мера, которой можно определить, долго ли они пили, то этой мерой будет человеческая жизнь.
Начинали они нормально, начинали как люди: поженились, народили детей, работали. Точнее, пытались работать, меняли деревни, странствовали, искали, где лучше.
А лучше нигде не могло быть, потому что пили уже по-черному, до полного беспамятства. Их сторонились, даже выпроваживали из сел.
Их сторонились и собственные дети: 17-летняя Людмила уехала в город – учится в техникуме, Надя, семилетняя, жалась обычно в углу, а Николая, едва он под стол ходить перестал, они усаживали за этот самый дурной стол – пить.
Сидел он с ними и сегодня; было ему теперь пятнадцать. Мать сунула ему стакан, он отхлебнул, поморщился. Он и раньше, выпивая с ними, испытывал стыд и страх.
Когда водка кончилась, мать попросила у него деньги, пятерку, на новую бутылку. Он не дал.
Почти с детства Николай урывал деньги у беспамятных родителей, пытаясь сам по-детски разумно и по-детски наивно строить семейный бюджет, чтобы доставало на еду от получки до получки.
Не дал пятерку.
Тогда попросила гостья – соседка, отец в это время уже тяжко задремывал. Николай не выдержал, дал пятерку, пожалел соседку – когда-то она его читать учила.
Опять пили – и мать, и соседка, и разбуженный, повеселевший отец. И Николай тоже опять чуть-чуть выпил через силу.
Потом тошно ему стало. Ему стало тошно, но не потому, что затошнило, а душа будто умирала. Он тихо поднялся, вышел из дома.
По соседству, через два дома, гуляли. Но гуляли легко, весело: не успели устать. Вот уже сутки, может вторые, но не больше трех чествовали там молодоженов. Николай туда и подался, к чужому, легкому веселью. Но с пустыми руками пойти неловко было, не по-людски. И он на самые последние, заветные – из скромного семейного бюджета – купил бутылку водки.
Но пил он там не водку, а вино, которое любил больше, потому что было ему пятнадцать и тянуло к тому, что послаще. Он выпил несколько рюмок. И стало ему совсем тошно, теперь уже не только душевно, и он опять вышел на улицу и только теперь увидел в руках у себя бутылку водки, которую собирался подарить, но, видно, забыл. Он и ее выпил. А почему выпил – не понимал. Потом пошел домой. Больше некуда было ему идти. Вообще Николай учился и жил в соседней деревне, в школе-интернате. И лишь по выходным бывал дома. Он сейчас пошел бы в интернат, но чувствовал – не дойти ему.
И он пошел домой…
Если бы писал я не судебный очерк, а киносценарий, то теперь по законам жанра последовало бы затмение на экране, а потом появился Николай в арестантской одежде – в колонии заключенных.
…Из характеристики на воспитанника воспитательно-трудовой колонии усиленного режима УВД Николая Васильевича Серебнева, рождения 1965 года, осужденного по статьям 103 и 15–102, пункт 3 УК РСФСР[10]10
Статья 103 УК РСФСР карает за умышленное убийство, статья 15–102, пункт 3 – за попытку убийства второго лица.
[Закрыть] к девяти годам заключения:
«Воспитанник Серебнев поступил в колонию 24 апреля 1981 года, был трудоустроен и зачислен в восьмой класс общеобразовательной школы. С 18 мая 1981 года по 3 марта 1982 года Серебнев учился в ГПТУ-15, стал токарем 3-го разряда и работает сейчас токарем. За истекший период зарекомендовал себя только с положительной стороны».
Из письма Николая ко мне:
«Вот вызвали меня и сообщили, что Вы интересуетесь моей жизнью и чтобы я составил рассказ о ней. Да, я хотел сначала отказаться писать, зачем же вам, видным людям в Москве, интересоваться моей жизнью, жизнью отпетого подростка… (с того момента, как я совершил ЭТО, я не вижу себя человеком, а что думают обо мне окружающие, мне неизвестно).
Но вот потом передумал и вот пишу. Расскажу Вам мою жизнь. Родился я в селе О., рос там до 6 лет, но потом перекочевали в соседний район, потому что отец стал выпивать из-за матери. Он любил ее сильно. И вот однажды он поймал ее с чужим человеком там, где она работала. Перед этим она чуть ли не каждый день не бывала дома. Отец спросит ее: „Где была?“, а она ответит: „На работе“. И отец верил. Но потом у него шевельнулось подозрение, и он пошел караулить ее. Мне было тогда уже почти шесть, большой был.
И вот он поймал их, чуть ли не убил того и ее. Но пожалел нас обоих – меня и мою сестру, она на два года старше. Мать умоляла пощадить ее, и он пощадил. Но потом она опять стала пить, и отец не выдержал, сам начал выпивать. Отец все это сам мне рассказывал, когда мне было много, тринадцать лет…»
А почему, собственно, «все это» отец рассказал сыну сам – не потому ли, что в тот момент еще не был утрачен стыд перед детьми за недолжную жизнь? Сын стал единственным существом в мире, перед которым захотелось себя оправдать.
Замечу, что романтические объяснения поведения отнюдь не романтического вообще распространены. Но они тешат недолго, если нет ТОРМОЗОВ. Когда отказывают тормоза, то не нужны уже романтические оправдания (любовь, измена и т. д.), жизнь стремительно идет под уклон. Жизнь напоминает поезд, терпящий крушение, летящий под откос…
Но вернемся к письму:
«Он тогда директором работал, не помню чего, а мать ветеринаром. Было решено переселиться опять. Надеялись, что на новом месте пить будут меньше. Но и на новом месте ничего не уладилось, а стало даже тяжелее, нам дали двадцать четыре часа на выселение…»
…Из характеристики на воспитанника колонии усиленного режима Серебнева:
«Нарушение режима содержания не допускал. За добросовестное отношение к труду и обучению имеет ряд поощрений, начальником колонии 9 апреля 1982 года объявлена благодарность. Объявлена благодарность и 15 июля 1982 года. 28 января 1983 года объявлена новая благодарность…»
…Из письма Николая ко мне:
«И в новом месте было то же самое, и мы опять перекочевали в соседнее село. Но и в нем ничего не изменилось: водка, ссоры отца с матерью. Появилась сестренка в 1973 году. Но и это не повлияло на них. Отец стал работать чабаном, а мать домохозяйкой стала. Но и это ничего не изменило в нашей жизни. Вернется отец с работы усталый, а дома беспорядок, мать пьяная, и, конечно, отец разозлится и побьет ее и уйдет, а потом опять появится нетрезвый.
Конечно, бывали в нашем доме и хорошие, даже замечательные дни, когда они не пьют, обещают детям, что больше не будут, но куда там. Через день или два опять нетрезвые. Тогда я возьму с собой сестренку маленькую и уйду к бабушке, и там мы живем день, или два, или три хорошо, по-человечески, но вот появляется отец или мать и умоляют бабушку отдать нас, обещая при этом, что больше не будут. И бабушка отдает нас, поверя им. Но я убегаю от них, если есть возможность, вместе с маленькой сестренкой. Раньше я, конечно, учился в начальной школе, но так как в нашей деревне больше трех классов не обучают, то начал учиться в восьмилетней школе в соседнем селе. (А старшая сестра чуть повзрослела, убежала в город, в техникум.) А я в соседнем селе жил в интернате, учился я хорошо – до седьмого класса, но потом что-то надломилось во мне, перестал ходить на уроки, все хотелось домой, в нашу деревню, увидеть маленькую сестренку, как она там, не стряслось ли что-нибудь. А возвращаешься домой, они пьяные-пьяные, сестренки дома нету, бегаю, ищу и когда нахожу ее, становится тепло и хорошо на душе, идем к себе домой, когда они спят обое, растопим печь, поставим котелок, поедим, посмеемся и спать. А утром уйду я»[11]11
Я решил ничего не менять в этом письме, и пусть не удивляется читатель небольшим неправильностям.
[Закрыть].
Мальчик, в сущности, мечтал о самом обыкновенном, о самом нормальном, о том, что дается людям, как кажется ребенку, само собой, ДАРОМ, как трава или дождь летом. Он мечтал о естественной ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ жизни: с растопленной печью, с шутками и милым общением.
И этого обыкновеннейшего, само собой разумеющегося в естественной ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ жизни у него не было, то есть бывало изредка, но как исключение.
В стадии распада семьи нормальная жизнь делается исключением. А может быть, он и немножко фантазировал, выдумывая эти маленькие естественные редкие радости, может быть, строил иллюзии. Но эти иллюзии не были пассивными, ОНИ БЫЛИ ФОРМОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕНОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
Он называет родителей «обое». Когда «обое» выключаются (засыпают, тяжко захмелев), начинается нормальное детское существование. Маленький неравный бой за человечность.
«…опять перекочевали в соседнее село».
«…появилась сестренка».
Но уже ничего не могло изменить: ни новое место, ни даже появление ребенка.
Он родился, и он не родился. Он был, и его не было.
Самые страшные строки в этом письме:
«…и побьет ее и уйдет…»
НАСИЛИЕ стало обыденностью, и это – исток трагедии.
…Был директором (чего-то), стал чабаном, то есть хотел убежать.
Но от себя не убежал.
…Из характеристики на воспитанника колонии усиленного режима Николая Серебнева:
«Разрешено дополнительно расходовать заработанные деньги на покупки в ларьке. С 31 января 1983 года переведен на улучшенное содержание. Взаимоотношения с воспитанниками отряда поддерживает хорошие. К родственникам относится доброжелательно. По характеру вежлив, исполнителен, трудолюбив. Он переживает и осуждает себя за совершенное действие».
Из письма Николая ко мне:
«…а утром уйду. Уйду с неспокойной душой, но, конечно, о том несчастии, которое потом на нас обрушилось, я и думать не мог. А с неспокойной душой ухожу, потому что утром-то они трезвые, а днем… Домой хочется! А старшая сестра, я Вам уже об этом писал, тогда уже в городе была. Училась там. И вот когда еще она гостит – у нас самый хороший день в жизни. Все вместе, вся семья, как хорошо было… А потом опять водка.
А ЭТО я совершенно не помню. Вернулся я в тот день со школы-интерната в субботу. Дома мать с сестренкой. И вот где-то в пятом часу вечера заявилась к матери подружка с бутылкой. Вот они и выпили, а мне захотелось уйти. И я им говорю, что пойду в магазин, куплю себе рубашку.
Может, вы думаете: как они мне деньги доверяют?!! Так я отвечу. Я уж давно научился деньги у них тайком забирать, когда они пьяные, ведь этих денег им не только на месяц, на неделю не хватает, все выпивают. Мы с сестрой старшей говорили им, и люди хорошие тоже, нет, они обижаются. Ну что им возразишь – деньги-то их.
Вернулся домой с покупкой, а там уже отец, видно, выпил, задремал уже, и водки не осталось. Мать, конечно, попросила у меня пятерку, я не дал, тогда ее подружка попросила, и я дал. Потом, когда все выпили, потребовал денег отец, я не дал. Побыл немножечко и решил к молодоженам пойти по соседству. Купил бутылку водки.
Потом пошел домой.
Очнулся в каком-то огороде в одних трусах. И опять пошел домой. Дома меня и взяли сотрудники УГРО».
Из материалов судебного дела:
«Николай вернулся домой, выставил из дома родителей, ударил отца. Потом взял обыкновенный кухонный нож, пошел на улицу. В это время из сеней возвращалась мать Николая. Николай нанес ей сильный удар ножом в живот, она упала на диван и через несколько минут умерла…
…Вошел отец Николая с палкой, уклонился от удара и, получив, легкое телесное повреждение, выбил нож из рук сына; Николай убежал из дома…»
Из письма Николая ко мне:
«Нет, меня себе не жалко. И особенно тогда, когда на тебя кто-нибудь покажет пальцем и очень хочется не жить. Вы уж извините, пожалуйста, но я хотел покончить себя самоубийством после этого, но допустили до меня моих родных, отца, тетку, сестру, они убеждали меня жить, что я нужен им, и я остался жить.
Виноват я один, и больше не виноват никто.
Я все время чувствовал и чувствую, что мне чего-то не хватало. И Понял это сейчас, мне не хватало ласки моих родителей.
Но я никого не виню. Ведь какая б она мать ни была, она все-таки мать. Она родила тебя, хотя и не воспитала, показала тебе этот мир, и я надеюсь, Вы меня поймете».
Из заключения судебно-психиатрической экспертизы:
«Отклонений от нормы не найдено, острое ощущение собственной вины, не может понять, как будет жить под бременем непоправимого несчастья».
Темы ветшают, как одежды. Это относится и к публицистике, и к самой жизни, которую литература отображает. Но когда темы ветшают в жизни, ветшают и человеческие судьбы, имеющие к ним непосредственное отношение.
Патетическое заклинание «Пьянство – зло!», возможно, некогда воздействовало на сознание…
Лично я не особенно верю в заклинания, но я верю в потрясения, которые открывают человеческой душе, что она повисла над бездной.
После того как Москва оставила наказание в силе, в судебные инстанции начали поступать письма односельчан с ходатайством об улучшении участи Николая. Писали эти письма из деревни, где без бутылки в гости не ходили.
А ведь можно было ожидать и иного исхода. Можно было ожидать писем, негодующих на мягкость наказания (только девять за ЭТО). Но односельчане, посовещавшись миром, как говорили в старину, написали: «Неужели целых девять за ЭТО?»
Потому что ЭТО было для них чем-то целостным и объемным, с корнями и с ветвями…
Человеческая душа в потрясении видит широко и даже видит то, что в будничном течении дней и фактов затушевано.
Самое убедительное письмо об уменьшении наказания сыну написал отец, которого тот чуть не убил.
В этом письме он отрезвел и увидел трезво, что было в его жизни, что быть могло и что осталось у него.
Написал и умер.
Он умер, оставив жену – в могиле, сына – в тюрьме, маленькую дочь – в интернате для сирот.
Село было потрясено.
Наверное, наивно было бы утверждать, что теперь там будут пить меньше. А может быть, черт побери, и не наивно!
…Из характеристики на воспитанника Серебнева:
«В последнее время учится в 10-м классе на „удовлетворительно“. Администрация колонии ходатайствует перед комиссией по делам несовершеннолетних об оставлении в колонии воспитанника Серебнева до 19 лет[12]12
По существующему положению, лица, достигшие 18 лет, переводятся в колонию для взрослых.
[Закрыть]. Воспитанник Серебнев Николай Васильевич встал на путь исправления и заслуживает условно-досрочного освобождения».
Дети не выбирают родителей, и поэтому нелепо говорить о том, повезло ли Николаю в этом или нет. Но ему повезло в том, что, когда он утратил семью, в его судьбу вошли толковые люди. Это руководители и воспитатели колонии. И это юрист Лидия Михайловна Кравцева.
Именно к ней в Москве, в Прокуратуре РСФСР, легли материалы дела, и исследовала она не «бумаги», а человеческую жизнь и судьбу. Ее работа и старание ее коллег-юристов завершились тем, что Верховный суд РСФСР пересмотрел дело и уменьшил наказание Серебневу с девяти лет до шести.
Это лишь тем, кто не был никогда – ни дня, ни даже часа – в колонии, кажется, что уменьшение с девяти, до шести малосущественно. Будто три года в колонии – как три мимолетности быстро летящей жизни. А там жизнь, увы, не летит, она стоит, и три года как три пуда порой неподъемных.
Я назвал бы воспитателей и руководителей колонии и прокурора Лидию Михайловну Кравцеву ПОНИМАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ.
А понимание, если оно уходит вглубь, берет на себя, по логике вещей, часть вины.
Разумеется, говорить о «комплексе вины» по отношению к воспитателям колонии и московскому юристу – полнейший абсурд.
Лично никто из нас не виноват.
И я ни в чем не виноват. И ты ни в чем не виноват. И он ни в чем не виноват.
Отчего же тогда болит сердце?!
Из моего письма Николаю:
«…теперь о самом существенном: на земле живет человек, которому ты нужен, как никто в мире, – твоя десятилетняя сестра. Она сейчас в интернате для сирот. Мне показалось по твоим письмам, что ты любишь ее не как сестру, а как дочь, хотя ты и ненамного старше ее.
Твою подлинную фамилию я изменил. Боюсь, что на пути твоем будут люди, которые с удовольствием напомнят тебе, что ты содеял, только для того, чтобы почувствовать себя выше и лучше тебя.
Я понял, что ты всю жизнь мечтал об обычной, обыкновенной, естественной человеческой жизни. Но она не дается даром, как трава или дождь летом.
Жизнь иногда начинают с нуля, строят, достраивают.
Это тяжело – нужны большое упорство и большая целеустремленность. Но тебе будет тяжелее, ты начинаешь не с нуля, а с величины минусовой. Ты начинаешь с того, что ниже нуля. И поэтому, чтобы построить жизнь, тебе нужно будет высшее качество – мужество. Это, возможно, удастся тебе, потому что ты уже сейчас умеешь думать не об одном себе. А подлинное мужество рождается из соединения людей с людьми.
И вот еще одна истина, элементарная и трагичная: человечеству нужны были тысячелетия, чтобы выйти из пещеры, а человеку нужен лишь один час для того, чтобы в пещеру вернуться.
Лишь один час.
Со стаканом водки в руке.
Но тебе, буду думать, это уже не угрожает.
Не исключено, что руководители твоей колонии добьются дальнейшего улучшения твоей участи и ты выйдешь на волю раньше.
Но освобождение от наказания не должно означать для тебя освобождение от вины. Освобождение от наказания может даже усилить вину до последней, почти нестерпимой боли. Но я верю, ты отнесешься к этому мужественно, как человек с твердой душой, как настоящий мужчина».
Из письма Николая ко мне:
«А мать я иногда вижу во сне. Живую».
Он видит мать, которая «показала ему этот мир», мир, который повернулся к нему не лучшей стороной. И вот он в этот мир вернется, он вернется в этот мир уже взрослым человеком, чтобы подняться с отметки ниже нуля – «через тернии» – к истинной жизни.
Ах, эта обыкновенная, обычная человеческая жизнь, которую мы забываем ценить, когда она есть, и даже склонны сетовать на ее монотонность и однообразие, и – вдруг! – она, «банальная», становится ценностью, без которой все остальное начинает обессмысливаться.
Я несколько месяцев решал, писать ли мне этот очерк. Писать было тяжело.
И. Бунин начинает один страшный рассказ строками: «Ужасное дело это – дело странное, загадочное, неразрешимое».
О странных, то есть страшных, делах надо писать тоже.
Чтобы жить потом было не страшно.
А жить не страшно – это жить по-человечески.
1983 г.
____________________
После опубликования в «Литературной газете» этого очерка редакция получила много писем от юных читателей, которые хотели бы переписываться с Николаем. Эта переписка завязалась; она помогала и помогает Николаю в его возвращении к нормальной жизни.








