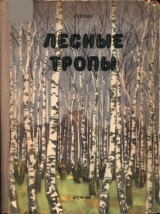
Текст книги "Лесные тропы"
Автор книги: Евгений Дубровский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)

ЗАЯЦ
ПреступлениеГончих собак называли прежде тявкушами. Отыскивая чутьем след зверя, гончая взвизгивает, вздыхает, тявкает. Это совсем особенный го́лос, не похожий на обыкновенный собачий лай. Задыхающийся звук такого тявканья ясно дает понять, что собака кого-то гонит, а не просто брешет.
И я догадался сразу, в чем дело, когда впервые в жизни услышал гон.
Я, двенадцатилетний стрелок, отдыхал на высоком берегу реки. Красным заревом заката освещена напротив меня широкая песчаная отмель. За мной уже темнеет дубовая роща – Дубки. На костерке закипает мой чайник. Я достаю из сумки кружку и вдруг слышу: гон!
Тогда я схватил ружье и в три скачка перемахнул к тропинке, видневшейся между деревьями.
«Нельзя стрелять из-под чужих собак. Что будет? Кто выскочит? Я только взгляну», – смутно неслось у меня в голове.
Гон все ближе. Всхлипывают, стонут, чуть не плачут собачьи голоса, перебивают друг друга, сливаются в странный хор, смутно волнующий сердце.
Вот глухой топот многих лап несется где-то в глубине рощи; вот листья шуршат под осторожными прыжками. На дорожку выскочил заяц, и, забыв все на свете, я выстрелил ему навстречу. Он упал как подкошенный и еще дрыгал задними лапами, когда я бросил его в проломленную стенку стоявшей тут же сараюшки с сеном. Мгновенно вернулся я к костру, налил кружку и сделал вид, будто пью чай.
А из лесу, продолжая голосить, примчались три собаки. На том месте, где упал заяц, собаки разом смолкли, точно проглотили длинные свои языки, пометались туда-сюда и скрылись.
Прибежали трое красных, мокрых, пьяных. Один с бельмом на глазу, горбатый. У него ружье. Они орали, расспрашивали меня, ругались. Горбач совал мне к носу кулаки.
Сердце у меня прыгало, но я твердо держал свою кружку. За что меня бить? Почем мне знать, кто стрелял? Ни зайца, никого не видал. Вот моя добыча: четыре кулика. Сижу и пью чай.
Трем парням накинуться на мальчика неизвестно за что – уж чересчур дико. Побуянили, поругались и ушли. Кривой долго оглядывался и грозил мне кулаком.
А мне что? Даже не стыдно больше за чужого зайца. Так им и надо. Это приказчики из гостиного двора, зубоскалы и насмешники. Пристают к охотникам, покупающим порох или пистоны, издеваются, дразнятся. Теперь с ними в расчете.
На горе́ в городе зажглись огни. Но я дождался полной темноты и окольными путями пробрался домой. Безопасно, но отчасти жаль, что никто не видит, как шагает охотник с зайцем, привешенным на спину за все четыре лапы. Это был русак, весивший тринадцать фунтов с лишком. У него рыжие лапы, толстая бурая спина и длинные серые уши с черными кончиками.
НаказаниеДичь, убитую из-под чужой собаки, счастливый стрелок обязан отдать владельцу собаки, от него получить заряд пороху и дроби – и дело считается конченным.
Этот охотничий обычай я, однако, при первом моем зайце остерегся применить. И правильно: был бы за него избит. Но за свое преступление, очевидно не очень тяжелое, я понес наказание если не жестокое, то продолжительное.
Заяц стал моей страстью навсегда.
В течение десятков лет после происшествия в Дубках я жил во многих городах. Куда бы я ни приехал, первый охотничий вопрос мой везде был:
– А как здесь зайцы?
И я жадно бросался за лопоухой добычей всякими способами. А их немало.
Стрелять зайца на у́зерку – значит, долго бродить по опушкам, высматривая, не видать ли где-нибудь белого пятна на черном поле. Это заяц, побелевший раньше, чем выпал снег, – это беляк. Он к зиме выцветает так, что у него только кончики ушей остаются черными, остальное белоснежно. Этакого издали видно в лесу сквозь безлистые ветви. Беляк выходит на открытые поляны, ищет мест, запорошенных первыми снежинками, и там лежит, сжавшись в комок. Видит ли он плохо, или попросту дремлет, но только ступай твердо, стрелок, не шлепай, не вези ногами по замерзшей земле, не брякни ружьем, держи его начеку – беляк подпустит на выстрел. Пали! Ах, черт возьми, да это не заяц, а ямка со снегом, – много их тут, ямок. Канавки какие-то, палки, камни, разная дрянь. Надуло на них белых хлопьев. Кое-где крупные пятна белеют. Нет, теперь не обманешь. Ружье за плечо, шмыг, шмыг усталыми сапожищами. Вдруг пятно вскакивает и убегает. Опять неудача! Да это не кустик, а очень резвый беляк.
Прошататься так весь день и вернуться домой ни с чем – очень скучно.
Дома смеются:
– Охотник-то опять пустой пришел.
Гораздо хуже то, что на утро несчастная страсть опять шепчет про зайца и снова гонит в черное поле с белыми пятнами.
На жнивье, на палый лист, в рыжих кочках сухого болота ложится русак. Спина у него бурой остается круглый год, к зиме только морда седеет. Этакого далеко видно на белом поле. Тогда русак ищет коричневую подстилку. Иной лежит так крепко, что чуть ли не наступить на себя даст. Как вскочит да задаст стрекача, то видно, кто такой, а то пенек, камень, комок какой-то. Значит, надо внимательно обойти овсяное поле, рыжие кустики можжевельника, безлистый березняк и раздетую дубовую рощу. Тут ведь, тут лопоухие негодяи, только притаились, не видать никак. Ну и бродишь от зари до зари так, что лица, не причастные к делу, с удивлением повторяют:
– Вот мучится человек, – охота пуще неволи.
Лежа в сугробе, подстерегал я зайца, в то время как все благоразумные люди спят. В морозную, ясную, тихую ночь – светло лунное сияние. Мохнатым инеем обвешаны кусты, точно облака застряли на опушке. Дальше в серебряных покрывалах недвижны деревья. До всего этого никакого дела нет зайцам. Они спешат глодать вершины осин, лежащих на земле. Вот роскошь – заячий пир.
Кто-то позаботился – навалил грудой нежные ветви, каких обычно понюхать не приходится лопоухим. Издалека бегут к лакомству голодные грызуны, собираются стаей, шалят, возятся, прыгают друг за другом с веселым писком.
Эй ты, там в сугробе, белый балахон! Стреляй скорей! Невидима твоя засада, сама пришла к тебе твоя дичь! Стреляй да подбирай добычу!
Все так. Но лунный блеск дробится на стволах ружья, смутной тенью мелькает неверная цель, и плохо действуют скрюченные холодом пальцы. На предательской закуске гораздо меньше гибнет беляков, чем можно было бы ожидать.
Русак на лесную приманку почти не идет. Нахал пробирается на гумно хрупать остатки обмолоченных снопов. Русак воровски лезет в сад, где обгрызает кору у яблонь. Иной с осени так прикормится по ночам на капустнике, что остается даже на день спать среди полузамерзших кочерыжек.
Зато русак всегда плотен, толст и часто жирен. Беляк же сложен слабо, мал и худ.
Единственный раз с ночной сидьбы принес я беляка в 10 фунтов, а обычно для белячишки 6 фунтов хороший вес.
Второй сорт заяц беляк.
Русаки в северной полосе редки. Делать нечего. Приходится таскаться за беляками. Лучше плохонький заяц, чем никакого.
Хитрая грамотаНикакой заяц не может скрыть своего следа, но запутать его старается всякий.
Прыгая по снегу, заяц хитрит ужасно. Он возвращается с проложенного им следа и рядом с ним прокладывает другой, иногда третий. Это так называемые «двойки», «тройки». Хитрец переплетает следы. Это петля. Разобрать десяток длинных двоек да три – четыре замысловатые петли – это хоть кого заставит язык высунуть. А тут как раз след исчез. Нет зайца.
Стрелок, неграмотный по-заячьи, осматривается, повесив нос. Как же так? Куда девался заяц? От конца следа до ближайшего куста шагов на десять неприкосновенно чиста снежная белизна. Не улетел же заяц. Все-таки надо посмотреть, нет ли его в кусте. Ах, подлец! Был тут. Вот свежая лёжка, вот взбудный след прыжка, швырнувшего комки снега без всякой осторожности. А дальше опять пошло по-печатному: скок – четыре дырки, скок – еще четыре дырки: две длинных от задних лап впереди, а за ними две коротеньких от передних. Долго шагает стрелок. Снова начинаются двойки, тройки, путаются петли, и опять исчезает след. Вот мучение!.. Опять иди. Будет этому конец? Будет, очень скоро. Короток зимний день. В сумерках уже ничего не видать на снегу. Стрелок уходит домой без зайца.
Заячья грамота очень проста. Охотник, умеющий читать ее не по складам, делает круг там, где много набегано заячьих троп, пересекает одинокий след, идет рядом с ним и смотрит, нет ли в стороне чего-нибудь, куда с закрученной петлей мог бы перемахнуть одним прыжком заяц. Канава, яма, пень груда хвороста, просто снежная куча – все годится для прикрытия зайца. Ага, следа нет, значит, заяц тут. Значит, он, положив за спину длинные уши, лежит хвостом к своему следу и чутко слушает, не идет ли кто за ним. Ничтожный хруст, малейший шорох с той стороны и – шмыг! Заяц мчится во весь дух. Вот и вся мудрость.
Перехитрить мудреца просто. Охотник заходит ему в лоб. Лопоухий дурачок лежит крепко, выскакивает в меру под выстрел. Хлоп и – кончено.
Заячий случайКрупный заяц-русак поселился в углу поля, утыканного корнями капусты.
Пока кочерыжки не одеревянели от мороза, русак грыз их вдоволь и привык ложиться спать тут же, между грудкой земли и полусгнившим кочнем. На лежку заяц забирался задними лапами так, чтобы голова у него оставалась наружу. Чуткие длинные уши его почти всегда стояли торчком. Изредка, впрочем, они поочередно опускались: вот тут, должно быть, он спал. А то лишь дремал, закатив глаза: закрыть их он не мог, не имея век. И пушистую спину его запорошивало снегом.
Однажды на лесной опушке в зайца стреляли. От ужаса и жгучего толчка в спину он перекувыркнулся, но вскочил и убежал, унося в густой бурой шерсти загривка несколько дробинок, не причинивших ему большого вреда. В другой раз, возвращаясь с отдаленной кормежки, он на дороге, в тумане зимнего утра, чуть-чуть не наскочил на двоих пешеходов. Старик закричал, замахал палкой, а мальчишка за ним, за зайцем, побежал и кинул в него шапкой, что очень страшно, но нисколько не больно.
Заяц заметил все – и выстрел, и шапку.
Когда через капустник вереницей пошли такие с ружьями, русак вскочил и покатил к лесу. Поле тем и хорошо, что на нем издали видна опасность, а спрятаться нужно в лесу.
Русак вбежал в засыпанную снегом опушку. Там все оказалось в смятении. Стайка свиристелей, тревожно чиликая, неслась над вершинами. Тетерева, с треском вырываясь из сугроба, один за другим улетали, хлопая крыльями. Зайцы-беляки, мелькая лишь черными глазами и кончиками ушей, торопливо пробирались из глубины леса к полю.
И вдруг в снежной глубине спящего леса что-то загудело, заорало множеством страшных голосов: среди деревьев показались люди. Они кричали, стучали палками. Хотелось бежать от них в тихое поле. Но ведь там эти, с ружьями? Там загремели, резко стуча, выстрелы. Вон кувыркнулся беляк, вот – другой. Тогда опытный русак стремглав понесся прямо на загонщиков. На него кричали, визжали, махали, в него кидали палками, рукавицами, шапками.
А он, зная, что от всего этого ему ничего не будет, удирал, взметывая снежную пыль, в глубину леса.

ЛИСТОПАД
Прежде чем сбросить перед зимним сном свою одежду, пышно раскрашивается, увядая, северный лес.
Ярко рдеют в темной зелени пурпурные кисти рябины. Кисло-горькие ягоды держатся крепко; они провисят долго, в снегу будут висеть, пока не растреплют их крылатые гости.
Прочно зеленеют сосны и ели. Вечно зелены хвойные: они незаметно, исподволь, меняют свои иглы. Ель переодевается заново раз в семь лет.
В бору, во мху болота притаились брусника и клюква. Там невзрачными кустиками торчат вереск, вкусный для рогатых, и багульник, тяжко пахнущий в летний жар. Эти четверо продолжают зеленеть. Они, подобно хвойным, имеют вечно зеленый вид и так же незаметно подменивают свежими свои мелкие листки.
Остальным листьям пришел конец. В ольшняке, в осиннике уже шуршит под ногами бурый ковер, там груды опавших листьев. Откуда, почему? Не было ни морозных утренников, ни очень холодных ночей.
Холода не нужно для гибели листьев. Их губит недостаток влаги. Листья не мерзнут, а сохнут.
В жаркие летние ночи, когда в полном расцвете так роскошно дышит зеленый лес, начинается листопад: чем жарче лето, тем раньше. Листья испаряют воду больше, чем могут им доставить корни своей темной, но вполне понятной работой, и где-то в глубине листвы на внутренних сторонах ветвей начинают морщиться, желтеть и падать наиболее слабые листья.
В северных лесах не слишком редко попадается ясень. Листвою он очень похож на рябину, а плод у него – такая же летучая сережка, как у клена. Могучее крепкое дерево, ясень сбрасывает свои листья зелеными и свежими. Почему? Это одна из многих загадок листопада.
Липа, тополь, ива начинают терять свои листья с нижних ветвей. Ясень, вяз – наоборот, раздеваются сверху. Отчего? Это также неизвестно.
А что, если нашу березу перенести под тропики, как она там себя поведет?
Пробовано: в теплом и влажном воздухе на тучной почве долго и упорно сохраняет береза обычаи родного леса, сбрасывает пожелтевшую листву в то время, как из наших болот к ней, к березе, с криком летят журавли, и одевается береза зеленым пухом, когда от нее, от березы, журавли, радостно крича, несутся в северные болота.
Только после многих лет приучается береза к тому, что снега тут не будет никогда, следовательно, можно не раздеваться, не бросать одежды, а менять листья незаметно, стоять вечно зеленой.
Значит, под роскошным солнцем юга всегда в листьях красуются деревья? Совсем нет. Там дерево от палящих лучей спасает свою жизнь тем же, чем на севере защищается против мороза: листопадом. В Индии, на острове Ява, по пять месяцев в году леса стоят безлистыми. Впрочем, там не редки деревья в полном уборе среди совершенно голых. Эти вечно зеленые заметнее, покрупнее, чем наша клюква или багульник. Стелющийся у нас по земле, почти ползучий кустарник вереск там вымахивает вверх деревцом метра в три вышиной. В Индии очень обыкновенна яблоня-роза. Она четыре раза в год дает сладкие яблоки с привкусом розы, и в то время, как с одной стороны деревца ветви гнутся под тяжестью созревающих плодов, а листья облетели по-осеннему, на другой стороне яблони весна: цветы и молодые листья.
На севере диковинок, бросающихся в глаза, нет. «Лесных дел знатель», однако, найдет и укажет куст, одновременно сбрасывающий лист и заготавливающий новые листья, куст, по имени челибуха. Но не яблоко – плод странного куста, нет, и не розой пахнет плод, а смертью: это из горьких горький орех, дающий страшный яд, стрихнин.
Каждый год на глазах у бесчисленных поколений повторяется листопад, глубоко, остроумно изучается многими давно листопад и – переполнен загадками до сих пор.
Увядший лист – мертвец, бесспорно. В нем нет ничего, кроме распада, кроме веществ смерти. Но даже тление листа благоуханно. В лесу, где нет ни одной яблони, во время листопада вкусно пахнет яблоком. Палый лист ничем не вызывает отвращения и никогда не пахнет плохо.
В лучшем случае, значит, сухой, сморщенный, жесткий, он никому ни на что не нужен, отживший свой век лист? Нет, он необходим. Из листьев, рассыпавшихся в прах, образуется слой перегноя, запас пищи и питья, источник жизни для всех, кто растет на корнях.
Лист обязан вернуть в почву то, что он у нее взял, вытянул, высосал через корни. Он, палый лист, должен осенью сгнить, чтобы в сиянии весеннего солнца молодыми листьями снова зазеленели, зашептались, задышали вечной свежестью когда-то выпитые им, исчезнувшим листом, неразгаданно-темные соки земли.

У ВОДЫ

ПОХОД
Я, сын военного врача, родился в городе Рыбинске.
Семейное предание гласит, что там денщик, выйдя в сени продуть самовар, бросил этим самоваром в волка. Это было давно. Глухо жили тогда в Рыбинске.
Отца моего переводили часто. Куда меня возили, я в точности не знаю. Клин, Белев, Верея, Гороховец, Кинешма, еще какие-то. Названия городишек мелькают у меня в памяти, но я не помню ясно, в каком что происходило.
Да это и все равно. Все северные захолустья одинаковы.
Жили мы всегда на краю городишка. Везде у нас сад, где точно в снегу стоят весной вишни и яблони, поют и суетятся у своих домиков скворцы. А зимой по следам видно, что в сад лазят зайцы. И везде волки. Я их не вижу, но слышу страшные разговоры о волках.
То тетка Варвара, приносящая по утрам сливки, плачет: ярку у нее утащил волк. Что за ярка? Варвара сквозь слезы смеется:
– Вот дурачок! Что ярка, что овца – все одно.
Мне немножко стыдно, что я не знаю такого пустяка, но я рад: все-таки развеселил старуху, – она уже не плачет.
То поросенка волки зарезали. Как это волки режут? Мне интересно это узнать, но я уже остерегаюсь спросить, – надеюсь, что как-нибудь это выяснится.
За прокурором волки гнались! Он ехал в возке и на большой дороге попал в волчью стаю: Прокурор всегда с собакой по городу ходил и везде с собой возил свою собаку. Это самая большая собака, какую я только видел; она была выше меня ростом, полосатая, точно тигр. Эту собаку прокурор выкинул из возка волкам. Тогда волки отстали, а он уехал. Собака пропала.
Меня очень возмущал этот рассказ. Подло так отдать собаку на съедение волкам. И какие звери могут съесть такую собачищу?
Зимой мы катались с горы, начинавшейся под окнами прокурора. Бородач часто присаживался к нам на салазки, катился с горы так, что борода развевалась. Давал нам пряники и конфеты, зазывал всю ватагу, с десяток мальчишек, к себе в дом, показывал картинки, вертел ручку аристона. Тогда были такие шарманки. Нам это очень нравилось, – мы подстерегали прокурора, когда он шел домой.
К сожалению, я с ним поссорился.
Фотография его огромной собаки висела на стене.
– Как вам не жалко было бросить собаку волкам! – сказал я, указывая на собачий портрет. – Это правда, что ее волки съели?
– Правда, съели, – сердито ответил прокурор. – Только ты, значит, негодяй: сплетни собираешь. Пошел вон и больше ко мне не ходи!
Я не понял, в чем провинился. Что я собирал, что такое сплетни? Но очень обиделся.
Произошло это в губернском городе Владимире.
Этот город я помню ясно во всех подробностях: на высокой горе собор, под горой Клязьма извивается по зеленым лугам и уходит в лес.
Городские дома на больших плоских холмах, а между холмами вишневые сады.
Приехали в наш дом мы ночью на колесах, а утром смотрю в окна – кругом и вдали все кусты снегом осыпаны. Это не снег, а вишни цветут.
Под окном два оборванца в гимназических фуражках обломком грязной лопаты поочередно копаются, проводя в канавки снеговую воду. Я очень люблю это делать и так поспешил к новому знакомству, что выскочил из дома с оставшейся от чая плюшкой в руках.
Оборванцы – гимназисты, застарелые второгодники. Они «просидели» уже в приготовительном классе, теперь, кажется, засядут в первом. О своей гимназии они самого низкого мнения. Там все подлецы.
Как жалко! Я еще только мечтаю попасть туда.
Тот, что поменьше, худой и черный, – Митька Делов. Другой, толстый и красный, – Степка Надеждин.
Впрочем, оба ругаются ужасно скверно и, одолжив мне на минутку свою лопатку, по-братски доели мою плюшку.
Они важничают тем, что много старше меня, но все-таки согласны принять меня в свою компанию.
– Пироги у вас пекли? – осведомился Степка.
– Нет, мы только вчера приехали.
– Ну, будут печь. Ты принеси. Мы тебя в экспедицию возьмем.
– Это как в экспедицию?
– Исток реки пойдем исследовать.
– На Клязьму?
– Нет, туда на лодке ездим. По Лыбеди пойдем.
– В калошах?
– Разве путешественники бывают в калошах?
– Тогда вода теплая будет, – объяснил Митька, – без сапог. Реки вброд переходить будем.
Я слушал почтительно, даже со страхом. Вон как! Об этаком походе по воде босиком я еще в первый раз слышу.
Экспедиция выступила.
С не исчезнувшей до сих пор завистью я вынужден признать, что замечательных жуков поймал Митька.
Он, засучив штанишки, весело шлепал по воде почти до колен, нес сачок для ловли, как он объяснял, рыбы и всего, что попадется.
За ним в таком же виде шагал его неизменный спутник, помощник и друг Степка с одностволкой за плечами. К ружьишку зарядов не имелось, и выстрелить, очевидно, было нельзя, но все-таки Степка имел очень гордый вид.
Я шел как подчиненное лицо, с ведерком, но без штанишек на их обычном месте. Мои совсем не были приспособлены к такого рода предприятиям, они так путались, намокали и мешали, что я их снял, свернул и привязал на спину. Совсем тюк с поклажей, как удостоверили опытные путешественники.
Экспедиция направлялась исследовать речонку, обтекавшую город. Она повторялась много раз, но так и не выяснила, куда впадала речонка. Это оказалось к лучшему: осталась возможность предполагать, что по мере приближения к устью речонка вырастает в огромную реку, населенную чуть ли не крокодилами.
Из-за холмов, покрытых вишневыми садами, выглядывал огненный круг солнца. Птичья мелочь, перелетая, перепрыгивая, наперебой распевала в кустах. Речонка, заваленная хламом, пока текла у домов, за городом бежала чистая и прозрачная по крепкому песчаному дну в цветущих берегах.
Какие коромысла неслись над осокой, осыпанной каплями росы! Синие, полосатые, каждое на четырех прозрачных крыльях.
– Цсик-цсик!
Это они крыльями издают такой звук или так кричат?
Бродяги при всех их познаниях объяснить этого не могли, но показывали интересный опыт. Если такому коромыслу, схваченному за крылья, подсунуть обыкновенную муху, то коромысло ее очень скоро и просто проглатывает, выплюнув, впрочем, крылья. Муху рыжую, мясную, или слепня, пристающего к мальчишкам во время купанья, коромысло не ест.
– Почему?
– Ну, глупый вопрос. Не нравится, потому и не ест.
– А коромысло – это муха или жук?
– Нет, это стрекоза.
– Не может быть. Про стрекозу сказано: к муравью ползет она. А коромысло никогда не ползает, оно или покачивается на травинке, или летит и делает крыльями так: цсик-цсик. Стрекозы, должно быть, там, на лугу. Это они сидят в траве и стрекочут.
– Ну как же ты не понимаешь? На лугу кузнечики. Это совсем другое дело. Чепуху все болтаешь. И… и… и… Ах ты, где же лягушата? Выпустил, разиня? Вот тебе!
Подзатыльник дал Степка носителю ведерка.
Я клялся, что никакого недосмотра не было. Но и Митька сухо пригрозил, что меня больше не возьмут ни в какую экспедицию. Зевак и разинь тут не нужно.
Это было так ужасно, что я всплакнул.
Лягушат, вместо двух исчезнувших, поймали трех новых, бледно-зеленых на белой подкладке. Я опять нес ведерко, охраняя прикрывавшую его тряпку всеми силами моего существа.
О, ужас! При остановке заглянул в ведерко, а лягушат там опять нет.
Я уже готовился принять побои, позор изгнания, но в отчаянии осмотрел ведерко и закричал:
– Да я не виноват совсем! Это жуки сожрали лягушат.
Два огромных, черных, рогатых жука величиной с самого крупного черного таракана как ни в чем не бывало ползали по дну ведерка. У одного жука изо рта торчала лягушечья лапа.
Что это за жуки? Жевали они лягушат или глотали целиком?








