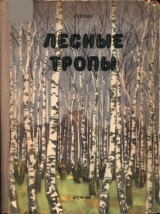
Текст книги "Лесные тропы"
Автор книги: Евгений Дубровский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)

РЫСЬ
Я стоял на тяге в Ямском бору под городом Владимиром на реке Клязьме, недалеко от железнодорожного полотна. Близко пролегала и проезжая дорога. На ней где-то в ясной тишине весеннего вечера медным голосом заливисто болтал колокольчик. Вальдшнепы должны были лететь, и мелкой дробью заряжена была моя одностволка.
Вдруг послышались прыжки, и сквозь ветви безлистого куста показались чьи-то лапы. «Зверь? Какой? Не все ли равно?»
Без дальнейших соображений я выстрелил туда, в лапы. Там кто-то зарычал, зафыркал, зашипел. Это было так страшно, что я убежал.
Когда с заряженным вновь ружьишком я вернулся, то шагах в двадцати от того места, где раньше стоял, я нашел уже мертвую рысь.
Обе передние лапы ее болтались перебитыми, но она все-таки успела отползти порядочно, прежде чем ткнулась мордой в мох. Кошка, большущая кошка в пестрой пятнистой шубе, с коротким, странно торчащим вверх хвостом. Я слазил к ней в рот: у-у, какие зубищи! Брюхо белое мягкое, а на каждом ухе кисточка из черных жестких волос.
Весом своей роскошной добычи я насладился едва ли не чересчур. Часа три тащил рысь на спине за задние лапы, а в руках ружье. Взмок, измучился совершенно.
Но зато при входе в дом был вознагражден вполне. Какие крики, аханья, даже слезы. Этакого зверя убил! Да как приволок? Пуда полтора в зверине будет, не меньше.
– Котенок, – презрительно сказал старик охотник, зашедший по соседству посмотреть на редкого зверя, – видишь, бороды нет. Ты все-таки, паренек, в другой раз поосторожней. Рысь может человека в клочки разорвать.
Очень давно все это произошло, но я помню ясно, как поразило меня завистливое замечание старика. Котенок? Откуда же он взялся? Значит, где-нибудь тут близко другие котята, все их гнездо, старая рысь с бородой?
Года три потом я лазил по всем трущобам окружных лесов, отыскивая логовище рыси, обшарил все овраги, провалы, все глухие уголки леса. И ничего не нашел бы без ворон.
Каркающая стая жадно совалась, лезла куда-то в землю. Что такое? В промоине, в каменистой яме под корнями упавшей ели, устроила свое гнездо рысь. Догадаться о том было просто: задние лапы огромной пестрой кошки валялись около ямы, и над ними хоть плохо, но все же торчал знакомый мне короткий хвост с черным пятном на конце.
Что тут произошло? Загрыз кто-нибудь рысь? Или она, смертельно раненная, приползла к логовищу, и тут ее расклевали вороны?
На всякий случай я пошарил палкой в черной глубине ямы-логовища: ничего, кроме смрада. У лаза в яму слежались гнилые груды каких-то мелких костей и остатки перьев. Кто, куда унес голову и передние лапы рыси, я узнать не сумел и ушел. Вороны тут же принялись доканчивать их добычу.
Хитро прячет рысь свое жилище. Я десятки раз проходил мимо этой промоины и до вороньего пира никогда ничего не замечал.
Очень вредный зверь, свирепый хищник – рысь. Она ест мало, губит много – не доедает рябчика, а ловит зайца, глухаря. Рассказам о том, будто рысь кидается с дерева на лося и загрызает огромного быка, я не верю. В течение трех десятков лет я опросил множество охотников, не видал ли кто если уж не тушу лося, погубленного рысью, то хоть рубцов на затылке у лося от рысьих когтей? Нет, видали многое в лесу, но чтобы рысь кидалась на лося, – нет, такой чепухи никому не случалось видеть.
Когда я разрезал и пощупал кожу на шее у лося, то даже спрашивать насчет рысьих нападений на лосей перестал. Пальца в два толщиной лосиная шкура на шее и чрезвычайно упруга. Не по когтям, не по зубам рыси подобная ткань!
Напрасно также тогда, давно, пугал меня, четырнадцатилетнего стрелка, старый дядя. Не бросается рысь на человека, не станет рвать его в клочья никогда. Конечно, хватать голыми руками не следует даже домашнюю кошку, когда она сердита. Рысь может жестоко исцарапать, укусить страшно, но рысь труслива, удирает от лая ничтожной собачонки.
След рыси кругл. Он отчетливо отпечатывается мягкой лапой. Когти на бегу рысь выпускает редко – от утомления, от страха, со злости; кто ж ее знает отчего.
Если по следу рыси, так ясно видному на рыхлой белизне пороши, пустить мало-мальски голосистую собаку, то злобная, отлично вооруженная кошка леса совершенно глупо спешит вскарабкаться на дерево да еще оттуда шипит, фыркает и корячится на собаку. Тут выстрелом снять рысь совсем пустое дело.
Однажды на облаве, когда я ждал зайца или тетерева близ станции Чудово Московской дороги, в ясный полдень, из мелких кустов на чистое место в десяти шагах от меня по-заячьи наивно выскочила рысь. Это был старый самец с седыми баками, и я убил его наповал опять-таки мелкой дробью.
Не заметил я какой-либо крепости на рану у рыси.
У деревни Кавоши, километрах в пятидесяти от Ораниенбаума, в конце осеннего дня облава подходила к стрелковой линии. Я стоял крайним и уже видел загонщиков, показавшихся в лесу. Значит, нечего больше ждать. Вдруг я заметил, что два зверя быстрыми прыжками перебежали полянку и метнулись к старой, почти сухой сосне, стоявшей одиноко. Я вложил в стволы картечь, подошел к дереву и двумя выстрелами свалил двух рысей.
Странно было, что они, при полной к тому возможности, не убежали в густой лес, вместо того, чтобы на виду у толпы загонщиков скакать на полуголые ветви.
Подобные случаи не только с волком, даже с лисицей невозможны. Золотисто-красная шубка при первом крике загонщиков выходит в сторону из облавы.
Умеет выбрать место для логова, хорошо прячет свой выводок рысь, но ни какой-то особенной хитрости, ни даже простой осторожности в избытке у рыси нет. Кровожадный этот хищник губит много дичи, но для человека не опасен. Рысь надо истреблять, и смело можно идти за ней с первой попавшейся шавкой да с самым плохоньким ружьишком.
Пятимесячного рысенка я держал на коленях. Он приблизительно половину своей жизни провел в зверинце. Это было премилое существо ростом с очень крупного сибирского кота, ласковое, мягкое, как пух, в своей чистой темно-пятнистой шубке. Грызть палец, всунутый ей в рот, Мурка отказывалась, но ела булку, пила молоко, казалась много добродушнее, чем домашняя кошка, посаженная к ней в клетку, чтобы не так скучно было в неволе, и ничем, решительно ничем не выказывала, что она, Мурка, – детеныш свирепого хищника леса.

ПЕСНЯ ЗЕМЛИ
От солнца на землю вместе с теплом и светом всегда летят невидимые, почти неведомые лучи. Обильно освещенные, согретые, постоянно пронизанные этими лучами, ярко цветут, роскошно зеленеют полуденные края земли. На север, закованный в лед, покрытый снегом, эти несущие жизнь лучи в течение ничтожного времени низвергаются потоком. И, сбрасывая свой зимний саван, северная земля, ослепленная, взволнованная, поет.
Огромно прелестную эту песню земли весной исполняет бесчисленный хор странных голосов. Соловей и зяблик, известные мастера на заливистые трели, – среди певцов. Скворец брызнет, фыркнет, свистнет вначале, кукушка выступит в заключение хора. А запевалой является ворона. Эта серая собирательница всякой дряни на такой случай забывает карканье своих грязных будней и, устраивая гнездо, покрикивает ласково, нежно: весенняя ворона булькает, точно кто палочкой стукает по жестянке с водой. Этот слегка смешной звук – первый знак, что пора ручьям бежать из-под снега.
Тогда начинается журчанье вешних вод, и один за другим звучат дикие голоса.
Множество звуков входит в удивительный хор: шипенье, щелканье, чуфыканье, кряканье, даже что-то вроде кваканья. Лягушки урчат протяжно, томно в начавшей теплеть воде.
Аист нем. У долговязой этой птицы нет никакого голоса. Аист только трещит, хлопая длинным красным клювом. Но в весенней песне северной земли он должен хотя бы своей трещоткой принять участие. Зимует аист в земле бушменов, на юге Африки, а детей выводить является в другое полушарие земли. Гнездиться аист летит в Польшу, на Украину и почему-то в Лужский район Ленинградской области. На почве, пресыщенной жаркими лучами, в болотах, не замерзающих никогда, вечно копошится чрезмерно обильный корм для аиста. Но он от изобилия летит туда, где скудная земля таит смутное очарование непреодолимой силы.
Куда улетают на зиму соловьи, где проводят зиму кукушки? Это едва ли когда-нибудь удастся выяснить вполне. Но несомненно, что все пернатые певцы, украшающие своими голосами весенний хор, очень плохие летуны. Как они перебираются через море? Скворцы показывают как. Тысячи мертвых скворцов, длинными вереницами качающихся на мутных волнах, можно увидеть после шквала даже в Финском заливе. А приходится певцам перелетать водяные равнины и пошире. Ждать хорошей погоды для перелета птицы не умеют. Летят как придется.
Понимают, что делают? Быть может, не очень ясно, но понимают. Как не понять, чем угрожает необозримая водная ширь, когда рванет ураган! Самым бедным мозгами головенкам видно, какая беда бывает от хищников, от сетей, ловушек и выстрелов. Боятся всего этого перелетные птицы, а летят, с непостижимой верностью отыскивая свой путь. Нельзя им не лететь. Скворцу сквозь бури и тысячи смертей необходимо перелететь через море для того, чтобы брызнуть песню на каком-то пучке прутьев у ящичка на шесте перед избушкой. Что такое? Неужели не нашлось нигде лучшего помещения? В стране тепла и света, среди роскошных цветов юга, только попискивает соловей, собирая червяков. А когда в темноте и сырости чахлого северного куста усядется соловьиха на гнездо, свитое на нижних ветках у самой грязи, то тут он, соловей, грянет свою великолепную трель.
Случается, что поспешат явиться певцы на таинственный зов северной земли. Прилетели, а есть нечего: нигде ни букашки. Кругом снег, лед, гибелью дышит морозная ночь. Так тут смерть? Назад скорей во все крылья!
Никогда так не бывает. Забиваются бедняги в какие-то тайники, отсиживаются там голодные, холодные, жалобно пищат, но не улетают. Они упорно ждут, они уверены, что получат то, из-за чего́ они сюда стремились: радость иметь гнездо и в нем пискунов птенцов.
Эта радость дается только северной землей. На юге нет бушующих празднеств весны. И чем дальше к северу лежит земля, тем ярче вспышка, тем сильнее звучит песня земли, освобожденной из ледяного плена.
Там, где в упорном сопротивлении лучам солнца долго лежат толстые льдины, там особенно громко поет земля в прозрачном сумраке весенней ночи. Над едва оттаявшей тундрой стон стоит во время прилета птиц.
Так все эти крики и свисты, зычное гоготанье и едва слышный писк, весь этот птичий гам – лишь голоса пернатых, слетевшихся в безлюдную глушь?
Конечно, птицы заметнее всех в весенней песне, но пустыни остаются пустынями в разных поясах земного шара. Поет только земля севера. Тут в великой песне много участников будто бы совсем немых, по-видимому даже неподвижных.
Весна гонит соки растений от корней к вершинам. На севере это движение стремительно. Тут множество хилых трав спешит отцвести, дать семя и увянуть в слишком короткий срок. Они чуть-чуть шелестят, травы, в буйном произрастании, и почки лопаются с едва слышным треском, быстро надуваясь на ветках. Крикливая возня птиц заглушает эти слабые звуки, но их очень много. Не служит ли почти неслышный шепот растений основой весеннего шума? И кто скажет, какие токи бегут, дрожа, в земле, проснувшейся от долгого холодного сна?
А чем-то могущественно привлекает она к себе множество свободных крылатых существ из других краев мира, властно пьянит, дурманит своих пернатых – все для того, чтобы их голосами спеть неисчислимо старую, но вечно юную песню обновленной земли.

БЕЛЬЧОК
Весной, в ту пору, когда березы оделись зеленым пухом, лесник, возвратясь с обхода, вынул из кармана и положил на стол двух маленьких светло-рыжих зверьков.
– Бельчата, – объяснил он детворе, обступившей стол. – Один-то плоховат, озяб, должно быть; ночь очень свежая была, – а другой ничего: веселый.
– А мама их где? – спросила старшая девочка.
– Мамку их куница съела, – сказал лесник. – Я видел только клочья шерсти и кровь около гнезда. Вот сироток и подобрал.
Трехлетний Иван потрогал зверюшку пальцем.
– Они совсем маленькие, даже молока не едят.
Этому горю помогли просто и скоро. Тряпочку свернули соской, обмакнули в подогретое молоко, и один бельчонок принялся жадно сосать. Другой соски не взял, попискивал чуть-чуть и к вечеру перестал дышать.
– Околел, – важно сказал Иван, – хоронить будем.
– Глупости, – заявила старшая, – никто белок не хоронит.
– А куда деваются околелые?
– Не говорят: «околелые». Надо говорить: «мертвые». Папа, куда деваются мертвые белки в лесу?
– Подбирают их волки, лисицы, вороны. Бельчонка снесите к оврагу, бросьте под куст и на другой день посмотрите – ничего там не будет.
Так и сделали. А живой бельчонок, насосавшись молока, сладко спал в корзинке с паклей. Через неделю его потыкали мордочкой в молоко, – он стал пить из блюдечка, а еще через десяток дней он, задрав пушистый хвост, сидел на задних лапах и, держа обеими передними сухарь, грыз его, весело поблескивая черными глазками.
– Бельчок стал рыжим, как наша Лизка, – сказал Никитка, – и уши новые у него растут.
– Это не уши, только кисточки на ушах – поправила Лиза. – Сам ничего не понимаешь, а дразнишься.
Бельчок да Бельчок, – только и слышалось в домике лесника. Забот и хлопот стало много. Строили клетку. Кто же не слыхал, что белка кружится в колесе? А вот попробуй-ка сделать такое колесо, чтобы оно плавно и легко вертелось.
Поспорили, поссорились, поругались, слегка подрались, все-таки смастерили клетку с колесом.
Когда в лесу засвистели иволги и красная земляника выглянула из травы, дети принесли домой пучки стеблей с ягодами, обрызганными росой. Тогда Бельчок перестал пить молоко, а при виде земляники не то пищал, не то свистел:
– Чик-чик-чик!
Клетка его не запиралась никогда, Бельчок прыгал по комнате, по кухне. На кота он очень смешно урчал, помириться с ним не мог, проворно удирал от него на шкаф и там фыркал испуганно и сердито. Собаки он не боялся.
– Орехов ему носите, – говорил лесник, – шишек еловых. Посмотрите, как он с ними распорядится.
Подняв за спиной пышный хвост, Бельчок усаживался с шишкой в передних лапах, щипал и грыз ее так, что от нее клочья летели.
– Сам серый стал Бельчок, точно мышь, а пузо белое. Отчего так? – спросил Ваня.
– Осень настала, – сказал лесник, – и заяц и лиса – все новые шубки надевают. Подожди, придет весна, опять порыжеет твой Бельчок.
Был у серого пушистого зверька очень страшный враг – лесничиха.
– Покоя нет от постреленка, – жаловалась она, – лазит, вертится, прыгает от зари до зари, и все свое: чик-чик. Щиплет, треплет все. Стружки, щепки какие-то, сор везде. Завели забаву, так сами и прибирайте. Верка, Лизка, что ж вы?
Бельчок любил книги. Не то, чтобы он их читал, нет, но он разрывал их на очень мелкие кусочки удивительно быстро. От рукавицы он зачем-то отгрыз палец, чулок разделил на три части и одну из них утащил к себе в гнездо.
Едва стаял снег, Бельчок похудел, стал скучать, спать днем. В серой шкурке его проступили рыжие клочья.
– Пачкает везде. Хоть бы околел, что ли, – ворчала лесничиха. – У меня работы без него много. Вы что же, девчонки, за своей обезьяной не смотрите?
Ни ягоды, ни грибы, ни орехи, ни свежее дыхание летнего леса не поправили дела. Бельчок хирел и вел себя все хуже и хуже. Зазолотились листья, потянулись на юг журавли. Приехал в гости лесник из дальнего квартала.
– Вот что, – тихонько шепнул лесник приятелю, – увези ты нашу белку подальше и выпусти в лес. Может, там отгуляется. А тут подохнет, так слез не обобраться.
– Ладно, – сказал приезжий, – сажай в кошелку; сверху мешком прикрою, никто не увидит.
Телега покатилась. Большой бородатый человек правил лошадью и спокойно курил трубку. Он даже не слушал, как под тряпкой в кошелке кто-то пищал, прыгал, царапал.
А в домике лесника поднялась кутерьма: пропал любимец!
– Бельчок, милый! – слышалось во всех углах домика. – Бельчок, где ты?
Поискали, погоревали, поплакали; решили, что убежал в лес Бельчок, – и скоро позабыли о нем.
В хмурый октябрьский день, когда дождь стучал в стекла, какое-то царапанье послышалось у форточки.
Бельчок, почти серый, вылинявший, веселый, сидел у окна и барабанил лапками.
– Бельчок! Бельчок! – закричали дети.
– Ах ты, жулик, – смеялся лесник, – где два месяца пропадал? Как дорогу нашел, три дня бежал, что ли?
Даже лесничиха улыбнулась, погладила беглеца, вздохнула и сказала:
– Ну что ж, живи, Бельчок; а все-таки, девчонки, убирайте за ним сами.
Но Бельчок прожил недолго. Прежде чем выпал снег, Бельчок опять пропал: его нашли мертвым в складке занавески, где он любил спать.

ВОЛЧЬЯ ЗАВОДЬ
IКуда-то вдаль уходил отрог озера, загибаясь узкой длинной полосой воды в чащу кустов. Из рыбачьей лодки видно было только начало заводи, а в самый конец никак не удавалось заглянуть. Что там, в этой зеленой заросли? Не плавают ли там в тишине лебеди? Не расхаживают ли там осторожные длинноногие журавли? Это они кричат оттуда странными голосами или какие-нибудь другие, необыкновенные, невиданные птицы?
– Ничего там нет, – сердито отплевывался старый рыбак, – утки туда не садятся, рыба не водится. Только волки там пьют.
Ну вот. Значит, так и есть: особенное место.
– А как это волки пьют?
– Обыкновенно. По-собачьи лакают. Да ты нишкни, сиди смирно, егоза. А не то прогоню и в лодку брать не буду.
Сияет в свежей зелени безоблачное утро, блестит озеро. Старик вытаскивает из водной глубины морды – остроконечные продолговатые корзины, – и в брызгах, сверкая чешуей, трепещут по дну лодки крупные рыбы. Вот окуни пучеглазые, горбатые, с красными плавниками, вот лещ золотистый, широкий, как поднос. И щука плещет хвостом, раскрывает зубастую пасть. А в заводи-то что? Вот волков бы посмотреть!
– Незачем нам, паренек, в заводь ехать, – ворчит старик, – брось ты о ней думать. Тут лучше. Смотри, карасей-то что набилось. Наша рыба в тине живет, в грязи, потеплей любит; там ей не с чего жир нагулять: в углу-то вода холодная, чистая, ключи бьют.
– Дедушка, миленький, поедем в заводинку, посмотрим на волков. Они какие?
Рыбаку мои расспросы надоели.
– Мальчишка ты не маленький, – сказал он, – а дурак. Ну, мыслимое ли дело волка летом увидать? Он и осенью-то сквозь голые кусты на глазах у тебя мышью прошмыгнет – не заметишь, а теперь везде лист, трава. Молчи, а не то прогоню!
II– К Долгому озеру в конец с берега попасть знаешь? – спросил я Степку-подпаска.
Он не раз водил меня в пойме по глухим тропинкам, показывал утиные лужи.
– В Волчью-то заводь? – ухмыльнулся Степка. – Как не знать! Тебе туда зачем?
– Мое дело. Сведешь?
– Очень даже просто. С гати, с коровьего гона, тут тебе и ход. Пойдем! Вот сюда полезай, – сказал Степка. – Мое дело показать, а вылезешь ли назад, не знаю. Съедят, того и гляди.
Он указывал на какую-то прогалину между кустами, где виднелась болотистая тропинка, уводившая в чащу. Тут можно пробраться к заводи. Сюда удирают волки, когда за ними тонятся пастухи; тут где-то волчьи гнезда.
– А это что?
Через несколько шагов зияла другая дыра.
– Да то же. Лаз. Их тут много. В какой ни влезь, все там будешь. А вот вылезти оттуда… Смотри, брат!
– Ты сам-то их не видал? Может, врешь?
– Вона. Сколько раз. Он ничего, волк-то, он человека зря не трогает. На него только чуть – он бежать. Ну, к гнезду не лазим, – нельзя, не полагается. Ежели их на гнезде-то тронуть, они такого зададут. Куда, куда ты завязла, козья душа! – закричал Степка.
И побежал выручать из грязи козу.
IIIГустые кусты тянулись вдоль всей гати. Кое-где под нижними ветвями виднелись темные дыры. Вот они, волчьи тропы, отпечатки когтистых лап на грязи у входов. Волки ли наследили? А вдруг просто собаки набегали?
Тут по гати, по протоптанной скотом среди кочек болота дороге, местами кое-как замощенной хворостом, утром в пойму, вечером обратно в деревню тяжко бредет стадо; тут спутаны, сбиты сотни различных следов.
Степка бегал в сторону от гати то за коровой, то за овцой, хлопал кнутом, свистел, орал, подмигивал на заросль.
– Ну как, слазил? Нет? На словах-то боек, а тут, небось, скис. Фью-ю!
Кусты стояли молчаливой зеленой стеной. Посвистывали тонко маленькие кулики, крякали разными голосами утки, глухо стонала выпь, водяной бык. Кряковая утка, взяв клювом за шею каждого утенка, перенесла их с десяток пуховых, зеленых через колдобину и, озабоченно покрякивая, пошла дальше; весь ее выводок, пища́, ковылял за ней. А волки? Никогда их не видать, не слыхать.
Вранье, должно быть.








