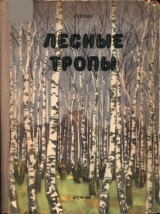
Текст книги "Лесные тропы"
Автор книги: Евгений Дубровский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Скворец сидит на жердочке плотно. Он шипит и свистит.
– Не время ему петь, – говорит мама, – теперь за море скворцы от нас летят. Подожди весны, тогда он споет по-настоящему. Помнишь, как они у скворечника заливаются?
– Куда в него столько лезет? – с притворной досадой ворчу я. – Три десятка крупных червяков съел, и все ему мало. Опять просит.
Скворец трясет головой и раскрывает клюв.
– Ты на свою мерку его не примеривай, – заметил брат, – он не так переваривает пишу, как ты. Тебе, по птичьему расчету, например, обыкновенной колбасы потребовалось бы в сутки аршин шестьдесят. Хороший червяк пудов в семь весом.
– Ты, Федька, все врешь.
– Ничего не вру. Это давно вычислено и в ученых книгах напечатано. Возьми орнитологию…
– Ну ладно! Ты лучше скажи, – чем зимой скворца кормить? Гусениц уже нет, червей втроем не успеваем накопать, тоже пропадают.
– Ничего, с голодухи твой скворец не так разборчив станет, крошек поклюет. Да я потом научу, как приготовить мясной корм.
По совету того же знатока птиц, в кухне поставили ящик с отрубями: завод мучных червей. Их скворушка клевал жадно.
Скворец вылинял. Коричневые пятна на его черных перьях виднелись ярко. Глаза стали блестящие, всегда веселые. Весь он как будто вырос. Купался он постоянно. Как только наполнится его банка свежей водой, он сейчас же в нее засунет нос и – фырк! Только брызги летят.
Мясо и мучные черви поспели вовремя: ударил мороз. Нет больше дождевых червей. Но двух больших и толстых достали при пересадке комнатных цветов. Я принес этих червяков, открыл дверцу клетки, просунул туда руку. На моей ладони шевелились червяки – любимое лакомство. Скворец подскочил, схватил червяка, утащил в угол, съел и вернулся за вторым.
Так скворец в первый раз взял еду из рук. Тогда я принялся учить его говорить.
Уже давно стало заметно, что скворец знает свою кличку. Много предлагали для него имен. Сестренка почему-то прозвала его Кутькой. Так оно и осталось.
Я при входе в комнату, где стояла клетка, всегда говорил:
– Здравствуй, Кутя!
Чистил ли я ему клетку, менял воду, сыпал корм, я спрашивал:
– Как поживаешь, Кутя? Хорошо ли спал, не хочешь ли чего покушать, Кутя?
Скворец, конечно, молчал, но что-то вдолбилось в его носатую головенку. Скоро стало так, что я даже ничего не приносил ему, а все-таки, едва я говорил «Кутя», он вертел головой и вздрагивал крыльями.
– Ну что ты к нему пристал! – с досадой жаловалась мама. – Даже мне надоело. Все Кутя да Кутя. Ведь это не попугай. Оставь его в покое. Видишь, он не желает тебе отвечать.
Но он ответил. Как-то нечаянно я заболтался у клетки, а Кутька видел, что у меня в руке мучные черви. Он перебирал лапами, вертел головой, трепетал крыльями, свистел. Я все не даю. Он принялся долбить носом в дверцу. Она отворилась. Скворец вылетел и закричал что-то вроде:
– Чирр… Фр… Кр… Шка-шка!
Это был почти полный успех. Я, кроме «Кути», часто твердил: «Скворушка! Скворушка!»
Кутька взлетел на шкаф, оттуда шмыг ко мне на руку. А я червяков зажал в кулаке.
Он долбит по пальцам и не то свистит, не то ворчит:
– Фр!.. Шка-шка!
Ну что ж тут делать? Получай свое лакомство, раз научился хоть кое-как полслова выговаривать.
После того ни одной подачки я не приносил без требования разговора. Кутька вполне привык вылетать из клетки – ее больше уже не запирали – и охотно высвистывал все, что мог. Однако, как мы ни бились, дальнейшие успехи в речи шли туго.
При виде лакомой закуски скворец стал бормотать скоро-скоро какое-то шипенье:
– Ссс… фр… Шка-шка!
Это слегка похоже было на «скворушка, скворушка», произнесенное быстрым шепотом. Больше ничего по части разговора достигнуть Кутька не смог.
Но он скоро отличился по-своему. В столовой у нас дверь поскрипывала тонко и трескуче. Мама, сидя у стола за шитьем, услышала знакомый скрип и спросила:
– Кто там?
Никто не ответил, а звук повторился. Мама оглянулась. Дверь закрыта, никого нет. А опять скрипит. Оказалось, что это Кутька развлекается от нечего делать: научился «скрипеть дверью». Ему этот скрип, видимо, понравился, и он очень скоро показал мне свое искусство, скрипел часто без всякого на то приглашения.
Когда небо засинело ясно и населились окрестные скворечники, Кутька громко спел песню весны. Он заливисто свистел, шипел, чмокал, щелкал и так задорно фыркал, как будто нос всунул в воду и пузыри пускает. А нос-то поднят в воздух, раскрыт вовсю и дует песню так, что горлышко дрожит.
По зарям пел Кутька – утром дольше, вечером меньше. Попел дня три и вдруг исчез.
– Сам же ты не запираешь клетку, – смущенно говорила мама, – сам вынес его на террасу. А потом ушел в гимназию. Недосмотрели, вылетел как-то. У нас другие дела есть, не только скворцов караулить. Сам ты виноват, зачем учил его носом отворять дверцу.
Я горестно вышел в сад. В то время я уже изучал разные премудрости, вроде латинского языка, считал себя почти взрослым, но, признаюсь, при воспоминании о скворце мне очень хотелось плакать.
Легко говорить: «поймаешь другого». Где я такого возьму? Почти говорить умел. Как меня знал, как головенкой тряс!
– Кутя! Кутенька! – повторял я, бродя по безлистным аллеям. – Скворушка, милый, где ты?
Вдруг что-то встрепенулось в вершине дерева, и оттуда мне на голову слетела птица. Кто же это, кроме скворушки, мог быть! Я в восторге пришел домой со скворцом на голове.
По комнате зимой я часто так ходил. Кое к кому из тех, кто приносил ему поесть, Кутька изредка садился на плечи. Но все-таки такое возвращение с воли меня поразило. Ай да Кутька! Нет, он привык тут жить, не улетит. Нечего его и запирать в клетку. Пусть живет как хочет.
Случалось, что скворец даже не ночевал дома. Меня это не беспокоило. Куда, зачем он летал, я, конечно, не знал, но на заре я выходил в сад и, посвистывая, звал:
– Кутя, Кутя, скорей сюда! Фью!
С ближайшей яблони летел скворец и прямо к моим рукам. Подавай червяков!
Настали теплые ночи. Полетели, гудя, жуки, запорхали бабочки. К плодам и ягодам поползли гусеницы. Везде для скворца богатая добыча. А у нас по утрам все тот же разговор:
– Кутя, на червячка! Хочешь?
В ответ трепет быстрых крыльев, и маленькое пернатое существо на плече не то бормочет, не то шепчет:
– С… с… с… чш… шка-шка!
В одно несчастное утро никто не отозвался на мой призыв. Напрасно я свистел, кричал на все лады, обегал все аллеи и гряды. Нет Кутьки. Весь день нет, всю ночь. Съела его кошка? Погиб как-нибудь иначе? Не может быть, чтобы улетел. Вот тоска!
Великолепно в саду сияло утро. Роса сверкала на цветах. Точно вымытые, блестели листья. Мне все казалось мрачным: нет милого скворушки, нет, нет!
«Должно быть, и не будет, – решил я на пятое утро его отсутствия, – пропал Кутька».
В полдень шли мы, мама и я, по городскому бульвару, обсаженному липами. На базар шли покупать мне птицу. Вдруг послышался скрип нашей столовой двери.
– Стой, мама! – закричал я, схватив ее за руку. – Кутька здесь! Фью!
– Еще что? Откуда он тут возьмется? Пусти руку, не свисти! Стыдно! Ты уже большой мальчик, иди прилично!
– Да ты слышишь, дверь скрипит? Кутя, Кутя, червяков, Кутя! Фью-ю, сюда скорей, фью! Эй, Кутька!
Из темной листвы вылетела черная птица и уселась мне на плечо.
Ах, бродяга Кутька! Где ты шатался четверо суток, от кого научился так скверно стрекотать и каркать? Около сорок, что ли, летал, ворон слушал? Негодяй!
Ну да ладно. Пойдем домой, любимая моя птичка!
Угостить скворца тут было нечем, но он цепко сидел на моем плече всю дорогу без всякого вознаграждения.
Долгая жизньГоды шли, несли большие перемены.
Я вырос в длинного верзилу. Гимназия давила меня своей ученостью. Как страшные призраки, мелькнули спряжения греческих глаголов, ненавистные логарифмы. От них я бегал на охоту, лазил по болотам за утками, преследовал на отмелях куликов, отыскивал в лесных вырубках тетеревей. Приносил домой связки пернатых с широкими лапами, с длинными носами, с косицами на хвостах. Но мне никогда в голову не приходило выстрелить по скворцам, носившимся тучами над вишневыми садами. Плавает, бегает, летает добыча охотника. Греми, моя двустволка! Дичь идет на кухню. Это совсем другое дело.
В клетке же у нас живет особенное существо, пернатый наш дружок, член семьи. Кутька сидит у себя на жердочке и чистит перья. Мы завтракаем, едим кашу. Это скворцу нисколько не интересно. Он как будто не обращает внимания.
– Катя, – распоряжается мама, – принеси творог!
При этом слове скворец вылетает из клетки, опускается на стол и, прихрамывая, разгуливает между стаканами.
– Ты что ж, Кутька, – говорю я, – пятый год у нас живешь, ни одному слову не выучился. Скажи: скворушка.
Черный блестящий глаз птицы смотрит на меня. Скворец отчетливо понимает, что я обращаюсь к нему, и стоит у моей тарелки.
– Скажи: скворушка, – настаиваю я, – не то не дам творогу.
И я закрываю рукой любимое лакомство скворца.
Кутька нетерпеливо топчется, крылья его вздрагивают, перья топорщатся, и он шипит:
– С… с-с… кр… кр… шка-шка!
– Молодец! Получай творог!
Я отнимаю руку, и Кутька запускает нос в тарелку.
Это повторяется так часто, что присутствующие больше не смеются.
– Как не жалко так мучить птицу? – иногда упрекает мама. – Смотри, все перья у Кутьки взъерошены.
– От чрезмерной любви к творогу, а не от мученья. Будет с тебя, Кутька, пошел домой!
Перья опускаются. Скворец, видя, что больше ничего не дают, летит в клетку, садится на перекладинку, чистит нос и сонно крякает. Значит, сыт.
Пока едят суп или пьют чай, это скворца не касается. Но едва подадут на стол мясо, Кутька уже летит и выпрашивает кусочек. Ватрушку от пирога отличает плут. К пирогу он равнодушен, а к ватрушке – из клетки шмыг! Ватрушка с творогом: тут можно вкусно клюнуть. Впрочем, мелкие сухие крошки он со временем стал чуть-чуть поклевывать, по-видимому, просто так, от нечего делать, среди чрезмерного разнообразия корма.
С возрастом перья у Кутьки приняли глинистый оттенок; на них ярко выступили белые крапинки. Весь он как-то вырос, покрупнел.
Иногда новые гости спрашивали:
– Что это у вас за птица? Неужели скворец? Какой большущий!
Один гость как-то стал рассказывать около клетки, что вот в Москве пришлось быть у зубного врача. Так там скворец замечательный, говорит: «Здравствуй, скворушка».
Вдруг из клетки послышалось:
– С… с… с… кр… кр… шка-шка!
Ай да Кутя, молодчина! Поддержал. Догадался ли он, о чем речь идет, или только поймал знакомое словечко, да и брякнул свое в ответ, но столичным знаменитостям нос утер. Спасибо!
Птицы сменялись у нас часто. Очень недолговечен этот певчий народишко. Кутька перенимал их песни все, иные сразу, иные с большой задержкой. В погожее морозное утро, когда ярким светом блестел в окна свежий снег, вдруг рассы́палась такая звонкая трель, что мама с изумлением подняла голову.
Разве опять канареек завели?
Нет, это наш скворушка почему-то вспомнил желтую птичку, исчезнувшую с год назад, да и грянул ее трескучую песню.
Одну зиму у нас прожил воробей. Клетки у него не было, он спал в складке оконной занавески. Прозвали его Чик-Чик. Прыгал воробей весело, но почти молчал. Так при виде его Кутька всегда чирикал по-воробьиному.
Синицы у нас никогда не держали, но Кутька откуда-то знал ее тонко звенящую песенку и отчетливо изображал:
– Цы-пинь-пень-тарарах!
Иногда он путал их всех в кучу: привычных знакомцев – чижей, снегирей, щеголят, чужую птицу Канарских островов и курицу, сзывающую цыплят.
Свои шумные представления Кутька устраивал только в одиночестве, когда около него никого не было. Конечно, он не подозревал, что за ним подсматривают и подслушивают в щелку. Выглядывал огненный край солнца. Алые тени ползли по белым стволам берез. Вся комната наполнялась розовым светом. Скворец, распушив перья, топтался на жердочке, бил крыльями, надувал горло и кричал всякими, даже непонятными голосами.
Мама, ложившаяся позже всех в доме, выбегала из спальни, кидала на клетку какую-нибудь покрышку и уходила ворча:
– Вот покоя нет. Скандалист! Безобразник, молчи!
В клетке слышится как будто обиженное кряканье, потом молчаливая возня встряхиваемых перьев.
Если мама ловила меня в моей засаде, то упрекала:
– Бесстыдник, тебя женить пора, а ты ни свет ни заря скворцу концерты заказываешь. Спать не даешь!
Бедняжка с досады, впросонках, явно преувеличивала. Мне шел только шестнадцатый год, и, к сожалению, ничего заказать скворцу я не мог. Забавной пискотней из чужих криков Кутька оглушал часто, но собрал ее сам.
Не сговариваясь ни с кем, Кутька раз в год пел и собственное сочинение – песню скворца весной.
Он пел ее одинаково у себя в клетке на жердочке и в безлистных ветвях березы, когда ручьи бежали из-под снега. Пузырилась, брызгала, свистела бесхитростная песенка перед птичьими домиками на деревьях.
Кутька лазил после пения в скворечники. Зачем? Что он там делал, что видел? Почему не остался там жить у вольных скворцов?
Нет, что-то тянуло его вернуться в клетку.
Творог? Может быть.
Иногда Кутька ночевал на дереве, все утро домой не показывался. Но около полдня являлся и, если находил террасу запертой, то стучал клювом в окно столовой. Влетает в форточку и – шмыг на стол! Что подают к завтраку? Кашу? Шмыг в клетку. Баранину? Это другое дело. Не дадут ли кусочек? И пляшет и головенкой трясет попрошайка.
Когда начинали блекнуть травы, а листья на липах золотились, стаи скворцов неслись над садом шумно, со свистом, со стрекочущим криком. Куда летят? За какие моря? Кто погибнет, кто вернется к родимым скворечникам?
Кутька при полете скворцов никакого волнения не проявлял, ни разу не сделал попытки взлететь к стае, даже никогда ей не крикнул. Боялся лететь? Конечно, нет. Не мог домашний скворец ничего знать об опасностях дальних полетов.
А не привязался ли он всеми своими птичьими силенками к странным, чуждым, огромным для него существам, полюбившим его, малую пташку?
Как бы там ни было, творог или любовь, но что-то прочно прикрепило скворца к его всегда открытой тюрьме. Настежь клетка. Лети куда хочешь. А он остался в неволе до конца своей долгой жизни.
– Околеет скоро твой скворец, – сказал брат, недавно окончивший академию, – он весь поседел.
– Ты все врешь, Федька, – повторял я по старой памяти, – хоть ты и доктор, а врешь.
– Смотри, концы перьев у него стали белыми. Старческое исчезновение пигмента.
– Ну, пошел плести. Пигмент! Просто врешь.
Но он был прав. Кутька заметно побелел.
– У него лысина начинается, – неумолимо твердил чересчур внимательный доктор, – на человеческую мерку он прожил лет девяносто. Довольно.
Тоже напрасно возражать. Мелкие перышки на голове у Кутьки выпали, голый череп высунулся остро и жалко.
Я приносил Кутьке творог ежедневно. Скворец клевал его жадно, однако продолжал худеть и терять перья с шеи.
Скворцу шел восьмой год, а мне восемнадцатый.
Я все еще задыхался в гимназии.
– Потрудитесь придавать вашему лицу благочестивое выражение, когда отвечаете урок закона божьего, – сказал мне поп.
– Черт бы вас взял с вашим законом! – выпалил я и убежал.
За мной посол: пожалуйте в карцер.
А, так! На трое суток с гончими закатился я в отдаленные леса. Го, го, собачки! Ату ее! Вертись, рыжий хвост! Ба, бах! Кувыркнулась лисица. Труби победу, медный рог! Когда вернулся, говорят: выгнали из гимназии. Беда! Дома житья не стало.
– Анархист! Негодяй! Лодырь! Ему в университете пора быть, а он со скворцом сидит. Находка тоже: чучело облезлое.
Все правда. Преступник я: батюшку к черту послал. Ужас!
Плохой вид у скворца. Шея стала голой, весь осунулся. А бодро прыгает, смотрит весело.
– Вот творожку Куте принесли. Только скажи, кто ты такой, скворушка?
Черный глаз задорно выглядывает из лысого черепа.
Клюв раскрывается.
– Не дам. Сначала скажи.
– С… с… кр… шка-шка.
– Ну, кушай! Ничего, милый мой, мы еще поговорим.
В девятый раз свою песню весны скворец брызнул великолепно. Булькал, свистел, заливался, фыркал – все как следует быть, что выходило очень жалко при странной его наружности.
И вновь пришла весна. Скворец запел, но вместо свиста у него вырвался какой-то хрип. Бедный старик Кутька свалился с жердочки, попытался встать, всплеснул крыльями, перекувыркнулся на спину. Черные лапы его медленно двигались. На одной все еще виднелся толстый белый рубец от дробины, так удивительно изменившей Кутькину жизнь. Теперь настала смерть.
С тех пор прошло много лет. Давно пора забыть это птичье происшествие, но невозможно. Оно по-прежнему чудно волнует мне сердце.
Я старик. Но когда брызжет весенняя песня скворца, я снова мальчик. Вот широкая отмель реки. Ярко горит над ней красный свет солнца. Бухают выстрелы, эхо ворчит в лесу на другом берегу. На песок валятся черные птички. Я бегу, хватаю маленькое пернатое существо… Это – Кутька.
Он связан со мною неразрывно, надолго, навсегда. О, детство, молодость, лучшая пора жизни! Самые невзгоды тех дней теперь представляются счастьем. Как буйно бились тогда чувства!
И десять лет того времени пустяк? Не может быть.
Не верю, что скворца при мне удерживала любовь только к творогу.

СЛОНЫ ПРИЕХАЛИ
ИндианкаПриехали четыре знатных индианки. Их просторный, особенно прочный вагон не отличался роскошью обстановки: там лежало грудами сено и стояли кадки для воды. В кадки на станциях накачивали воду насосом.
На вокзале множество встречающих, толпы любопытных, усиленный наряд милиции. Не хватает только оркестра.
К сожалению, огромный вагон знатных путешественниц не плотно стал к платформе, а паровоз, чересчур поторопившись, ушел. Двадцатишестилетняя индианка Бэби отказалась выйти из вагона, указывая на пол-аршинный зазор между вагоном и платформой. Это была явная придирка: ей ничего не стоило перешагнуть такую пропасть. Но как быть с капризницей, которая весит сто двадцать пудов?
Ее подруга, более положительная, весящая сто шестьдесят пудов, спокойно вышла из вагона и, когда ее попросили, легко и просто подвинула вплотную вагон с тремя увесистыми спутницами. Стоит упираться из-за пустяков!
Но Бэби продолжала капризничать. Тогда на нее надели цепь, и старшая, благоразумная, вытащила шалунью из вагона.
Вышли и остальные стопудовые индианки, достигшие едва двадцатой весны своей жизни.
Итак, приехали четыре слонихи через Гамбург, через Германию железными дорогами. Они повидали много наших городов, заканчивают артистическое путешествие по СССР. Это обруселые слонихи, но несомненно индийского происхождения.
Нельзя сказать, что по команде, – нет, по просьбе, сказанной очень тихо, они легли и дали закутать себя попонами. Ничего, плотный чехольчик: сбруя ломовика, везущего огромный воз, – детская игрушка перед этими пряжками и ремнями.
Встав, слониха вытягивает, поднимает переднюю ногу, и по толстой ноге, как по бревну, проворно взбирается проводник и удобно усаживается на широком темени между ушами, одетыми в теплые войлочные наушники.
Слоновьи уши очень нежны: не прикрыть, так обмерзнут при первом снеге.
Величественное шествие трогается. Впереди выступает старшая, почти взрослая. Ей сорок пять лет, зовут ее не то по-английски, не то по-немецки, незапоминаемо. Она отвечает за порядок. Она ведет Бэби на цепочке, на всякий случай, чтобы та, резвясь, не нашалила.
Где-то на юге Бэби ушла из цирка и часа четыре гуляла по улицам, пока это ей не надоело. Теперь она идет на «цепочке», довольно прочной. Трое бодрых немцев таскают эту цепь с трудом, но… но ведь это, в сущности, по-слоновьи – нитка. Слону очень просто ее перервать, и тогда что же с ним делать? Побоев, страшных быку или лошади, слон даже не заметит. Его бесполезно бить хотя бы чугунной палкой. Он повинуется слову вожака, понимает его вполне отчетливо. Если слон заупрямится, не слушается, а все-таки надо заставить его что-нибудь сделать, то пускают в ход пол-аршинный стальной крючок, довольно острый: им задевают слона под хобот – и громадина в повиновении.
По улицам слоних провели торжественно. Но при входе в цирк оказалось, что половина ворот засыпана снегом и открыта криво: слону не пройти. Где лопаты? Их нет. Десяток очень крепких парней цепляется за злосчастную створку, тянут изо всех сил, но сугроб держит крепко. Какая ничтожная беготня! Слонихе никто не говорит ни слова. Она, вытянув хобот, сначала осторожно пробует, достаточно ли прочны доски, а затем отворяет ворота настежь, как будто ничто не мешает. Сугроб, смятый в груду, отодвинут весь целиком. Путь свободен.
В глубине слоновьей утробы тихонько журчит огромный звук, точно льют воду из бутылки величиною с бочку: слониха довольна успехом своей работы.
Необыкновенный звук в то же время очень похож на хрюканье, на знакомый голос свиньи, получившей охапку вкусного корма.
Путешественниц ввели в конюшню, где раньше помещалось двенадцать лошадей. Перегородки между стойлами вынуты, и образовался большой с каменными стенами сарай. Четыре слонихи стали в нем не слишком свободно, почти прикасаясь одна к другой и немного не доставая спинами до потолка.
Угощение для них уже приготовлено. Не угодно ли гостьям сена?
Хобот – серая, покрытая поперечными бороздками, жесткая колбаса, толщиною при основании с голень крупного человека, – хобот свертывается кренделем и захватывает сено. Он его берет не более, чем забирает в рот корова.
Скрученное в жгут сено отправляется в рот. Кое-кто из любопытных, проходя через соседнюю конюшню, приносит солому и предлагает ее. Но пучок соломы летит на пол, и слониха пищит обиженно, не то фыркает, не то свистит: угощают этакой дрянью! Тут же в слоновнике стоит большой ящик со свежими сосновыми опилками. Горсть их сыплют в хобот… фф-у-у-у! Слониха шумно выдувает опилки: на себя, не на пол. Опилки ей нравятся. Серая колбаса хобота забирается в ящик с опилками, как-то скрючивается там диковинным кренделем и, подхватив удивительно ловко с полведра опилок, обдает сухим дождем смолистого порошка всю свою огромную серую тушу. Для чистки кожи это подходяще, опилки – это хорошо. И опять довольное хрюканье журчит точно из бочки.
Я предлагаю яблоко. На конце хобота что-то вроде свиного пятачка – розового, подвижного, нюхающего. Около пятачка на конце хобота еще какой-то нежный отросток, с палец длиной, треугольный. Он шарит, щупает, схватывает. Яблоко отправляется в рот, и чудовищное хрюканье бурчит в огромной утробе. Слониха довольна, судя по звуку.
Слоновий глаз не выражает ничего. Он ясен, чист, прозрачен до какой-то необыкновенной, жуткой глубины, но непоколебим, неподвижен каменно.
Хобот живо шнырит пятачком по мне, отыскивает карман, где лежало яблоко, – и треугольный мягкий палец там ищет… Он ничего не найдет, я знаю. А вдруг да слониха на это рассердится?
Я отхожу за стену, и слышится опять не то писк, не то презрительно злобный свист, он ясно выражает недовольство: вот негодяй, дал маленькое яблочко, раздразнил и ушел.
Стеклянный глаз смотрит на меня. Быть может, он зажигается гневом, этот каменный глаз? Нет, он по-прежнему ничего не выражает.
Около слонихи бегали, суетились, кричали, ввинчивали кольца с цепями. Это ДЛЯ публики, ДЛЯ ТОГО чтобы ВИДНО было, ЧТО СЛОНЫ́ привязаны. Для слонов все эти штуки не имеют значения.
Они стояли смирно огромной грудой, изумительные существа, в ожидании, когда их погонят на арену, где они будут кланяться и танцевать. Многим это нравится, а на мой вкус гораздо интереснее рассмотреть слона вот так – совсем близко, всего его ощупать и дать слону обыскать карманы.








