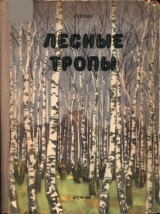
Текст книги "Лесные тропы"
Автор книги: Евгений Дубровский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)

ФЕДЮШКИНА КРЫСА
– Смотри-ка, Федюшка, крыса! – прошептал Васька.
– У вас их много? – спросил Колька. – Большущая, рыжая. Я видел, как под плиту убегла.
Совсем маленькая Оля, готовясь заплакать, пробормотала:
– Я буюсь, буюсь.
– Вона, – спокойно отозвался шестилетний Федюшка, – важное дело. Это моя крыса. Я ее давно кормлю, она меня во как знает. Хотите, покажу? Идите все вон и смотрите потихоньку.
Ребята вышли из кухни и, не притворив плотно дверь, подглядывали в щелку.
Федюшка привязал на нитку кусочек хлеба величиною с мизинец и через всю кухню бросил хлеб к плите, к кипяточному крану, где в полу виднелась дырка. Как только хлеб упал, из дырки высунулась усатая мордочка, понюхала, оглянулась. Крупная рыже-серая крыса вылезла на пол и не торопясь направилась к хлебу. Но он прыгнул. Крыса побежала за ним, хлеб опять прыгнул. Прыгала и крыса – спокойно, не боясь; она привыкла играть в эту игру.
После нескольких скачков крыса схватила хлеб лапами и стала есть, посматривая на Федюшку. Тот держал нитку с видом укротителя тигра. За дверью шептались, смеялись. Там собралась уже толпа.
– Я больше не буюсь, – твердила Оля, – клыса смешная, лызая.
– Ну, мастер! – важно заметил четырнадцатилетний сапожный подмастерье. – Ай да Федюшка, прямо хоть в цирке показывай!
Вдруг распахнулась дверь. Пришла мать Феди. Крыса юркнула в дырку под плиту. Но мать ее видела. И нитка с огрызком хлеба висела в руке Федюшки. Мать сердито поставила на стол тяжелую корзину.
– Ты что ж это, негодяй, этакую погань в кухню приучаешь? Давай-ка нитку, давай ухо. Я тебе такую крысу пропишу!
Федюшка плакал. Крыса не поганая. Она хорошая, умная, давно Федюшку знает. Вылезла вон оттуда и стала выглядывать, а он кинул крошку хлеба. Крыса понюхала, понюхала́ и утащила крошку. Бросил другую, она пришла и за той. Очень это было весело. Когда крыса осмелела, он стал привязывать корочку хлеба на нитку. И крыса прыгала. Кому крыса мешает? Она ходит одна, других не водит, ничего не ворует, приходит только с ним, с Федюшкой, поиграть.
Мамка за ухо потрепала чуть-чуть, даже вовсе простила. А дырку у плиты в тот же день заделали наглухо.
Федюшка, оставшись в кухне один, подходил к новой белой заплате на грязном полу и жалобно говорил:
– Крыска, милая, как мне тебя найти? Я бы тебе хлебца дал.
Иногда под полом слышалось царапанье. Там кто-то грыз и пищал. Потом стало ничего не слыхать. Федюшка поплакал и забыл крысу.
Прошло с неделю.
Во время игры в рюхи на дворе раздался крик:
– Крыса, крыса!
Через двор, вытянувшись и оскалив зубы, во весь мах неслась собака, а перед ней мелькало, прыгало что-то серое, рыжее.
– Стой! – закричал Федюшка на собаку. – Ах ты, псина! – И кинул в собаку палкой. Он не попал, но собака отскочила, крыса исчезла в углу двора среди крапивы и мусора. Собака пометалась, поискала, пофыркала и убежала. Игра в рюхи продолжалась.
– Эй, Федюшка! – закричали мальчишки. – Крысий пастух, ведь это тебя крыса ждет!
Из-за обломков какого-то ящика действительно выглядывала усатая мордочка. Федюшка подбежал к ней. Крыса прыгнула несколько раз и, не убегая, посматривала на мальчика.
– Крыска, милая, – задыхаясь от жалости и любви, от воспоминаний о прежних играх, твердил Федюшка, – где ты теперь живешь? Подожди тут минутку. Я тебе сейчас чего-нибудь принесу.
Он опрометью бросился на кухню, схватил там почти обглоданную куриную ногу, во весь дух прибежал обратно, но крысы уже не было. И он горестно бросил принесенное угощение.

ШАЙКА
Тимка – коричневая собачонка без всякой породы. Фишка – лохматый, черный, как уголь, пес происхождением несомненно от таксы: он на коротких кривых лапах, сам длинный-длинный, да еще хвост длинный-длинный. Урод необыкновенный! Морда у него щучья. Бом – большой серый кот.
Однажды они украли у меня со стола тарелку жареной салаки, то есть тарелку оставили, а рыбу съели. Неприятно, но не удивительно. Затем я свой завтрак поставил на комод. Опять осталась одна тарелка. Тогда баранью косточку я поместил на шкаф, а сам притворился спящим. В дверь просовывается хитрая рожа Фишки, за ним является Тимка. Вертятся, шныряют, ищут: ничего. Фишка поднимает нос и останавливается у шкафа: есть, тут! Топчутся, подскакивают – нет, несмотря на всю длину Фишки, становящегося на дыбы, ничего сделать нельзя. Исчезают.
Слышно, как в кухне они визжат и царапают дверь. Их ругают, – ведь только что, черти, со двора! – но они дружно визжат, как недорезанные; им необходимо выйти, их нельзя не выпустить. Через минуту являются все трое. Как рассказали они этому пушистому плуту о предприятии? Бом, мало того, что несомненно вызван со двора, он осведомлен вполне. Он, не тратя времени ни на какие розыски, уверенно прыгает на комод, оттуда на шкаф, баранья косточка шлепается на пол.
– Вы тут что, негодяи, делаете?!
Вся шайка кидается наутек. Замечательнее всего, что кот большею частью работает бескорыстно: добычу почти всегда едят собаки. Живут они дружно, спят вместе, причем кот помещается на животе собаки – по-видимому, все равно какой.
Иногда устраивается примерная травля. Собаки гоняют кота так, как будто цель их жизни его разорвать, а кот, делая вид, что ужасно боится, кидается куда попало и, сидя на шкафу, то есть, очевидно, в полнейшей безопасности, рычит глухо, угрожающе. Случается, что во время самой бешеной скачки по коридору кот вдруг осаживает, разбежавшиеся собаки на него налетают и… и… не знают, что же с ним делать, а он лупит их мягкими лапами по мордам так, что те воют. Тут кот, выгнув спину и подняв хвост, уходит, что ясно выражает: «Убирайтесь к черту, дураки. Надоели!»

НА ГОЛУБЯТНЕ
Васька Шумов высунулся из бокового оконца голубятни, махнул рукой и тихонько крикнул:
– Тсс!.. Тсс!.. Эй, мальчик, лезь сюда скорей!
Куда? На голубятню?!
Слишком большое счастье, не мог я ему поверить.
Призыв относился, конечно, ко мне. Васька Шумов – помощник Паньки по голубиным делам, другого мальчика тут нет, это все так.
Но не очень давно Панька Ройский, длинный тощий парень, взяв меня за ухо, вывел из голубятни на низкую перед ней крышу и страшным голосом спросил:
– Тебя сюда звали? А? Звали?
Не получив ответа, он дал мне так называемого киселя и прибавил:
– Вот! Нечего здесь болтаться. Пошел вон!
Помня такую обиду, я затем лишь издали посматривал и слушал, как прилетали, улетали голуби и как они глухо ворковали где-то там, под длинной узкой крышей.
Сизые, белые, бурые птицы, как-то радостно, свежо трепеща крыльями, часто слетали к конюшне, где стояли извозчичьи лошади.
Оттуда Панька не мог никого прогнать. Голуби клевали там просыпанный овес, и я тут рассматривал их с утра до вечера: они занимали меня больше всего на свете.
У некоторых воротники из перьев: это плюмажные голуби. У других хохлы на головах, у иных около глаз не то бородавки, не то висюльки какие-то, точно у индюков.
А что голуби делают, когда воркуют там, под крышей? Какие там будочки, домики, сетки, сколько непонятных вещей! Голубка в гнезде сидит. Интересно бы туда еще забраться. А вдруг опять за ухо?
Я колебался; между тем Васька, показавшись у дверей, сердито полугромко прошептал:
– Полезай же, тебе говорят!
Тогда я живо взобрался по приставной лесенке на ту плоскую крышу, где недавно получил пинка, и с нее через две – три ступеньки вошел на чердак, заселенный голубями.
Полутемный узкий проход между корзинами, клетками, ящиками; перекладины, насести, какие-то не то кувшины, не то плошки с водой; странный острый запах, особенная теплота от множества птиц, и в тишине как будто таинственные, глухо воркующие голоса.
Вот белоснежный голубь, крутясь по полу, раскланивается перед лубочным домиком, из которого виден клюв.
– Ты слушай, – точно испуганный, торопливо зашептал Васька, – нечего таращиться, потом все увидишь. Ты слушай. Беги сейчас во весь дух в гимназию, вызови Паньку. Скажи, гимназиста пятого класса Павла Ройского чтобы позвали. Соври… Впрочем, пусть он сам врет, что хочет. Ты ему скажи, что у Щелоковых сейчас выпускать будут. Я видел, вчерашнюю партию готовят. Чтобы скорей бежал. Понял? Беги, пятачок получишь!
Что мне деньги? Вот на голубятню пускали бы.
Пока мы бежали из гимназии, я успел высказать свое заветное желание Павлу Ройскому.
– Ну ладно, – сказал тот, подбегая к лесенке, – влезай! Сиди вот тут в углу и молчи. Если только пикнешь, ухо оторву и выгоню навсегда!
Голубиное сражение началось.
– Сколько у них? – отрывисто, сурово, шепотом спрашивал главнокомандующий. – Васька, ты видел?
– Обе корзины вчерашние открывали, – докладывал Васька, – штук шестнадцать, пожалуй.
– Ну да, как же. Жирно будет с шестнадцати начинать. У летка сколько? Сосчитать не мог? Тетеря! Дай бинокль! Семь пускают. Вася, выдвигай ушастых, кидай всю, всю восьмерку. Так, так! Фью-ю-ю!
Точно десятка два людей в ладоши бьют, – так плещут голубиные крылья. Стайка голубей улетает.
Гимназист пятого класса Павел Ройский кричит непонятные слова, свистит, размахивает кульком на палке. Глаза Паньки восторженно устремлены куда-то вверх. Васька высунулся в оконце под летком так, что в голубятне видны лишь его ноги. Ни тот, ни другой ни на что, кроме летающих голубей, не смотрят. Я из угла ползу к боковому «глазку», выглядываю из него.
Чудесный вид! Стайка белоснежных птиц вереницей кружится в лазурном небе и, сверкая крыльями, поднимается выше и выше.
– Васька, подсыпь! – слышится встревоженный голос Павла. – Вяхирей сыпь, пару, скорей!
Он чем-то недоволен, Панька; он ругается. Мне, кроме сверкающей стаи, не видно ничего. Оглянувшись, я замечаю, что Васьки у среднего оконца нет, и, осмелев, занимаю его место, подтащив под оконце корзину.
Красное с вытаращенными глазами лицо Паньки страшно близко в летке. Он как будто смотрит иногда прямо на оконце, но меня не видит: иначе, конечно, прогнал бы. Около него, также красный, суетится Васька и также видит только голубей. А из окна теперь видно всё, всё.
Над щелоковским садом кружится другая стая голубей, и сверкающие их крылья так же дрожат и мелькают в прозрачной вышине. Это первая стая поднялась над второй или вторая снизилась?
Между ними что-то есть, какая-то связь чувствуется в стремительном полете голубиных стай, и сердце замирает в смутной тревоге.
Панька кричит, свистит, размахивает помелом, стучит его рукояткой. Он смеется радостно.
– Сюда, сюда, эй, сюда пошла! – покрикивает он. – Все сюда! Гули, гули, гулиньки! Фью-ю-ю! Сюда, на пшеничку!
Вдруг смех исчезает с его лица; он опять встревожен.
– Курицу! – орет он. – Васька, Курицу подавай! Они синих бросили. Живей, Васька! Ломай замок.
Оба возятся над корзинкой, и что-то бурое, крупное, резко хлопая крыльями, взвивается над летком и стремительно летит в вышину, где две голубиные стаи почти соединились.
Васька пронзительно свистит.
– Ну, ну, Курочка, миленький! – вопит он жалобным голосом. – Ну, подтяни, поддержи, голубчик!
Курица – это любимый голубь Васьки Шумова, единственная его собственность, предмет особых забот и нежнейших попечений. Курицей он назван за исключительно крупный рост, почти желтые перья и добрый нрав: никогда не дерется. Васька уверяет, что Курица – лучший в свете летун, башка, каких больше нет, и первейший мастер загонять чужие стаи.
Что он там делает в вышине, этот Васькин любимец, как, чем ведет за собой три десятка птиц, собравшихся там в сверкающую вереницу? Бормочет он им что-нибудь на голубином языке или, пробиваясь сквозь воздушные волны, увлекает за собой силой полета, могучим трепетом крыльев? Он ясно виден впереди всех.
Васька хохочет и бьет в ладоши. Стая низит; Курица ведет ее к своей голубятне.
Но у Щелоковых тоже не зевают. Там свистят, кричат, размахивают, оттуда голубей выкидывают пяток за пятком, – богачи, эти Щелоковы!
И точно невидимые нити тянутся от летка к станице голубей, кружащейся в вышине: как только подлетит новая стайка, весь табун, сделав с ней вместе два – три круга, склоняется в сторону ее голубятни.
Голуби так высоко ушли в лазурь, что кажутся роем не то снежных хлопьев, не то каких-то белых мух. Они не могут слышать того, что им кричат и свистят, но охотники продолжают бесноваться у летков голубятен.
Лицо Павла Ройского вдруг искажается ужасом.
– Подлецы! – шипит он злобно. – Васька, смотри, карнауховские вылетели. А?
Васька сам уже увидал новую стайку, стремительными кругами идущую в вышину, и, бросив помело, машет кулаками.
– Это что ж! – кричит он. – Так всякий сумеет уманить. Под самый слет выпускают. Безобразие! Жулье!
Павел мрачен. Также оставив помело, он берет бинокль, оглядывает безграничное синее море воздушного состязания, и, как полководец, решающий участь сражения, кидает в бой последний отряд, он отдает приказ:
– Василий, Полузобого!
Васька сломя голову бежит куда-то в отдаленный конец голубятни. Я в своем оконце замираю от жуткого чувства: я десятки раз слышал, что если уж Полузобый не поможет, то не поможет ничто, тогда провал, крышка.
О, это знаменитый турман, Полузобый! Он не велик, черен как уголь, без единой отметины. Он вырывается из летка с треском, несется пулей ввысь и вдруг кувыркается через голову – раз, два, три, – как будто падает. Нет, он резким броском поднимается, летит, вновь кувыркается и исчезает из глаз.
Он выучен так кувыркаться или чрезмерный избыток сил перевертывает его стремительный полет в критическую минуту состязания? Имеет это какое-то таинственное, быть может, угрожающее значение?
Он как-то действует там, неразличимый в воздушной синеве; он знает свое дело, прославленный Полузобый.
Табун голубей, бурно свистя крыльями, низит, огромным кругом проносится над голубятней. Леток ее открыт, у летка никого нет, поло́к – три широких, новых, чистых доски, сбитых вместе, – выдвинут перед летком и усыпан пшеницей. Панька и Васька хищно притаились под выступом крыши у летка; в руках у них веревки. Голубятня безжизненна.
А на щелоковской из себя выходят двое: кричат, машут, чуть не вываливаясь из голубятни. Напрасно! Они уже не могут поднять решительно снизившийся табун.
Плеск множества крыльев, особенное отрывистое воркованье, похожее на куриное кудахтанье, толкотня, давка, клевки – то голубиная туча спустилась, осела на поло́к. Голуби жадно клюют пшеницу. Васька тянет веревку, полок со всеми крылатыми едоками наклоняется внутрь голубятни, и свои голуби бегут по знакомой дорожке домой, большинство чужих следует за ними, семеня малиновыми лапками. Наиболее чуткие из чужих взлетают, но поздно: леток закрыт сеткой, упавшей от руки Паньки.
– Го-го! Все тут! – гордо орет Ройский Павел. – Шамбарый тут! Карнауховский Пятихвост тут! О-го! Васька, считай, сажай рядовых! Ха-ха! Забирай! Ай да Полузоб!
Владелец Курицы, едва не попавшей в плен, чуть не пляшет, угощая своего любимца, но помалкивает; его герой чуть-чуть не сплоховал.
Тут уже и я осмеливаюсь высунуться из оконца под летком и, размахивая картузом, крикнуть изо всех сил:
– Наша взяла! Ура! Полузобый, ура!
– Верно, – снисходительно посмеивается польщенный главнокомандующий, – против нашего Полузобиньки никто не может. Только ты, братец, не егози чересчур, а то того. Смотри!
Вечером в последних отблесках зари Ройский Павел важно разгуливает у ворот. К нему подходят толстые, бородатые, в ушастых картузах, о чем-то просят, кланяются, называя его, Паньку-то, Павлом Геннадиевичем, а он важничает, задирает нос кверху.
– Насчет голубков? – небрежно, как бы удивляется Панька. – Можно, можно, сейчас сосчитаемся. Эй, мальчик, сбегай к Васе, скажи, чтобы пришел.
Я турманом лечу, чуть ли не кувыркаясь, на голубятню, куда вход я заслужил, и сообщаю там, что пришли выкупать голубей. Они давно сосчитаны, сидят по корзинам, и Вася к воротам приглашается для торжества победителей, для издевательства над побежденными.
– Ну как, Вася, разобрал ты их всех? Сегодня что-то много к нам залетело. Сколько щелоковских, сколько карнауховских, а? Шамбарый тут: трешницу за него. А за Пятихвоста меньше синенькой, сами понимаете, взять нельзя: редкий турман, не всякий такого загонит.
– Уступите, Павел Геннадиевич, дороговато назначаете; раз на раз не приходится. И с вами такое может быть.
– Ну, тогда с нас возьмете. А уж теперь нечего делать. Так, так, верно. Вася, выдай!
Толстые бородатые картузники, заплатив выкуп, уходят с корзинами повесив носы и мрачно ворчат:
– Постой, дай срок, попадешься и ты нам, обдирало. Не денег жаль – обидно. Молокосос! Погоди, и тебя пымаем!
А победитель, важный, гордый, счастливый, шелестит бумажками, позвякивает мелочью в кармане. Он направляется к голубятне и вдруг замечает у приставной лестницы человечка.
– Мальчишка, ты все тут? Ну-ка, получай на пряники за беготню. Лазить сюда ты можешь, но ежели перед голубкой в гнезде маячить будешь, так я тебя опять выгоню. Ты это помни!
Голубятня ни звука, она погружена в темноту, в сон.
А я… помню, сорок лет помню, все помню.

ХРОМОЙ СКВОРЕЦ
Несчастье и пленМне было десять лет, когда ко мне в руки попал скворец.
В том краю, где я тогда жил, много вишневых садов. Мелкие птицы там под осень носятся большими стаями.
Однажды я ловил рыбу у широкой песчаной отмели. Вдруг слышу: бух, бух! Это охотник в кустах выстрелил по пролетавшей над отмелью стае скворцов. Черные птички градом посыпались на песок. Стрелок подобрал свою добычу и ушел.
Я побежал к кустам за хворостом для костра. Вдруг из-под ног у меня выскочил скворец и, взлетывая, подпрыгивая, пустился удирать бегом между листьями лопухов. Я бросился за ним и скоро догнал его. Он перекувыркнулся на спину, пищал, клевался и царапался. Я посадил его в шапку и принес домой.
Там сразу стало видно, что лапа у скворца в крови, крылья целы: он распускал их и складывал свободно. Других повреждений нет. А в лапе, повыше пальцев, застряла дробина, только не очень глубоко. Тогда я подержал скворца так, чтобы он не брыкался, а сестра щипчиками вытащила из лапы дробину. Лапу обмыли, завязали марлей и пустили скворца в клетку. Он забился в угол и затих.
Клетку окутали газетой и поставили на террасу. Случилось все это под вечер. Что делал скворец ночью, неизвестно. Утром я проснулся рано и слышу: свистит. Я скорей на террасу. Смотрю: банка опрокинута, вода разбрызгана, нос у скворца мокрый, на перьях капли. Значит, он пил, а может быть, и купался. Сидит на полу клетки и смотрит весело. Должно быть, будет здоров. А чем его кормить?
Я насыпал на пол клетки крошек от сухаря. Скворец прижался в угол, даже не смотрит на крошки. Подсыпал я конопляного семени. Боится скворец, бьется, трепыхается, когда сквозь прутья клетки сыплются зерна.
Я отошел. Смотрю и думаю, как же мне с ним быть? Вдруг на крошки села муха. Скворец ее хвать! И съел. Вот так ловко. Теперь знаю, что ему нужно. Наловил штук пять мух и бросил в клетку. Не ест их скворец, даже не трогает.
– Ты чудак, – сказал мне старший брат, – не станет скворец мертвую муху есть. Очень нужно ему собирать мушиную падаль!
– Сам ты чудак. Как же дать живую муху скворцу? Руки он пугается, а выпустишь муху, так она улетит.
– А ты крыло у нее оторви или придави ее немножко, да и пусти в клетку.
Попробовали. Не ловит скворец искалеченных мух.
– Червяков принеси, – решил брат, – гусениц каких-нибудь достань или хоть земляных червей накопай.
Ну, этого добра сколько угодно. На капусте я в несколько минут набрал пригоршню мягких зеленоватых гусениц. Скворец в одну минуту расправился с ними начисто: проглотил всех без остатка. Ах, обжоришка! Вот тебе десяток дождевых червей. Скворец подобрал их живо. Наелся и закрякал, очень смешно, как-то тихонько хрипел или сопел. Крыльями хлопает и на одной ноге припрыгивает. Я положил в угол клетки клочок пакли, завесил клетку газетой. Слышно, возится скворец и все крякает. Я испугался: объелся, думаю. Что делать? Смолкло все в клетке. Я заглянул в щелочку: спит мой скворушка на мягкой постельке. Ну, значит, все хорошо.
Однако четверти часа не прошло, как скворец опять свистнул и расплескал всю баночку. Я принес ему из сада двух больших мохнатых гусениц. Он их растрепал в клочья, выклевал из них всю начинку, но косматой их кожи есть не стал.
Вечером скворец попытался вспрыгнуть на жердочку, свалился и ушел спать в угол на паклю. Но следующую ночь он провел уже сидя на перекладинке и подвернув голову под крыло, спал так крепко, что не слыхал, как я за ним подсматривал, хотя газета шуршала. Днем скворец стал часто вскакивать на жердочку. Это не всегда ему удавалось. Вскочить-то вскочит, да не удержится и – кувырк. Ничего, не ушибался.
Перевязку с лапы у него сняли. Он кричал и дрался, но не так сильно, как в тот раз, когда впервые попался в руки.
На месте ранки черная кожа сморщилась; там долго виднелась глубокая красная царапина. Потом она заросла какой-то беловатой пленкой, покрепче, чем остальная кожа. Должно быть, этот нарост не давал лапе сгибаться как следует. Скворушка зажил здоровым и веселым, прыгал хорошо, но, когда шагал по полу, всегда прихрамывал.








