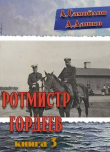Текст книги "Ротмистр"
Автор книги: Евгений Акуленко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
В суконных рядах арендовала лавочку и Евдокия. Праздношатающиеся зеваки да портные мелкого пошиба ее интересовали мало, посему здесь товар не нахваливали и за рукава проходящих не хватали. Ждала Евдокия одного-единственного покупателя. И он пришел. Напротив скучающего продавца остановился низенький толстенький господин с тонюсенькими усиками-стрелочками, несмотря на удушающую июльскую жару, при котелке и чиновничьем мундире. Отер круглую раскрасневшуюся физиономию несвежим платком, промокнул наметившуюся лысинку, нацепил на нос с заметной горбинкой пенсне и принялся мять в пухлых пальцах разложенное на прилавке сукно. Зачем-то поскреб ногтем, понюхал, соизволил рассмотреть волокна через увеличительное стекло, только что еще на зуб не надкусил.
– А что же, братец, – обратился господин к продавцу, – много ли у тебя такого товару?
– Мно-ого, мил человек. Сколь желаете?
Обладатель котелка вопрос оставил без ответа, многозначительно оглядя продавца поверх стекол.
– А откуда суконце-то будет?
– Да здешней выгонки… С кулаковской фабрики…
– Ага, – господин достал записную книжечку и сделал кое-какие пометки. – А как бы мне, братец, с хозяином твоим потолковать?
– С хозяином моим потолковать никак не получится, – сверкнул зубами продавец, – потому как не хозяин у меня, а хозяйка. Свистнул мальчишку: – Ванька! Сыщи Егоровну-т! Да, гляди мне, мигом!
Евдокия себя ждать не заставила. Едва бросив взгляд на господина в мундире, поняла кто перед ней.
– Шпульман, – тот слегка наклонил голову, приподняв котелок, – государственный агент по закупкам.
Евдокия кивнула, назвалась сама и предложила разговор строить в ближайшей ресторации. Агент Шпульман не возражал.
– Имею предложить сукна шинельного до пятнадцати тысяч аршин, – начала Евдокия.
– Ну, что же. Поставка, надо сказать, изрядная. И качеством товар годный вполне… Надежного весьма, среднего качества…
– Отчего ж среднего? – удивилась Евдокия. – Что в нем, дыры? Требования все выдержаны, и по толщине и по ширине. Хороший товар у меня!
– Хороший! – согласился Шпульман. – Я бы сказал, добротный, отменный даже товар!.. Но качеством средний…
Евдокия молчала, разглядывая закупщика. Многие военные чины недоумевали, как-де, находясь в должности весьма скромной, умудрялись интенданты наживать себе сказочные состояния на поставках армии. Вот он сидит, гнойный прыщ. За взятку от купца любое гнилье первым сортом пустит. И здесь норовит урвать, кусок отломить от каравая. Воистину говорят: "Кому война, а кому мать родна!"
– А по сему, вот, – Шпульман выложил бумагу и помусолил ногтем под строчкой, – по семидесяти девяти копеек за аршин. Цена не высока, зато объемы, знаете, неограниченные. И пошлина легчайшая, ибо отечеству плоды трудов ваших назначаются!
– А нельзя ли, – Евдокия сдвинула палец Шпульмана выше, – по восьмидесяти семи копеек, как за надлежащего качества сукно? Как же это, голубчик, солдатам армии российской и не высшего сорта материал?
– А-а! – Шпульман шутливо погрозил Евдокии. – Я вижу, вы женщина очень умная, как говорится, с деловой хваткой… Что же мне делать с вами? – на пухлом лице отразились тягостные раздумья. – Ну, извольте! Правда ваша!.. Только вы уж не обессудьте, – Шпульман перегнулся через стол, – по пяти копеечек за аршин, отблагодарите…
– Ох, ты! Это ж сколь тебе в карман-то перепадет? Семьсот пятьдесят рубликов? Не жирно ли?
– Ну-у, – разочарованно протянул Шпульман, – об чем мы с вами говорим… К вам с душой, со всем расположением… Желаю здравствовать!
– Погодь! Давай хоть по три копейки с аршина. Шпульман вздохнул.
– Дорогая вы моя! Какие у вас годовые объемы? Стоит ли, право, огород городить?
– Двести тыщ аршин на гора выдам. Под договор.
– О-о! – Шпульман поцокал языком. – При таких количествах копейку-другую можно сбросить. А пока – увольте, пятачок и ни-ни! Побойтесь бога, что вам, пятачка жалко?
Выхода у Евдокии не было. Слишком много денег заморожено в товаре, нужна шерсть, новые машины, кредиторы дышат в затылок – делу требуется оборот.
– Черт с тобой! – она пристукнула ладонью по столу. – Пиши купчую!
Шпульман потер руки и расплылся в ухмылке.
– Вот и славненько!..
На то, чтобы свезти сукно на казенные склады потребовалась целая ночь. Днем по городу и пеший пройти мог не вдруг, такая толпища, хоть мылом мылься. Неделю сукно перемеряли, переглядывали нет ли в нем проплешин, мусора или еще каких изъянов. Углядев на каждом куске материи странного вида оттиск в виде палочек и черточек внутри треугольника, немало закупщики удивились и даже выразили опасение, не каббалические ли это, часом, знаки. На что получили разъяснение, что сие просто фирменная марка купчихи Кулаковой, вроде фамильной печатки или вензеля, из себя несуразная, но безвредная. Еще неделю длилась бумажная волокита, да и это еще при условии, что Шпульман прикладывал старание и не давал делу застояться. Только потом Евдокия смогла получить причитающиеся ей средства. В сопровождении Савки и еще двух молодцов явилась она в банк, где клерк отсчитал ровными пачками, без малого, тринадцать тысяч рублей. Ассигнации перекочевали в макарьевскую, хитрого замка, шкатулку, которую несли двое широких в плечах молодцев. На выходе из банка поджидал процессию господин Шпульман, обмахивался от жары котелком.
– Здравствовать желаю, Евдокия Егоровна! Извольте рассчитаться!
– Рассчитаться? – подняла брови Евдокия. – Это вы об чем? Долгов я перед вами не имею, вы, верно, спутали с кем?
– Как же это? – Шпульман поперхнулся воздухом. – А по пяти копеечек-то, забыли?..
– Вот тебе по пяти копеечек! – Евдокия сложила кукиш. – Вша поганая! Видал? Пшел с глаз и не попадайся боле! Савка оттер плечом наглого господина, недобро покосились дюжие молодцы. Шпульман зашипел в спину угрозы, но на этот раз сила была не на его стороне.
– Обмишурила, стерва, – он без сил прислонился к стене. – Кого! Шпульмана обмишурила! Ну, погоди, поторгуешь ты у меня! Попомнишь!..
Евдокия угроз не опасалась. Пройдет лето, встанут у порога холода, оторвут сукно с руками, знай, выгонять успевай. С большими объемами плевать она хотела на милость какого-то там интенданта. Деньги, они как санки. Сперва ты их в горку, а потом они с горки тебя.
– Пошли, ребята! – велела Евдокия, отворив дверь банка носком сапога.
Савке не спалось. Раньше такое с ним случалось редко, засыпал без ног, едва касаясь щекой подушки. Раньше… Когда дни шли неторопливой и размеренной поступью владимирского тяжеловоза, а не мелись сбивчивой иноходью, не пестрили в глазах. Савка приладил поудобнее ноющую руку, в который раз попробовал призвать мысли, что с завидным упорством уносились за деревянную перегородку, туда, где расхаживала, поскрипывая половицами, Евдокия. Только вздохи за загривок не схватишь. Гадал Савка, приворожила его хозяйка к себе, или так, без колдовства обошлось. Вот уж год скоро, как он при Евдокии состоит, а что она за человек, спроси, и не скажет. Поди разбери, где у нее напускное, а где настоящее. Живет нелюдимкой, к себе никого не подпускает ни на шаг, ни детей у нее, ни мужа, ни подружек. Вот давеча, уж в который раз, приезжал посыльный от Слащевского, сиятельного, его в душу, графа. Савка скривился, будто от изжоги, и перевернулся на другой бок. Горничная сказывала, прислал граф цветов букет, а внутри надушенная записочка, мол, не соблаговолите ли вы, любезная Евдокия Егоровна, на охоту. Куда там!
Отстрочит хозяйка ответ, а хоть на словах передать велит, что через ее занятость сверхмерную хозяйственными делами и к не меньшему ее же прискорбию, быть она не может. Сидеть станет в келье своей, газеты читать и книжки, коих из Москвы выписывает больше, чем городская библиотека. Вот поглядишь – строгая. Когда приказчиков нерадивых начнет распекать, тем хоть прячься: руки в боки, ножками притопывает, от ору лошади шарахаются. А приглядишься, в глазах у нее чертики пляшут, будто понарошку злится. Савке не раз тоже доставалось, но все больше на людях, для виду. Наедине же Евдокия на него и не прикрикнет никогда, лишь уголок рта покривит в излюбленной манере своей да взглянет, как теплым молоком обдаст. На его месте другой бы, кто порасторопнее, давно бы хозяйку в оборот взял, а не вздыхал по углам, как бурсач по поповой дочке. Хотя, такую, пожалуй, возьмешь!.. Савка помнил, с чего начинала Евдокия в Антоновке, с трех колов и с двух жердей. А теперь, поди, лезет в первые нижегородские суконщики. И просто деловой хваткой да бабьей сметливостью тут не вдруг обойдешься, тут крепкий расчет нужен и ума палата. А взять немчуру этого, Пепку, в рот ему кочерыжку. Ведь двух недель не прошло, как стала балакать с ним Евдокия по-иностранному. И не просто слово через слово, а сыплет, как горох. Где, спрашивается, навострилась? Савка поморщился. С немцем было связано еще одно воспоминание, неприятное до крайности…
Шел Савка как-то по фабричному двору, да увидал, как отчитывает Пепка за что-то провинившегося работника. Ладно бы просто слюной брызгал, а то же взял моду, морда, палкой своей замахиваться. И раз, и два оходил дядю по чем попало, а тот стоит, терпит, только локтями и закрывается. Савке-то раньше с немцем схлестываться не приходилось, но от такого дела отвернуться он не мог. Еще не забыл, как сам ходил в работниках, и чтобы не хозяйка, и по сей день бы гнул спину за гроши. Вскипел Савка. "Ишь ты, жаба! – думает, – По какому такому праву?!" Трость у Пепки вырвал, через забор зашвырнул.
– Коли виноват работник, так шраф наложи. Али другого найми порасторопнее. А руки распускать не моги!..
Немец покраснел, ногами затопал и Савку за грудки хватать:
– Шволочь! Швайне! Запорю!..
Пепка длинный, жилистый, как клещ вцепился, рубаху порвал… Новую… Ну, Савка его в ухо-то и приложил, легонько, только чтобы отстал. Немец как стоял, так оземь и грянулся. Да больше уж в драку не лез. День ходил за щеку держась, ухо набухло у него, красным сделалось. "Хозяйке нажалуется, – Савка думал, – Ну, и пусть! Все равно правда моя!" Но вышло иначе.
Евдокии Пепка, конечно, картину живописал в красках, потребовал расправы. Но та, выслушав, приговорила слово в слово то же, что и Савка. Дескать, если негодный работник, так уволь, а драться не смей! А уж коли наказывать, так вас обоих, поскольку оба отличились. Пепку такая першпектива привлекала мало, затаил он на Савку злобу. С черным сердцем ходил, козни разные выстраивал, и нечего лучше не придумал, как подбить Гришку-рябого, что в подмастерьях числился, на недоброе дело. Гришка-то в цеху все время околачивался, улучил он момент, когда Савка мимо проходил по каким-то своим делам, да и толкнул его в спину прямо на трепальную машину. Не устоял Савка на ногах, повалился на валы с острыми зубьями, что шерсть раздирают. Замотало ему руку по плечо, изломало, искрутило страшно. Не своим голосом Савка закричал и чувств лишился. Освободить его из железных челюстей тоже не вдруг получилось, крепко зажало руку, ни взад, ни вперед, хоть пилой пили. Пока ломали машину, на пол целая лужища крови натекла. Евдокия прибежала, глянула – в лице переменилась.
– В дом его! – велела. – И доктора привезите кто-нибудь!..
Пепка с Гришкой-рябым вслед за хозяйкой толклись, бубнили в голос, что, сам Савка оскользнулся и подвердить это всякий может. Мели, что пьяный он, но уж не слушали. Доктор, едва увидав покалеченную конечность, решительно изрек:
– Руку надлежит отнять!
Савка лежал на подушках бледный, как полотно, и на месиво костей, рваных тканей и рукава в запекшейся корке старался не смотреть. Его била мелкая дрожь, по щекам катились слезы. Евдокия бросила на Савку взгляд, полный жалости, отвела доктора в сторонку, что-то принялась вполголоса втолковывать.
– Как вы можете?! – тот негодующе высвободился. – Здесь никакие деньги не властны! Сепсис, гангрена, смерть! Нет выбора, вы понимаете? Только ампутация! – доктор помолчал. – Жаль парня… Молод еще. Да ничего не попишешь…
Евдокия снова принялась что-то нашептывать. Доктор хмурился.
– Не понимаю! Кроме лишних страданий это ничего не принесет!.. У него есть родные? Нет? Не знаю, не знаю… Боюсь, вы не вправе принимать подобные решения… Вы осознаете ответственность?.. Да черт побери! – доктор вспылил. – Как хотите! Сам не знаю, зачем иду у вас в поводу… Ждем сутки, если не будет улучшений… А! О чем я говорю?.. Завтра парня ко мне в клинику. Привозите сами. Все!
Он махнул рукой, и, не простившись, вышел. Евдокия хлопнула в ладоши, призывая столпившуюся в сенях прислугу.
– Гипсовый порошок, бинты, спирт, живо!.. Теплой воды два ведра, чистые полотенца! Две дюжины восковых свечей! И плотника позвать ко мне!
Немало удивляясь и перешептываясь, доставили все нужное. Стачал дубовые дощечки плотник, гладко справил, без единого заусенца, все точно в размер, как хозяйка и требовала.
– Все вон! – велела Евдокия. – Никого ко мне не пускать и не тревожить, пока сама не выйду!
Окно она зашторила наглухо, дверь заперла на засов, кругом свечей наставила зажженных. Савка очнулся, понять не может, где он.
– Господи, – прошептал, – нешто в церкви я? Нешто отпевают меня? – тут хозяйку над собой узрел в одной исподней сорочке, простоволосую. – Ты что со мной творить удумала, ведьма?
Та по голове погладила его.
– Не бойся, Савушка, – отвечает. – Я тебя полечу. Только ты не гляди сюда!
– Как же ты полечишь меня, коли доктор приговорил руку рубить?
– Мне муженек-калека не нужен! – подмигнула Евдокия. – Еще поносишь меня в охапке! Али боишься ведьму брать?
Савка не ответил, в сторону отвернулся, слезы пряча. Опустилась Евдокия на колени рядом, отстригла ножницами изорванный рукав, веревочку с раздробленного предплечья, что кровь сдерживала, размотала, все лоскуты да волокна из ран выбрала до одного. После стала руку покалеченную обмывать водой из ковшика. Прямо на перину лила, на пол, о том не заботясь нимало.
– Что ты чувствуешь? – спрашивает.
– Чую, как ты мне кости крутишь… Ох… Составляешь друг с другом…
– А больно ли тебе?
– Не больно, – Савка облизнул пересохшие губы. – Только пальцы у тебя очень уж горячие… Жгучие…
– Потерпи Савушка, покрепись!..
Савка временами проваливался в тяжелое забытье, приходили ему бредовые видения. Евдокия бормотала что-то непонятное, не иначе заклинания, и голос ее держал на границе сознания, будто на водной глади, не давая погрузиться в черный омут. Сколько времени так продолжалось, Савка не знал, а только когда позвала Евдокия, похлопала по щеке, за окошком уже серело.
– Эй, друг любезный, просыпайся!..
Савка заморгал, собираясь с мыслями. Покалеченная рука его покоилась рядом на мокрой подушке, загипсованная вся от плеча до костяшек пальцев. Под бинтами угадывались подложенные лубки. В комнате царил беспорядок страшенный. Повсюду свечные огарки, в восковые блины оплывшие, кругом обрывки бинтов в лужах воды валяются, какие-то тряпки скомканные, постель перепачкана в крови и застывшем гипсе. Тут будто целую ночь ведьмы шабаш правили. Впрочем, примерно так оно и было. Евдокия выглядела под стать: волосы всклокочены, сорочка в кровяных пятнах, сама бледная, как смерть, под глазами черные круги. Улыбнулась:
– Жив будешь. Коли не помрешь!..
На следующий день приехал доктор, не утерпел. Да не один, с молодым коллегой. Видать, боялся в одиночку не убедить купчиху. А может статься, понятого привел, чтобы засвидетельствовать, так сказать, противодействие медицине, приведшее, не дай Бог, к летальному случаю. Однако напротив, больной пребывал уж если не добром здравии, то в весьма бодром расположении духа. Как раз окончив обедать, полусидя на кровати, Савка хряпал кости, выгрызая, по наставлению Евдокии, мозг. Подле стояла выхлебанная дотла плошка мясной похлебки. Обстоятельство сие повергло доктора в крайнее изумление. Он нацепил на нос пенсне и пустился весьма бурно обрисовывать коллеге вчерашнее состояние пациента, щедро пересыпая речь латынью. После оба взялись Савку осматривать, щупали поочередно пульс, заглядывали в рот и в зрачки. Не обошли вниманием неумело наложенную повязку.
– Кто же, позвольте узнать, вам так наляпал гипс?
– Да я и наляпала! – в дверях показалась Евдокия, в привычном своем одеянии, строгая, властная.
– А где, позвольте осведомиться, вы обучались?…
– Да нигде! – перебила купчиха. – Кобыла у меня раз ногу подвернула, так я ей также и замотала…
– Но вы же понимаете, что просто загипсовать переломы недостаточно! Кости могут неправильно срастись, велика вероятность загнивания ткани, начнется гангрена…
– Где уж нам, – отмахнулась Евдокия. – И слов-то таких не знаем… Да и что делать-то оставалось, вы же лечить отказались…
– Да поймите вы, – доктор потер устало глаза, – такие увечья не лечатся… Да, состояние больного удивительно, но, боюсь, чудес не бывает… И руку, рано или поздно, предстоит отнять…
– Во! – Савка сложил пальцами переломанной руки вялую, но вполне узнаваемую дулю. – Видали? Отнять…
Доктора потеряли дар речи.
– Я вот думаю, – подлила масла в огонь Евдокия, – может мне в лекаря податься? Говорят, деньгу вашему брату платят длинную…
Доктора в крайнем смятении откланялись, выписав на прощание разных лекарств. Тот, который постарше, пребывал в ступоре. Молодой, напротив, оживленно жестикулировал и намеревался отписать об увиденном в медицинский журнал. Евдокия сгребла со стола пачку рецептов, пробежала глазами. Половину тут же, скомкав, швырнула в угол. С остальными отправила кучера в аптеку.
Поправлялся Савка быстро, много спал, лопал за троих. Рука сперва побаливала, а потом стала под гипсом зудеть, как дьявол, заживать, значит. Дознавшись до правды, Гришку-рябого предала Евдокия суду, а Пепку выгнала взашей. Савке притащила охапку книг по текстильному делу.
– Читай, – говорит, – нечего без дела лежать! Оздоровеешь, управляющим сделаю тебя, чай не дурней других! Да не спеши благодарить, сам не знаешь, на что подписываешься, спрашивать стану за все!..
И ведь сдержала же слово! Едва только стал Савка со скуки по заводскому подворью прохаживаться, пиджачишко на плечи набросив, велит ему хозяйка:
– Принимай-ка с завтрашнего дня дела!
Делать нечего, облюбовал себе Савка угол в заводской конторке да разом про больную руку, что через шею подвязанной носил, и позабыл. Хозяйка, рада стараться, все хлопоты с себя скинула и на нового управляющего завязала. Иная у нее теперь задумка – мукомольню поставить. Да не просто, а с машинами на паровой тяге. Все с той же оглядкой на войну задумка, на миллионную российскую армию, что подобно бездонной прорве, потребит колоссальные объемы и продовольствия, и обмундирования. Вот и получалось, что Савка теперь в ответе за весь текстильный завод, и за закупки, и за выгонку, и за постройку кирпичных цехов, где уж второй этаж докладывают, да еще и новую линию портяночного сукна надлежит ставить. Деньжищами Савка теперь ворочал, ой, не малыми. В железном ящике хранил, под двойной дверкой, ключ – на шее. Сперва потел, считая, волновался кабы не сбиться, а после привык, стал ассигнации листать просто, как хрустящую бумагу. Людей, на фактории занятых, уже за три сотни перевалило. Не верилось Савке порой, что он над всеми теперь голова, и мастера в подчинении у него, и приказчики, и учетчики со счетоводами. Теперь уж ему при встрече кланялись непременно, и величали, не смотря на младые годы, по имени-отчеству, Савелий Никифорович. Савке ума-то хватало нос не задирать. Не важно в какой должности перед ним человек состоит, коли старше будет, то и Савка старается уважительно к нему, по батюшке…
Савка снова вздохнул, возвращаясь из недавних событий снова в свою комнатушку. Вот он, молодой, статный, и рука цела, и в начальники выбился – все бы хорошо. Да сердце не на месте. Перед глазами стояла Евдокия в короткой сорочке, босая, близкая, руку протяни. «Пойду к ней! – решил, – сил больше нет! Будь, что будет!» И, с духом собравшись, пошел. Евдокия, против обыкновения, за столом, бумагами заваленным, не сидела, выхаживала по комнате от окна к окну, видать, замысел какой свой обдумывала. Одета она была в красного бархата платье до пят, на плечи шаль пуховая наброшена. Приходу Савки удивилась, подняла в недоумении бровь:
– Что это мы, Савелий Никифорович, уже и без стука вламываемся?
Савка молчал, отводя взгляд. В голосе Евдокии почудилось ему не праведное возмущение, а скрытая насмешка.
– Слыхал? На фабрике поговаривают, будто полюбовник ты мой. Через то обстоятельство и управляющим стал…
– Дураки! – буркнул Савка.
– Так ли уж? – Евдокия рывком приблизилась, заглянула Савке в лицо. – Рука-то не болит? Али еще что беспокоит?.. Дай погляжу!..
Сознание у Савки померкло, сгреб он Евдокию в охапку, впился в горячие губы. Да уж в ту ночь комнатушка Савкина пустой простояла…
* * *
– …А в чистом поле а-васильки, – не то пропел, не то проговорил Семидверный и, сморщившись, сплюнул через локоть. Со стороны деревушки, что с трех сторон окружили казаки, бежал, оступаясь на камнях, длиннобородый старик в рваном халате, безошибочно угадав среди верховых русского офицера.
– Сейчас запоет соловей… Того гляди слезу пустит, в ноги кинется… Насмотрелись… Тамка они, вашбродие, потому как некуда им больше…
Ревин третий день не слезал с седла. Причем это, выражаясь буквально. А если сказать фигурально, то около месяца не слезал. Не спал, не ел и не мылся толком. Полк его ушел с генералом Гейманом на помощь Эриванскому отряду, а Ревина бросили с сотней оберегать тылы и стеречь обозы западнее осажденного Карса. Войск нагнали – тьму, а все бестолково как-то. Месились на месте, группировались, перегруппировывались и так и эдак. Осторожничал Лорис-Мельников, к делу подходил основательно и не спеша, степень риска исключая любую. В среде офицеров бытовало мнение, что если бы, дескать, сразу после Ардагана двинул бы Лорис всю ораву вперед, то пьесу на закавказском театре сыграли бы в неделю, потому как не было еще у Мухтар-паши войска, не успел он к тому времени собрать ополчение, не примкнули к его армии курды. Так это или нет, никто подтвердить или опровергнуть не мог, потому как способ проверить существовал всего один. И слишком высокую цену пришлось бы заплатить в случае промаха, а по сему, может и прав был командующий.
Среди тыловой неразберихи рыскали башибузуки, просачиваясь тайными тропами меж блокпостов, под покровом ночи минуя разъезды, грабили обозы, жгли склады, после растворяясь бесследно, как привидения. Случайные рубки ситуацию исправить не могли, у Ревина создавалось впечатление, будто он пытается заткнуть пальцами решето. Отчаявшись отыскать какую-то систему в совершенном хаосе турецких набегов, казачью сотню Ревин разбил на летучие отряды, предоставив им полную самостоятельность, сам, во главе трех десятков верховых, носился по ущельям и предгорьям, занимаясь, по сути, тем же: ловлей ветра. С начальством дело обстояло еще хуже. Сухонького невзрачного полковника, ведающего тыловым охранением, видел Ревин всего однажды, прежде чем командование, раздраженное необходимостью переключать внимание с батальных замыслов на бедлам в тылу, не поручило курировать сей вопрос не кому-нибудь, а генералу Алмазову лично, тому самому, с которым у Ревина не заладились отношения с первой встречи. Блистательный протеже великого князя первым делом затеял смотр пропыленных и насквозь пропитанных потом подразделений, где устроил грандиозный разнос всему офицерскому составу. Полагая, что вопрос исчерпан и набеги теперь прекратятся сами собой, Алмазов занялся делами более важными, среди которых не последнюю роль играли ночные кутежи в штабной палатке, впрочем, воспринимая всякое новое известие о разгромленных обозах, как личное оскорбление. Поэтому Ревин, дабы не представать лишний раз пред начальственные очи, безвылазно пропадал в экспедициях, надеясь, что о нем забудут. Впрочем, ему благоволил Лорис, соизволивший собственнолично приколоть молодому офицеру третьего по счету Георгия за Ардаган, но просить главнокомандующего о переводе Ревину не позволяла гордость. Сейчас исходили третьи сутки, как казаки с исступлением гончих псов шли по следу десятка всадников, отмотав добрую сотню верст под жалящим июньским солнцем. Башибузуки плутали, путали след, расходились веером, но Ревин поклялся себе, что уж этих он достанет. Внизу, в чашеобразной долине замерла деревушка, тревожно поглядывая черными проемами окон на недобрых косматых казаков.
– Ай-вай-вай!.. – старец воздел ладони к небу и упал на колени. Ревин немного говорил по-турецки, но здесь не требовалось переводчика, все было понятно и так, в хижинах одни женщины и дети, чужих нет, всемилостивый Аллах наслал испытание и засуха погубила урожай. Они-де, мирные крестьяне и староста умоляет русского господина не разорять деревню.
– Брешет! – сверкнул глазами Семидверный. – В кишлаке аспиды, нутром чую! Ревин всматривался в коричневое от загара лицо, изрезанное глубокими бороздами, в подернутые влажной поволокой глаза, где затаилась непритворная печаль.
– Сколько лет тебе, старик?
Староста посмотрел Ревину за спину, на потертые рукояти шашек, и сглотнул.
– Восемьдесят два, господин…
– Сроку даю… Умеешь ли ты определять время по часам?
– Нет, господин, не умею…
Ревин нахмурился. Действительно, откуда взяться дорогому хронометру в глухом кишлаке…
– Горнист!
– Чавой? – горнист, с подходящей ему как нельзя более кстати фамилией Дураков, по пути нарвал фуражку зеленых абрикосов и сейчас, кривился от кислятины, далеко выстреливая косточки пальцами.
– Труби.
– Чавой трубить-то? – Дураков отер губы ладонью.
– "Зарю" труби.
Дураков прокашлялся, проплевался и изобразил "зарю".
– Когда услышишь третий горн, – Ревин обратился к старосте, – мы запалим деревню. Будет лучше, если к тому времени жителей там не останется… Сожжем дотла, будь уверен, – Ревин прервал запричитавшего старика. – Если не убедишь чужаков сдаться. Передай им мое слово. Я сохраню им жизнь… Готовить факелы! – Ревин повернул лошадь, давая понять, что разговор окончен. Старик побрел восвояси ни с чем, понуро уронив голову на грудь. Ревин глядел ему вслед и давил в сердце жалость. Рисковать людьми он не собирался, не для того казаки отмотали такого крюка, чтобы подставляться под пули на узких улочках. Бытовала старая, многократно испытанная тактика: пустить в селение красного петуха и дожидаться, пока из объятых пламенем жилищ не полезут поджаренные абреки.
– На войне, как на войне! – пробормотал Ревин. – Дураков! Давай!.. После второго горна из кишлака потянулась цепочка жителей. Женщины, старики, дети тащили нехитрый скарб, волокли в поводу скот, гнали овец. Казаки перепарывали тюки, проверяя, не укрылся ли кто внутри, оборачивали арбы с поклажей, даже овец дергали за шкуру – своя ли?
– Пощади, господин! – староста повалился Ревину в ноги. – В кишлаке никого нет. Ради Аллаха, не лишай крова!..
– Врешь, собака! – подбежал Семидверный, сунул под нос старику кулак. – Что это? А? Тебя спрашиваю, что? Взопревшие кони твои под седлами! Мокрые, как мыши, все до одного!
– Труби! – Ревин махнул горнисту, и, не дожидаясь, пока стихнут мечущиеся по предгорьям отзвуки исторгнутой во все мощь дураковских легких "зари", велел: – Зажигай из-под ветра!.. С другого конца кишлака послышались выстрелы, казаки с присвистом выслали коней в намет, в один момент скрывшись за холмом.
– Вашбродие! – примчался вестовой. – Арыком пробирались, низиной хотели уйти… Увидали мы их, погнали в поле…
– А ну, погоди с кострами! – Ревин остановил факельщиков. – Обождем…
В поле пешему с конным не равняться, вскоре под прицелами карабинов привели казаки изрядно помятых турок, связанных по рукам. Пленные следы особых церемоний не носили: на физиономиях красовались синяки и кровоподтеки, кто-то сплевывал зубное крошево, харкая красным, кто-то прихватывал бок со сломанными, видно, ребрами. Иным повезло еще меньше, их волокли за ноги, притороченными к седлу. Среди сбившихся в кучу крестьян раздались возгласы, запричитали высокими голосами старухи.
– Кто старший? – Ревин, спешившись, разглядывал пленных. Один из них, коренастый, поднял глаза, воинственно выпятив седеющую бороду. Ревин остановился напротив и отрекомендовался:
– Ротмистр Ревин. С кем имею честь?
Бородач не ответил. Тряхнув обритой головой, презрительно плюнул Ревину в лицо… Смолкли старухи. Двое казаков с нагайками, кинувшиеся было проучить наглеца, остановились в нерешительности, натолкнувшись на запрещающий жест. В полной тишине Ревин достал из кармана платок, вытер лицо и запачканный мундир. Молниеносного удара в горло никто не увидел. Бородач захрипел и неловко повалился навзничь, дернулся пару раз и затих, уставившись остекленевшими глазами в небо. Обыски кишлака принесли неожиданный результат, внутри одной из хижин обнаружилась интересная находка. Казаки, приседая от тяжести, тащили нечто объемистое, завернутое в мешковину. Сверток глухо звякнул, соприкоснувшись с землей. Вокруг тотчас собрались любопытствующие.
– Дывытесь, хлопци, яка бандура!..
Бандура оказалась ничем иным, как картечницей Барановского, именуемой в просторечье "скорострелкой", новехонькой, но с пустыми патронными ящиками. Громоздкую картечницу Ревин велел взять с собой. Не бросать же, в конце концов, имущество, за которое уплачено царским золотом.
Сквозь брезент большой штабной палатки доносился звон посуды и женский смех. Керосиновый фонарь покачивался согласно слабому прохладному ветру, отбрасывал тени на лица часовых, усиливая их сходство с египетским сфинксом. Шторка над входом колыхнулась.
– Его превосходительство велели ждать.
Адъютант в звании поручика смерил Ревина холодным взглядом и вернулся внутрь. Даже в темноте новехонький мундир штабиста разительно отличался от выцветших и пропыленных мундиров полевых офицеров. Со скуки Ревин погулял вокруг, отметив про себя декоративное назначение солдат, стоящих на посту. Если бы в палатку вознамерился проникнуть враг, то он легко сделал бы это со стороны темной балки, распоров брезент. Алмазов явился в небрежно наброшенном на плечи кителе в компании подгулявших офицеров, да и сам он был заметно навеселе, поэтому начал без обиняков:
– Я вами, – молодой генерал процедил последнее слово, – крайне недоволен, ротмистр! Набеги становятся раз от раза предерзостнее, а вы, – Алмазов едва не проткнул Ревина пальцем, – пропадаете черт знает где, и занимаетесь черт знает чем! Ваши… прогулки не имеют под собой ровным счетом никакого смысла. И еще большой вопрос, как вы там проводите время! Не в охоте ли на сайгаков? – генерал повернул голову назад, приглашая компанию поддержать шутку.