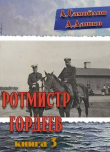Текст книги "Ротмистр"
Автор книги: Евгений Акуленко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– Правда! – заверил Ливнев. – Истинная правда!.. Дальше?.. А что дальше? У меня ребята простые, мертвяки, так мертвяки. Повязали их всех за милую душеньку вмиг… Помяли немного… Оказались разбойнички. Пьяные в стельку, лыка не вязали. Добро свое прятали на кладбище… – Ливнев вздохнул.
– И иногда мне кажется, что все впустую, что мы ловим ситом воздух, небылицы, пьяные бредни, бабушкины россказни. Тогда я спускаюсь в подвал и смотрю на то, чего нет. И играю с Йоханом в шахматы. Я не выиграл у него ни разу. Несколько ничьих были, скорее, данью моему упорству… Однако, довольно подземелий!
Ливнев повел министра на второй этаж, где подобно гостиничным номерам располагались жилые комнаты.
– Сейчас представлю вам еще одного нашего гостя. Модест Порфирьевич Козявкин, прошу знакомиться!
С измятой постели вскочил пожилой человек, полный, с плешью через всю голову, в изжеванном костюме поверх несвежей сорочки. Осмотрелся невидящими, дикими со сна глазами и сел обратно. Здесь никакой решетки не было, но Тирашев, на всякий случай, остался стоять поближе ко входной двери.
– Александр Егорович, – представил министра Ливнев, намеренно опустив его фамилию и звание. – Наш отец и благодетель.
Модест Порфирьевич промычал что-то невразумительное и болезненно сморщился, всем своим видом давая понять, что не в состоянии изобразить надлежащее случаю подобострастие.
– Голубчик, как вы себя чувствуете? Вы отдохнули?
– Матвей Нилыч, отправьте меня домой, – Модест Порфирьевич соорудил такую кислую мину, будто разжевал лимон, и зарядил длинную жалобу. – Меня ждет супружница моя, детишки. В конторе уже третий месяц не показывался. Меня и уволили давно поди. А как сейчас непросто сыскать место, знали б вы! Смилуйтесь, Христа ради! Я старый больной человек! Помру я здесь…
– Ну-ну-ну! – перебил Ливнев. – Будет вам! Во-первых, вы не на отдыхе, а на государственной службе, выполняете задание чрезвычайной важности! А во-вторых, позволю себе напомнить, вам назначена денежная премия в размере годового жалования. Так что бросьте хандрить! Кто вы сейчас? Провинциальный секретарь! Вернетесь коллежским, с Анной в петлице! Ну же!
Модест Порфирьевич возвел очи ко лбу. Он ощущал себя мучеником.
– Да! Я же к вам не просто так, а с оказией! – Ливнев вытащил из нагрудного кармана конверт, помахал в воздухе. – Пляшите, вам весточка от супруги!
Конверт лег на стол. Модест Порфирьевич подобрался, но остался сидеть, воззрившись на письмо, как на божий лик.
– Что же вы? Прошу вас!.. – Ливнев отступил назад.
Тирашев почувствовал, как на затылке у него зашевелились волосы: конверт дернулся и сам собой пополз, свалился со стола, протащился по полу и прыгнул в руки к Модесту Порфирьевичу.
– Это что за фокусы? – от неожиданности Тирашев возвысил голос на фальцет, невольно заставив Модеста Порфирьевича, едва не выронившего письмо с испугу, непонимающе захлопать глазами.
– А никаких фокусов, Александр Егорович, – Ливнев позволил себе улыбнуться уголком рта. – Никаких ниток, магнитов и зеркал. Все по-честному. Модест Порфирьевич, вы уж ради меня постарайтесь…
С этими словами Ливнев положил на столешницу спичечный коробок. Модест Порфирьевич быстро кивнул, собрал складки на переносице и… коробок перевернулся и встал "на попа". По лицу без пяти минут корабельного секретаря сползла капля пота. Коробок приоткрылся, потом еще, еще, до тех пор, пока спички не высыпались наружу.
– Браво! Браво, Модест Порфирьевич! – зааплодировал Ливнев. – Вы делаете успехи!.. Засим отдыхайте. Не будем вас боле беспокоить!..
После увиденного ни обширная костюмерная, ни оружейный арсенал, в котором тоже было на что посмотреть, на Тирашева никакого впечатления не произвели.
– Дуняша, лапушка, ставь самовар!..
– Хорошо, Матвей Нилыч.
Розовощекая пышнотелая горничная одарила белозубой улыбкой и неслышно прикрыла дверь. Тирашев выглядел подавленным, от начальственной спеси не осталось и следа. Перед глазами стояли заспиртованные уродцы в банках, ветхие манускрипты, и разные диковинные предметы, именуемые Ливневым артефактами. Много порассказал Ливнев разного. Про таинственные огни в небе, про странных, не всегда обремененных телом, существ, обитающих, как в глуши, так и бок о бок с человеком. Много поведал… Но еще о большем умолчал. И от этого министру делалось худо.
– Что-то вы с лица спали, Александр Егорович! Небось, плачете уже по былому неведению?
– Как есть, жалею, – махнул рукой министр. – Мне, знаешь, одних народников предостаточно. Их бы энергию, как говорится, да в мирных целях. Страна бурлит, как паровой котел… Эх-х… Смутил ты меня, голубчик, как есть смутил. Спать теперь не буду…
– Не стоит, право!.. Суеверный страх губителен для рассудка, губителен для того, чему человек обязан своим положением в природе. Все что вы увидели – это только капля в океане, позволяющая судить, лишь, на сколько сей океан огромен. Мы возгордились, возомнили себя венцом творения, попросту отвергая то, что не укладывается в рамки привычных представлений о мире. Глупо уподобляться страусу, зарывающему голову в песок!.. Кстати, это тоже миф, крылатая фраза, не более. Если бы страус прятал голову в песок, он непременно задохнулся бы …
– А это что это у тебя? – министр увидал в углу кабинета гипсовую статую, полуприкрытую простыней. – Никак скульптурой занялся? А? Дай-ка взглянуть старику! Ну-ка… Александр Егорович испытывал к скульптуре страсть и сам, надо сказать, на досуге ваял, порождая насмешки недоброжелателей.
– Но! Но! Не верю глазам своим! Техника потрясающая! Какая точность, э-э, деталей!.. Однако, я тяготею больше, гм, знаете… к женскому телу… И как-то странно начинать фигуру с… со спины…
Ливнев смутился, пробормотал что-то невразумительное, закрывая изваяние пологом. Подробности о том, с чего гипсовый слепок снят и откуда переправлен, он опустил.
– Ну, Матвей Нилыч, удивил, – Тирашев покровительственно похлопал Ливнева по плечу. – Удивил! А у тебя, знаешь, задатки, да! Поверь старику. Я кое-что соображаю в таких вещах. И могу тебе по-дружески дать советов, и даже кое-где поставить запятую!..
Необъяснимые явления, таинственные находки, живой вампир Йохан – все отошло на второй план. Тирашев почувствовал почву под ногами, покрылся налетом добродушной начальственности и принялся обстоятельно и подробно рассуждать о скульптуре, камне и инструментах. Когда горничная внесла горячий самовар, Ливнев слишком уж заметно оживился, рискуя вызвать неудовольствие вошедшего в раж Александра Егоровича.
– Дуняша, не уходи, голубушка. Покажи нам, как ты умеешь.
– Ой, барин, – Дуняша прыснула в рукав, – стесняюсь я…
– Какой я тебе барин? Опять ты за свое! Ну-ка, садись! А вы, Александр Егорович, – Ливнев подал карандаш, – напишите-ка на салфетке число какое-нибудь.
– Какое? – недоуменно поднял брови Тирашев.
– Какое на ум придет, то и пишите, – прощебетала Дуняша, снова спрятав смешинки в ладошках. – От меня закройте!
– Гм… Ну, написал, – Тирашев перевернул салфетку.
– Осьмнадцать! – выкрикнула Дуняша и залилась звонким смехом.
– Верно… Подсмотрела!
– Нет! – Дуняша выставила перед собой руки и замотала головой. – Нет! Вы глянули на меня и подумали, сколько мне лет от роду, и дали осьмнадцать… А мне семнадцать еще только…
– Ишь ты!.. А ну, скажи тогда, что у меня сейчас в мыслях?
– Так у всех у вас в мыслях одно и то же, – Дуняша отвела глазки и зарделась.
– Нет, какова девка, а? – Ливнев не выдержал и рассмеялся. – Насквозь видит! Хоть сейчас в разведку!
Тирашев измарал все салфетки. Писал числа, короткие слова, рисовал разные фигуры. Дуняша угадывала даже с завязанными платком глазами, даже повернувшись спиной.
– И что же, – Тирашев утер пот со лба, – ты со всеми вот так можешь?
– Нет, не со всеми. С Матвей Нилычем получается, только ежели они захотят…
– Ну, ступай, – Ливнев улыбнулся. – Иди с Богом!
Дуняша неумело исполнила книксен и скрылась за дверью.
– Возьмешь таких к себе на службу – конфуза не оберешься, – пробормотал Тирашев. И тут же поправился: – Слушай, Матвей Нилыч, отдай мне девку, а? Я с ней быстро бездельников и казнокрадов к ногтю прижму!.. – Тирашев закатил глаза, видя, как расправляется с противниками в подковерных интригах, как Государь приближает к себе, подивившись его проницательности и осведомленности, как… – А, – обреченно махнул рукой министр. – Не отдашь ведь, знаю…
Министр укатил затемно. Долго мялся, морщился и, уже ступив на подножку кареты, пространно намекнул про практическую пользу "изысканий". Дескать, сугубо научный подход – то поле деятельности ученых из Географического Общества, а от Ливнева требуется поставить-таки потусторонние силы на службу государству. Заставить, понимаешь, "их" воду возить и колеса вертеть.
"Какое, к чертям, "поставить", – запершись на ключ у себя в кабинете, Ливнев налил из пузатого графинчика рюмку рябиновки и разом опрокинул в рот, – тут бы узнать, хотя бы, с чем дело имеем". Покосился на лежащую на столе зеленую папку с заглавием "Каменный человек". Ливнев повертел папку пальцами и в бесчисленный раз открыл. Фотографии слепка, фотографии местности, снимок профессора Яттса, его же сбивчивое заключение, данные геологической партии и лозоходцев, показания беглых каторжников, доклад наблюдателей, полтора месяца скитавшихся окрест, пальцевые отпечатки жителей близлежащих деревень, включая грудных младенцев, пальцевые отпечатки… самого… Что же это такое? Злая шутка природы? Свалившаяся с неба глыба? Или действительно, подобно созданному из глины хелмским раввином Элией великану, из тверди встало человекоподобное существо? Ливнев вскочил, сорвал с гипсового слепка полог. Без сомнения фигура принадлежала мужчине. Великолепно сложенный, с мускулистыми ногами, широкой спиной, ростом он не уступал самому Ливневу. В полумраке кабинета изваяние казалось живым. Чудилось, будто бы стоит только окликнуть и каменный человек обернется, явит свое лицо.
– М-да, – пробормотал Ливнев, стряхивая наваждение. – Дорого бы я отдал, чтобы с тобой встретиться…
– Матвей Нилыч, – прервав раздумья, в покои деликатно постучался Йохан. – Я вам не нужен сегодня больше?
– Нет, спасибо, Йохан. Отдыхай! Ты славно поработал. Министра нашего едва удар не хватил.
Йохан улыбнулся и неслышно притворил дверь.
"Действительно, – подумал Ливнев, – кто так хорошо сыграет вампира? Только настоящий вампир!"
– Тетенька, пусти-и!.. Тетенька! – тощий чумазый оборванец еле поспевал за средних лет дамочкой, цепко удерживающей его за руку. Избитая обувка гребла пыль, волочилась по земле оборванная помочь. Мальчишка канючил, размазывая сопли по сморщенному личику, не выпуская, однако, из кулачка своего «коника» – кривой палки с пришпиленной лошадиной головой, неумело вырезанной из дерева.
– А ну, не реви, не реви! – приговаривала дамочка, сердито поджимая тонкие бескровные губы. – А не то не дам тебе сахарного петуха! Упоминание о сахарном петухе ненадолго успокаивало мальчишку, но вскоре он принимался хныкать вновь. Дамочка была на вид некрасива: сама худая, костлявая, лицо желтое и глаза начернены так густо, что казалось, будто не глаза это вовсе, а пустые глазницы. Пальто ее, изрядно побитое молью, пахло мышами, а из-под невообразимой бесформенной шляпки с торчащими во все стороны перьями выбивались спутанные пряди.
Редкие прохожие не обращали на странную пару ровным счетом никакого внимания – ни дать, ни взять, мамаша тащит непослушного ребенка. Две уличные торговки покосились на дамочку, на время прервав свою трескотню, и снова принялись судачить о своем.
– Слыхала? – одна пихнула в бок товарку. – Говорят, будто люди у нас стали пропадать…
– Да чего ж не слыхать-то? Слыхала… Сказывают, – другая понизила голос, – будто ходит по нашему городу черт в человечьем обличие. На кого укажет левым мизинцем, тот и провалится под землю строить мост под рекой. А мизинец у него не простой, а в два раза длиннее обычного…
– Это как же, мост под рекой?
– Как-как… Знамо как… Такой же, как обычно, токмо с подземной стороны, чтобы черти и иная нечисть по нему свободно шастать могли…
Под вывеской "Питейное заведение Кутейщиков и Ко (меблированные нумера и обеды)" дамочка остановилась. Оглянулась на двух пьяных в стельку извозчиков, горланящих песни, на кучера, что дремал на дрожках, дожидаясь, видно, загулявшего барина, и потащила мальчишку на дурнопахнущее крыльцо. В душной трактирной сутолоке к ним вышел сам колченогий хозяин, отвел в дальний угол и принялся о чем-то сердито шептаться с дамочкой. Мальчонка целиком их разговора не слышал, а только разбирал отдельные фразы. Трактирщик несколько раз назвал дамочку "дурой" за то, что она "привела с парадного". А дамочка огрызалась и требовала что-то "прямо сейчас", потому что ее "ломает". Поколебавшись, трактирщик достал из внутреннего кармана маленькую коробочку из которой дамочка, отвернувшись, нюхала сначала одной ноздрей, потом другой. Было душно, кто-то громко требовал "полштофа" и мальчик снова стал хныкать.
– Тебя как звать, малец, а? – трактирщик склонился и неловко потрепал мальчонку за волосы.
– Микитка…
– Вот молодец! А где твоя мамка?
– Нету мамки…
– И тятьки нету?
Микитка покачал головой.
– Эх, сиротка, – трактирщик и дамочка согласно переглянулись. – А чего ж ты хочешь?
– Сахарного петуха…
– Ах, ты ж, горе!
Сильно прихрамывая, трактирщик повел мальчонку к стойке, ни на секунду не выпуская из пальцев худенькое плечо, вручил леденец на палочке:
– Держи!.. Вкусно? Вот и ладно!.. Иди-ка, я тебе еще кваску налью.
Трактирщик привел Микитку на кухню, усадил на мешок с мукой. В жару, среди кастрюль и котлов металась взопревшая стряпуха.
– На-ко, испей!.. Мальчишка принял глиняную кружку, понюхал, но пить не стал.
– Пей! Холодный квасок, эх!..
– Не буду, – Микитка покачал головой.
– Чего ж?
– Он дурманом пахнет…
Трактирщик отпрянул от неожиданности, взглянул на мальчонку с удивлением и пробурчал себе под нос еле слышно:
– Ну, как знаешь… Тебе же хуже…
– На что я вам, дядь? Отпустите меня! – Микитка посмотрел трактирщику прямо в глаза. Тот не выдержал и отвел взгляд.
– Ну, что ты, дурачок? Куда же ты пойдешь, на ночь глядя? Пойдем-ка, я тебя в комнату отведу. Перинка у меня мягонькая, поспишь, а утром, коли хочешь, и иди на все четыре стороны…
Трактирщик говорил ласково, но мальчонку вел почему-то в подвал. И ладони у него вдруг стали холодными и липкими. Запахло сыростью и прелью, повеяло холодом. Под каменным сводом покачивался керосиновый фонарь, освещая бочки, кадушки и прочую утварь, сваленную в кучи. Трактирщик остановился перед массивной дубовой дверью, окованной железом и запертой на большой засов.
– Я не пойду! – заверещал Микитка и попытался удрать.
– Стой, паскудник! – одной рукой трактирщик удерживал вырывавшегося мальчонку, второй пытался отодвинуть засов. С той стороны двери явственно донеслись постукивания и царапание.
– Сатана! – выругался трактирщик. – Уж средь бела дня заявился… Стой ты!..
Засов пополз в сторону. В следующий момент что-то обожгло трактирщика по предплечью, на земляной пол брызнуло теплым. Вместо игрушечного "коника" у мальчонки самым странным образом оказалась маленькая, но вполне настоящая сабелька. От неожиданности трактирщик выпустил свою жертву и зажал порез. Микитка долго ждать не стал и со всех ног кинулся наутек. Колченогий владелец заведения попытался было мальчишку догнать, но путь в дверях преградила высокая широкоплечая фигура. Удар в челюсть, способный свалить быка, – последнее, что запомнил трактирщик, перед тем, как рухнуть спиной в кучу хлама… Мешкать Ливнев не стал, дал знак, едва Микитка пропал из виду. На улице два "пьяных" извозчика скрутили не успевшую ничего понять дамочку. "Дремавший" кучер в мгновенье ока оказался перед задним крыльцом, без разбега вышиб дверь плечом и нырнул внутрь. Вскочили с мест какие-то люди, прежде чем подвыпившая братия что-нибудь сообразила, перекрыли все ходы-выходы. Вдалеке послышались трели городовых, берущих трактир в оцепление. Работать государева служба умела.
– Цел? – Ливнев погладил Микитку по щеке. Тот кивнул. Мальчишку била крупная дрожь.
– Дед Опанас, – кивнул Ливнев спускающемуся по лестнице старцу: – Пригляди!
– Ох ты, батюшки! – гневно зыркнул дед из-под густых бровей. – Совсем ты, Нилыч, мальца не бережешь!..
Этот седой, но на вид крепкий старикан, был, пожалуй, самой колоритной фигурой в окружении Ливнева. Одевался он в длинный, до пят, балахон, носил бороду по пуп и нигде не расставался с затейливым витым посохом, едва ли короче себя самого. Себя считал дед колдуном и травником, чем любил перед каждым встречным-поперечным прихвастнуть. Ливнев за стариком никаких особых способностей не замечал, но относился уважительно. Являл собой дед ходячий кладезь сказаний и легенд, знал беспредельное множество обрядов и заклинаний, и носил в голове своей четкую классификацию сверхъестественных существ и явлений, которую, по просьбе Матвея Нилыча, преподробнейше перенес на бумагу. Бестиарий деда Опанаса насчитывал несколько сотен страниц и казался сосредоточием небывальщины махровой, однако, в чем Ливнев неоднократно имел возможность убедиться, загадочные явления, порой, удивительно точно укладывались в предоставленные дедом описания. И, что еще более ценно, помогали указанные способы борьбы с этими явлениями. Выцепил Ливнев старца в Малороссии. Жил тот, против обыкновения, не на отшибе, а на хуторе, где слыл хоть и чудаком, да безобидным. Сотрудничать с государевой службой согласился дед не за деньги. Пораздумав, взял он с Ливнева обещание, что тот, перед его, старца, смертью, примет на себя его колдовской дар, тем самым облегчив муки отходящей в иной мир души. Дед отвел Микитку в сторону, укутал в чью-то куртку, сунул маленькую, оплетенную берестой фляжку:
– На-ко, глотни. Да, гляди ж, один раз!.. Меж тем, погреб заполнялся людьми. Трактирщика упаковали по рукам и ногам, запихали в рот кляп и определили в угол. Напротив оклепанной железом двери, из-за которой вместо неясного постукивания доносились уже сотрясающие стену удары, развернули сеть. С одной стороны встали двое крепких молодцов, с другой один лишь "кучер", которого Ливнев звал Шалтый. Был Шалтый раскос, как и полагается уроженцу монгольских степей, и приземист, будто дубовый пень. Силой же обладал чрезвычайной. Ладонью в стену гвозди вгонял, да их же пальцами вытаскивал. Мог опрокинуть за рога быка-трехлетку, а однажды приподнял в одиночку воз с мукой, да так и держал, пока ездовые сломанное колесо меняли. Еще владел Шалтый секретами особой борьбы, где насобачился не рассказывал, всяко где-то на родине на своей, но только никто его в рукопашной одолеть не мог. Он вообще говорил мало, поначалу и думали – немой.
Только во сне, бывало, начнет по-своему лопотать быстро-быстро, словно боится не успеть куда. А что говорят ему, выслушает внимательно, поклонится и все сделает, как надо. Имел Шалтый еще одну особенность, начисто лишил его Всевышний эмоций. Ни разозлить, ни рассмешить его никогда не удавалось. И ничто не могло монгола испугать. Уж как только не пробовали, ни с того, ни с сего тарелки позади него били, в таз медный молотком стучали, из ружья даже палили – обернется Шалтый, посмотрит, как на пустое место и дальше по своим делам идет. Ничего ему не стоило, скажем, в полнолуние по лесу прогуляться под волчье завывание, или, уж коли в этом нужда, могилу раскопать – покойного потревожить: умение, надо сказать, незаменимое. Откуда-то из-за спин стрелков со взведенными револьверами задумчиво проскрипел дед Опанас:
– Сдается мне, что там кобольд… А зараз, неплохо было бы держать наготове рябиновый крест…
– А-а, – Ливнев досадливо крякнул, – тут не угадаешь, что держать наготове, – Ливнев передразнил деда, – рябиновый крест или осиновый кол… Открывай, ребята!
Дверь распахнулась. Из темноты на свет шагнуло нечто мохнатое, одетое в лохмотья и мерзко пахнущее. На него тут же набросили сеть и повалили. Трое дюжих хлопцев пытались совладать с ревущим дурным голосом, брыкающимся и царапающимся существом. Дед Опанас протиснулся вперед и в секунду успокоил существо, ловко ткнув тому пальцем куда-то в шею.
– Только сдается мне, – молвил дед, – что это никакой не кобольд, а обычный смерд… В дверной проем, бесшумно, будто призраки, устремились несколько человек с фонарями. В углу завозился, приходя в сознание, трактирщик.
– Господин Кутейщиков, если не ошибаюсь? – поинтересовался Ливнев негромко, но весьма зловеще. Трактирщик часто-часто закивал. Ливнев жестом велел вынуть тому кляп и продолжил:
– Это кто?
Кутейщиков взглянул на лежащего "кобольда", сглотнул и севшим голосом поведал:
– Это?.. Это братец мой, Степка… Дурной он… Самасшедший стало быть… По-людски и говорить не умеет. Ревет, аки зверь. А только он добрый, мухи не тронет…
– А куда ты, ирод, мальца вел? Отвечай! – набросился на трактирщика дед Опанас. – Да в глаза мне гляди, душегубец!
– Так я того… стало быть… кваску холодненького, – замямлил трактирщик и осекся. В погреб ввели слегка помятую дамочку. Даже при тусклом освещении было видно, как помутнели ее зрачки. Руки безвольно свисали плетьми, да и стояла она с трудом, покачиваясь из стороны в сторону.
– Узнаете ли вы эту женщину? – спросил Ливнев трактирщика.
– Я… я… не припоминаю…
– А вы, узнаете этого господина? Дамочка окатила трактирщика мутным взглядом и слегка кивнула:
– Это Сидор Кутейщиков… Полюбовник мой…
– Что вас связывало?
– Я с улицы людей заманивала, взамен он кокаин мне давал.
– Что было дальше с этими людьми?
– Он братцу их своему сводил… На растерзание, – дамочка всхлипнула.
– Молчи, дура! – Кутейщиков не выдержал. – Что вы ее слушаете, она же не в себе! – глаза его бегали, лицо покрылось испариной. Из темноты дверного проема вывалились перемазанные грязью люди. Один из них поставил узелок, развернул, брезгливо вытер пальцы.
– Там подземные ходы, без конца и без края. Нашли вот…
– Что это?
– Кости человечьи… Дамочка пошатнулась и осела на пол. Поднимать ее никто не спешил.
– Я не хотел! – трактирщик заплакал. – Христом Богом… Он таким не был, пока батька жил. А потом на людей стал кидаться, скалился… Да он же батьку и…
– Откуда ход за дверью?
– То еще дед мой рыл, когда трактир строил. Разбойники через него ходили, из самых из подземных пещер. Туда пойдешь – сгинешь… Завел я туда Степушку, а дверь закрыл. Думал – пропадет. Так не поднимешь руку на него, брат ведь… Долго его не было, я уж и свечку за упокой поставил, а тут является, стучит, бьется – есть, мол, давай. Так я сначала кошек и собак ему кидал. Да они ж махонькие, надолго ль ему хватит? А после и пьянчужку бездомного свел, что под крыльцом ночевал. Так и пошло… Эх доля моя горькая!..
– А кашей да хлебом-то отчего не кормил его, упырь?
– Да где ж взять-то столищи? То ж убыль одна…
– Вас ждет виселица, Кутейщиков. Я позабочусь, – пообещал Ливнев и направился к выходу.
– Матвей Нилыч, этот… людоед… нам нужен? Ливнев обернулся, пожал плечами.
– Нет. Нечего здесь изыскивать. Ход завалить, этих двоих – под суд.
– Не погуби-и-и!.. Вой Кутейщикова вскоре смолк, и, вероятно, виной тому послужил водруженный на место кляп. Однако судьба трактирщика Ливнева отныне не интересовала. Еще одна акция проведена впустую. Сотни часов кропотливого труда не принесли ни зернышка, ни крупинки результата. Ничего. Если, правда не считать двух-трех десятков раскрытых убийств. Ну, так этим пусть занимаются те, кому полагается.
"Легки на помине", – поморщился Ливнев, когда на пороге рюмочной столкнулся с обер-полицмейстером. Тот явился как с картинки: толстый, потный, китель застегнут, но за исключением двух пуговиц, верхней и нижней; фуражка на затылке, щеки пышут жаром, в голове винегрет. Следом семенил заместитель, похожий, как брат-близнец, только морда поуже и живот поменьше.
– Милостивый государь! По какому праву вы распоряжаетесь? Вы кто, вообще, такой? Я не позволю!.. Ливнев был не в настроении. Он просто ткнул в мясистый нос свою чудодейственную грамоту и произнес:
– Поздравляю! Блестящая работа! Вашими стараниями обезврежена целая шайка опаснейших преступников… Внизу сухо треснул револьверный выстрел.
– Один, – Ливнев потер переносицу, – при задержании был застрелен, – и рявкнул, не давая опомниться: – Благодарю за службу! Обер-полицмейстер вытянулся во фрунт, вытаращил глаза и не нашел ничего лучшего, чем взять под козырек.
Микитка спал. По крайней мере, пока в карету не сел Ливнев.
– Испугался? – Ливнев чмокнул мальчугана в белобрысую макушку.
– Немножко, пап…
Когда никого вокруг не было, Микитке разрешалось называть папу папой. Он потер кулачками глаза и ткнулся отцу в грудь, такую большую и надежную. Ливнев вздохнул. Он посвятил службе свою жизнь, в праве ли он посвящать службе жизнь сына? Чему-либо посвящать?.. Микитке даже саблей своей пришлось воспользоваться. Впервые. По-настоящему. Ему эту сабельку сделали больше для его собственной уверенности, хотя и владел он ей неплохо. Превосходно владел для семилетнего ребенка. Уроки Шалтыя даром не прошли. Новобранцы зеленые, те недоумевают, зачем, мол, нам денно и нощно разучивать приемы борьбы, стрелять, фехтовать, зачем нам прыгать, будто лягушки, ползать, как змеи и лазать по деревьям, как белки? Зачем, если, все одно, против сил сверхъестественных умения такие бесполезны? Ливнев снова вздохнул. На то они и новобранцы. Даже Микитка знает, что в абсолютном большинстве своем, дело им придется иметь не с призраками бестелесными, а со вполне реальными людьми. При чем, далеко с не самыми лучшими, зато с увесистыми кулаками да острыми топорами. Сколько обычных преступлений раскрыли по ходу дела, Ливнев и считать перестал.
– Расскажи про маму, – попросил Микитка. "Э-э… Совсем раскис мальчуган", улыбнулся Ливнев. Обнял сына за плечи, прижал к себе.
…Это было давно. Не столь давно по времени, сколь давно по себе самому. Молодой, но подающий большие надежды по дипломатической линии, Ливнев приехал погостить к дяде в Вологодскую губернию. Визит любимого племянника, который «все больше в Петербурге да по Европам» наделал много шуму в большом, но захудалом поместье. Как водится, встречали широко, с гульбой, с пальбой, с соколиной охотой. Там, на охоте, и произошел случай, изменивший молодому дипломату всю жизнь. Пустился Ливнев в погоню за лисицей, отбившись от других охотников в сторону. Кругом одни поля и перелески, негде рыжей спрятаться, и уже вроде бы стала та уставать, сдаваться, как задурковал под Ливневым конь. Хрипит, бьется, норовит седока с себя скинуть. И нет бы Ливневу с седла спрыгнуть, жеребчика успокоить, так угораздил его черт в горячке погони ошпарить непослушного плетью. А тот возьми и понеси. Это казаки, которые с пеленок к лошадям привычные, могут коню так ногами бока сдавить, что тот на коленки падает. Дипломатам же джигитовка ни к чему. Ездить Ливнев умел, не так чтобы уж очень плохо, но ни соскочить, ни совладать с жеребцом не может. Знай, сидит да, как умеет, держится, и на помощь позвать некого. А конь мчит, по кустам, по болотам, будто бес в него вселился.
До тех пор нес, пока ноги у него не подкосились и не рухнул он на землю. Вылетел Ливнев из седла кубарем. Поднимается, ощупал себя, одежда вся изодрана, а сам, вроде как цел. Давай жеребца поднимать, тот ни в какую. Подергался, подергался и затих – дух испустил. Огляделся Ливнев, местность незнакомая. И солнце уже за виднокрай упало, вот-вот стемнеет совсем. Делать нечего, пошел было по конским следам обратно, рано или поздно, думает, выйдет куда, как вдруг увидал меж деревьев огонек. И не так, чтобы вдалеке, а вроде как совсем близехонько, будто кто свечой по воздуху водит. Ливнев покричал, да там не откликаются. Он за огоньком, огонек от него. Что, думает Ливнев, за ерунда такая, кто с ним шутить шутки вздумал. Разозлился он и кинулся вдогонку. Только и огонек от него, и будто дразнит, то поближе подпустит, то вдаль умчится. Сосенки заскорузлые царапают, чавкает под ногами болотина, а Ливнев и не думает погоню прекращать. Когда провалился по пояс в бурую жижу, тогда только опомнился. Насилу выбрался и тут только заметил, что кругом лесная чащоба, и не видно ни зги. Содрал с себя Ливнев мокрую одежку, отыскал место посуше, да принялся кое-как ночь коротать. Хоть на дворе уже и сентябрь стоял, а ночи теплыми выдались. Начал Ливнев потихоньку кемарить. Только не тут-то было. Поднялся среди деревьев ветер не ветер, треск не треск, будто ходит кругом кто-то агромадный, стонет, ухает и, вроде как, в ладоши хлопает. Рассказам про нечистую силу Ливнев никогда не верил, считал их выдумкой от первого слова до последнего. А тут один, в ночном лесу, и не в такое поверишь. Вжался в землю ни жив, ни мертв, да так и пролежал до рассвета, глаз не сомкнув. Лишь забрезжило, вскочил, выломал дрын покрепче, и стал из болотины выбираться. Приметил солнышко по левую руку, и двинулся в путь – авось, выберется куда. Вскоре и следы чьи-то отыскал, шагать веселее стало. Шел, шел, уж и к полудню дело приблизилось, а болото не кончится никак. А следы наоборот, будто свежее стали. Смекнул Ливнев, что дело здесь не ладно. Засек сосенку повычурнее – ветви у нее затейным узлом переплелись, да еще и для верности кору ногтем снял. Так и есть, через некоторое время опять к той сосенке вышел. Глядит – его зарубка. А солнце как было слева, так и осталось… Тут Ливнева в жар кинуло. Присел он на поваленное бревно, не знает, что и думать. А тут и голод о себе знать дает, потому как пообедал Ливнев хоть и плотно, зато вчера. Пошарил он по карманам, отыскал сухарик, только хотел погрызть, слышит, кто-то сзади и попросил:
– Дай! – тоненьким таким голоском, протяжным.
Оглянулся Ливнев и обомлел. Стоит позади чудо ростом повыше него, все то ли во мху, то ли в водорослях, и глазищами смотрит. Глазища те, вроде как человечьи, только огромные, аж жуть. И ни рук, ни ног у существа нету. Чем же, Ливнев думает, оно сухарик-то возьмет? И жутко на душе, и в то же время разобрало Ливнева озорство.
– Лови, – говорит, – кушай на здоровье.
Тут захохотало что-то над ним, заухало. Отвлекся Ливнев на миг, глядит, а перед ним уже не чудище, а самая обыкновенная сосна. Тогда Ливнев палку в отбросил, да как задал стрекача, дороги не разбирая. Бежал от этого треклятого места сколько мог, покуда ноги от усталости не подкосились. Плутал Ливнев по лесу еще несколько дней, сколько, и сам вспомнить не мог. Питался клюквой и сырыми грибами. Стали ему от голода голоса слышаться разные, да видения приходить. Как-то под вечер свалился от усталости, не держат ноги, хоть помирай. Да и видит, будто склонилась над ним девушка. Сама молоденькая, хорошенькая, в волосы цветы вплетены. Глядит – улыбается. Пока раздумывал Ливнев, морок ли это, явь ли, стала его девушка за руку тянуть, поднимать стало быть. Из себя она щупленькая, росточком Ливневу по плечо, а сильная не по-женски, тащит Ливнева на себе, хоть бы что, а весу-то в нем немало. Вывела она не к деревне, не к людям, а к избушке, что прямо посреди леса стоит. Избушка та крохотная, чуть поболе собачьей будки, об одном оконце, крыша дранью покрыта, старой, сплошь мхом да лишаями поросшей. Пока маялся Ливнев в горячечном бреду, помнился ему смутно низкий потолок из неструганных досок, развешанные повсюду коренья и травы в пучках, широкая лавка, устланная пахучим сеном, жар от печи, да горькие настои, которыми потчевала хозяйка. Звали ее Оксана, жила она одна, коли не считать черного, как уголь, кота, да козу. С малых лет воспитывала Оксану бабка. Здесь же, в лесу учила грамоте и ведовству, пока сама не захворала и не померла. Говорила Оксана, будто умеет понимать язык зверей и птиц, будто может наговоры творить, порчу снимать, да варить разные снадобья предназначения и свойства самого разнообразного. За этим к ней и наведываются крестьяне из деревни, что верстах в пяти будет. Кому приворотного зелья, кому отворотного, у кого скотина захворала, кого домовой изводит. В оплату сукно приносят, соль, муку, да разные разности о которых попросит ведунья. Поведал ей Ливнев про свои мытарства и просит, истолкуй мне, мол, по-своему, что со мной приключилось. Оксана расспросила преподробнейше как чего, а после и говорит, что коня его испортил луговой, не по нраву ему, видать, пришлись господские охотничьи забавы. И тут, значит, свезло Ливневу в первый раз, потому как мог он убиться запросто. Второй раз свезло Ливневу, когда он погнался за бродячим огоньком, чего, даже дети малые знают, делать нельзя. Утопил бы его озорник в болоте и поминай, как звали. А после, это леший ухал и стонал над ним всю ночь, он же и водил кругами по лесу. А нужно-то было всего ничего, взять, да и вывернуть наизнанку всю одежку, тогда бы отстал лешак. Сухарик у Ливнева просила кикимора, откупился он, стало быть, тем, что не растет в лесу. Видно, кикимора и отпустила его из замкнутого круга. Это был третий раз, когда Ливневу улыбнулась удача. Слушает Ливнев, смотрит в глаза ведьмины зеленые и не знает верить или нет. С одной стороны околесица полная, а с другой, как то уж больно складно все выходит. Долго ли, коротко ли, оклемался Ливнев и собрался поутру уходить… И не мог он сказать, что тому виной, то ли приворожила его Оксана к себе, то ли сама по сердцу пришлась, без всякого приворота, а только последнюю ночь провели они вместе… Рассказала Оксана, как до деревни добраться, вышла на рассвете Ливнева проводить, а сама глядит в сторону, чтобы слез не показать.