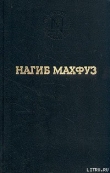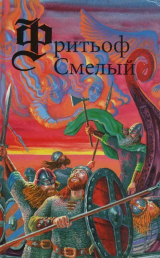
Текст книги "Фритьоф Смелый"
Автор книги: Эсайас Тегнер
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Пусть Свеи недра гор дары вдвойне дадут,
Пусть блещет урожай, леса, как ночь, цветут...
Все силы рек, ручьев природа пусть сольет, —
И Швеция в себе Финляндию найдет!
Если в опубликованной Шведской академией и премированной высшей наградой редакции поэме «Свеа» доминирующим мотивом является эпическая покорность перед совершившимися насилием, то, по свидетельству друга Тегнера епископа Агарда, «целый ряд прекрасных, величественных строф в этой патриотической поэме с резкими выпадами против России были Академией выброшены, как места слишком возмутительного характера». В той форме, в которой поэма была представлена на конкурс в Академию, поэма была явно проникнута чувством реванша и призывала Швецию к оружию против России, пока еще есть время:
«Еще ты можешь мужеством дать миру удивленье,
И честь еще спасти свою, хотя б в своем паденьи...»
К союзу Бернадотта с Александром I Тегнер вместе с большинством передовой шведской интеллигенции относился с нескрываемой ненавистью. Пример Польши, писал Тегнер, доказал, что «гораздо опаснее иметь «государство казаков» в качестве покровителей, чем открытых врагов». Однако Тегнер подчинился совету и нажиму Академии и переделал свою «Свеа» в духе мирного строительства вместо воинственного реванша. Но это не радовало Тегнера. Его радость признанного Академией поэта и шумный успех у публики были отравлены тем, что ему пришлось, по его выражению, «перешивать и ставить на «Свеа» заплатки». В своей ненависти к русским он был непреклонен, и не потому только, что они отняли Финляндию, а потому, что для него «царское государство было символом вечного варварства, было страной, в которой вечно царит бесправие и насилие, страной, в которой еще нет граждан, а лишь господа и рабы, которых можно покупать подобно любому скоту». В русских он видел народ с внешней оболочкой образования, «в сердцах которых глубоко сидит варвар», и страна царизма, по мнению Тегнера, опасна не только для шведов, но и для всей европейской культуры. «Александр I, – пишет Тегнер, – главная опора мракобесия, явление самого подлого характера, какой мне только приходилось встречать в истории». Дружба Карла Юхана с «казаком» вызывала в Тегнере чувство глубокой ненависти. По поводу же войны с Данией, начатой Бернадоттом, Тегнер пишет, когда Шведская академия просила его написать соответствующее стихотворение, в 1813 году своему другу Адлербету: «Против бедных датчан я ничего не могу писать. Это несчастный народ, который; вот уже в продолжение многих лет не делал нам ничего худого. Сможем мы силою отторгнуть Норвегию, было бы без сомнения не плохо, но подобное завоевание у беззащитного народа вряд ли воспоет честный человек. Вот если война обернется против нашего заклятого врага, я с радостью начну писать. Я рожден в ненависти к варварам и надеюсь независимо от модных софизмов умереть с нею». Принужденный написать приветствие по поводу годовщины победы над датчанами, Тегнер в стихотворении, озаглавленном «Настоятельно принужденное приветствие офицерам в годовщину битвы при Борхнёфте» («Efter mycket nodgande till nogra officerare pa arsdagen av slaget vid Bornhoft»), иронически заканчивает:
Итак, почтенные, годичный срок проплыл, —
А дело шло чертовски жарко
Для офицеров и кобыл, —
Так пей, кто хочет, эту чарку!
Ненависть к «заклятому врагу» никогда не оставляла Тегнера. Даже на склоне своих лет, когда Тегнер из радикала-разночинца превратился в консерватора-епископа, в 1833 году в стихотворении «Стрелок» («Skytten»), написанном по поводу открытия стрельбища в г. Кристианстаде[18]18
Провинциальный город шведской южной провинции Сконэ.
[Закрыть], говорит о том, что:
Высока игра, прекрасна, —
Бьем мы дичь из края в край...
Мимо бить тогда – опасно...
Эй, охотник, – не зевай!
Поэма «Свеа» была принята восторженно всеми кругами шведского общества и получила большую премию Шведской академии. Первый биограф и современник Тегнера, поэт Ф. М. Францен (1772-1847), говорит об этом произведении, что «оно замечательно не только по своему высокому патриотизму и по эпической красоте, но и по внезапной перемене формы в середине его. От александрийского стиха, исполненного той многозначительной силы и той тихой, но постоянной гармонии, которых требует этот размер, поэт, повинуясь мгновенному увлечению, вдруг переходит к дифирамбу и, соответственно богатому разнообразию самого предмета, извлекает из арфы своей разнообразнейшие звуки. Перед нами встает поэтическое видение, где баснословные образы древнего Севера служат только оболочкой современных дум, чувствования й надежд». Поэма «Свеа» появилась как раз в разгар бешеной борьбы литературных течений – «академизма» и «фосфоризма». Разрыв академической формы александрийского стиха пламенным дифирамбом, живые, яркие и страстные образы, вплетенные в грустные лирические размышления, – как все это было непохоже на эпическое спокойствие академистов и как в то же самое время непохоже на трансцендентную туманную поэзию романтиков-«фосфористов»! Францен правильно констатирует: «Встречающееся в стихотворении «Свеа» соединение обоих родов поэзии, хотя, быть может, и неумышленное, показывает, как думал Тегнер относительно раскола, возникшего тогда на шведском Парнасе. Не унижая старой словесности, он сам приготовил новую, но никогда не приставал к «фосфоризму». Вот его собственные слова: «Немецкие теории с господствовавшею в поэзии таинственностью были мне противны. Переворот в шведской поэзии считал и я необходимым, но его можно и должно было произвести более самостоятельным образом. Новая школа казалась мне слишком отрицательной, а ее критические выпады – слишком несправедливыми. Поэтому я в войне не принимал участия, за исключением кое-каких шуток, которые я в письме и на словах позволял себе».
«Свеа» сблизила Тегнера, с одной стороны, со стариками из Академии, в Несторе же старых «густавианов», маститом поэте Леопольде (1756-1829), он обрел искреннего друга и почитателя; с другой – заставила «фосфористов» чутко прислушиваться к нему и несколько умерить свои нападки на возможность использовать старые академические формы для отражения идей современности. Однако взаимоотношения Тегнера с «фосфористами» оставались на всю жизнь обостренными. В эпиграмме «Металличность» («Metalliteten», 1815) Тегнер зло осмеивает манерность и туманность «фосфористов».
Природы ухо – есть металл:
Клинг-клингелли-кланг!
Язык как отзвук духа стал:
Плинг-плингелли-планг!
Философ – головой – металл:
Клинг-клингелли-кланг!
Звенящий бубенец – германским эхом стал:
Плинг-плингелли-планг!
Для Тегнера мир, в котором царят реакционные и упадочные туманные философские идеи шеллингианства, должен быть уничтожен. Свое саркастическое новогоднее стихотворение на 1816 год («Nyaret») Тегнер заканчивает:
Ура! Религия – есть иезуит, —
А якобинец – людское есть право...
И ворон бел, и вольный мир открыт, —
И – да здравствует папа и дьявол!
Поеду в Германию, – учиться у мудрых поэтов
Искусству творения там злободневных сонетов:
С новым годом, – с мраком и убийством,
С ложью, глупостью и суетой!..
Надеюсь, нашу землю ждет твой выстрел —
Своей ее ты пулей удостой...
Она, как многие, полна тревоги быстрой, —
Но усмирит ее – в упор твой выстрел...
Ближе всего был Тегнеру «Готский союз», хотя он никогда не мог полностью согласиться с ультранационалистическими тенденциями Рэфа, мечтавшего о кулачном праве средневековья и противника культурных завоеваний человечества, следовательно, являвшегося как бы предшественником современного фашизма.
В 1812 году Тегнер, не достигший еще 30 лет, получает в Лундском университете самостоятельную профессуру по греческой словесности и в виде побочного дохода по примеру большинства профессоров – «пребенте», т. е. пасторский приход с обязательным посвящением одновременно в пасторы. В продолжение многих веков эта традиция при шведских университетах была формой контроля и «духовного» влияния на профессуру, на которую передовые молодые профессора смотрели лишь как на необходимое зло, бороться с которым, однако, не решались
V
Ближайшие двенадцать лет (1812-1824) являются в жизни молодого блестящего профессора Эсайаса Тегнера самым ярким, самым жизнерадостным и плодотворным периодом в его творчестве. Шумный успех «Свеа» и общее признание исключительного таланта молодого поэта окрыляют Тегнера, и он приступает к созданию своих больших поэтических полотен, поставивших его в ряды мировых классиков начала XIX века.
«Готский союз» выбирает Тегнера в том же году своим действие тельным членом, и он становится активнейшим сотрудником журнала «Идуна». Литературное течение, образовавшееся вокруг «готов», представляется Тегнеру как средостение между французским «академизмом» и немецким «фосфоризмом».
Выросшие, в сущности, на общей почве романтизма, «готы», так же, как и «фосфористы», оперируя главным образом национальным прошлым, стремятся отразить в своих произведениях личность, противостоящую обществу, личность исключительную. Это преклонение перед личностью вполне отвечало мыслям Тегнера, впитавшего в себя весь пафос подымающейся буржуазии, но он ищет своего героя не только в прошлом, для него в настоящем таким героем является Наполеон. Тегнер не разделяет ненависти «фосфористов» к Наполеону. Идея «Священного союза» ему противна. Все его симпатии на стороне Наполеона. Еще в 1799 году в бытность у Мюрмана в качестве домашнего учителя Тегнер вспоминает, что «при распространившемся тогда слухе о смерти Наполеона в Египте я написал большую лирическую поэму. Мюрман, большой поклонник Наполеона и вообще героев французской революции, сам писавший стихи, с большой похвалой отозвался об этом произведении». В 1813 году Тегнер публикует своего «Героя» («Hehlten»), в котором оправдывает «победоносный полет орла в лучах сияющего солнца».
Видишь, том, где мощь большая,
Вечен взмах могучих крыльев.
Виноват ли в том орел?
Голубь клюнет, напевая,
Он же рвет добычу силой,
Там, где солнца путь прошел...
Разве буря, воя, спросит,
Или спросит гром гремящий,
Над землей неся свой гул,
Коль цветы, сломав, уносит
Иль влюбленных пару в чаще
Неожиданно спугнул?
Что старо, – уходит в вечность,
И знакомое ученье
Ни к чему нам повторять...
Все уходит в бесконечность
И должно из разрушенья
Вновь здоровым расцветать!
Когда Наполеону удалось бежать с острова Эльбы и тем самым создать угрозу Венскому конгрессу, Тегнер пишет в 1815 году «Пробудившегося орла» («Den vaknande ornen»), в котором с радостью приветствует «грозного орла, парящего над стаей воронов». «Берегитесь, – восклицает Тегнер, – берегитесь, мелкие стервятники, – мститель близок, он прекратит ваш разбойничий дележ!»
Как ночь, расправляет он крылья ветров,
Молньеносные бури неся...
И страх, над вороньею стаей вися,
Твердит: – берегитесь, вам, хищники, мстя,
Судья кончить пир ваш готов!
Над трупом Европы спокойно воссев,
Вы рвете кусок за куском, —
Порою лишь каркнув тупым голоском,
Что ворон, мол, бел, что свободно кругом...
Таков ваш вороний напев!
Ну что ж, защищайтесь!
Часы подошли...
Посмотрим, на что вы годны...
Он, подвигов сын, он грядет с вышины.
Шумящие крылья все ближе слышны...
И когти, как круги Земли!
Лети, королевский орел! Ты умел...
Сверши свой полет еще раз!
Чтоб дрогнула мразь, что на тронах сейчас,
Чтоб тот, кто крылатым стал, взвился в свой час, —
И к солнцу, – да, к солнцу взлетел!
В этом же восхищении перед трагической судьбой героя проходит у Тегнера его преклонение перед «Карлом XII» («Karl XII», 1818).
Бодростью и радостью проникнута вся его поэзия этого периода. «Песнь к солнцу» («Song, till solen») в 1817 году и в особенности «Песнь» («Sangea») в 1819 году являются лучшими отражениями этого жизнеутверждающего начала у Тегнера.
Не знает он преданий темных,
Без веры, без надежд, без сил,
Не знает жалоб, нежных, томных,
Задач, каких бы не решил...
Ему поток желанен шумный,
В ширь моря мчащийся поток,
И ветерок в игре раздумной,
В цветах могилы ветерок...
Им чтимый храм в огне сияет, —
У стен его ручей журчит...
В поэта силы он вливает
И глубь времен к нему их мчит...
И лечит он сердца больные, —
Поток, исполненный чудес.
Быть может, слезы в нем земные?
Нет, – он лишь зеркало небес
Итак, – хочу, коль я достоин,
К напитку чудному прильнуть, —
Здоров, бесстрашен и спокоен, —
На мир больной хочу взглянуть.
Не может петь златая лира
О муках, что я создал сам, —
Не для поэта горе мира, —
Он отдан ясным небесам.
Покуда в звездный свежий вечер
Отцам сияет небосвод
И северный, бодрящий ветер
Для деток Свеи песнь поет, —
Пока хранит певучий
Север Звучанье дивных голосов, —
И в шведском, доблестном напеве
Звон горных далей и лесов!
В это время Тегнер работает над созданием двух своих лучших произведений: «Саги о Фритьофе», первые девять песен которой появились в журнале «Идуна» в 1820-1822 годах, и «Акселя» (там же в 1822 году).
Еще в детстве Тегнера увлекали героические образы скандинавской «Эдды». Романтика, воскресшая на стыке двух эпох, еще с большей силой возвращала Тегнера к изучению средневековой поэзии, но его увлекали не проникнутые мистической фантастикой индийские поэмы и кельтские сказания, не призрачная туманность мистических легенд позднейшего христианского средневековья, как это увлекало «фосфористов», а жизнерадостная яркость и ясность скандинавской «Эдды», проникнутой здоровым реализмом живого человека. Известная русская переводчица «Эдды» С. Свириденко совершенно правильно характеризует «Эдду»; «Это мир реальной жизни, лицо подчас грубой, но могучей человечности, здоровой силы и бурных страстей, мир деятельной воли и мужества. Удары боевых мечей о крепкие брони, гордый бег корабля к чужим берегам за добычей и славой, шипение пенного меда в тяжелых заздравных кубках, скрип зерна под увесистым ручным жерновом, – вот образы и обстановка этих сказаний: битвы, походы, тяжелый труд, опасные охоты, шумные пиры... Все сильно и ярко, все дышит жизнью».
И к этой любимой и близкой своему миропониманию теме подходит зрелый поэтический талант Тегнера. Он останавливается на героическом образе Фритьофа, но присоединяет к нему черты героев, взятых из других саг и «Эдды», пропуская все это через призму современного ему мировоззрения, именно такого, какой нужен для интересов подымающейся буржуазии; ведь Фритьоф в древнескандинавской саге сродни капиталистическому буржуа. «Фритьофу, – говорится в XI главе саги, – легко доставались богатство и почет, куда он ни ездил. Убивал злодеев и свирепых викингов, но бондов[20]20
См. примечания к Песне 1,139 – «Сага о Фритьофе».
[Закрыть] и купцов оставлял в покое. Был он тогда снова прозван Фритьофом Смелым. У него собралась большая надежная дружина, и стал Фритьоф очень богат движимым имуществом». В поэтической обработке образа Фритьофа, особенно в последней его части, есть сильное влияние рационалистической лютеранской морали, этого специфического буржуазного духа.
«Сага о Фритьофе» является кульминационным пунктом в поэтическом творчестве Тегнера. Она доставила ему мировую славу. «Сага о Фритьофе» в короткое время была переведена на все европейские языки.
Я. К. Грот, первый переводчик этого исключительного памятника первой четверти XIX века на русский язык, в своем предисловии указывает на многочисленные переводы на немецкий, французский и английский языки. Первое русское издание, вышедшее в 1841 году, было встречено всей русской критикой, в том числе и Белинским, с большим сочувствием.
70-летний ветеран Шведской академии, слепой поэт Леопольд, в своем письме к Тегнеру пишет: «Я без ума от Фритьофа, влюблен в него больше самой Ингеборг. Говорить о том, что Фритьоф оставляет за собой все, что было в шведской поэзии до сих пор, было бы пошлостью... Новая эра открывается для шведской поэзии, и я могу сказать словами Симеона: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои свет во откровение языцев и славу людей твоих...»
Когда Тегнер заканчивал «Сагу о Фритьофе», он мечтал дать в поэтической обработке средневековую легенду «О великане Фине и епископе Абсалоне», в которой представлена была бы борьба язычества и христианства, но это произведение, начатое в 1820 году, не было им закончено, так как средневековое христианство было Тегнеру чуждо. Из оставшихся набросков языческих образов, особенно дочери великана, прекрасной Герды, скорее проглядывают симпатии поэта к полнокровному, жизнеутверждающему «греховному» началу язычества, чем к бледным, морализующим аскетическим обликам служителей церкви.
Лирической поэмой «Аксель», посвященной академику Леопольду, Тегнер отдал долг байронизму. Темой этой поэмы взята любовная история участника походов Карла XII, храброго «карловца» Акселя Руса и его русской невесты Марии, слышанная якобы Тегнером из уст старого «карловца». Поэма была восторженно принята всеми без исключения литературными кругами Швеции. Эта поэма с ее лирическим грустным концом, так не свойственным жизнерадостному Тегнеру, свидетельствует о глубоких идеологических сдвигах, происходящих в нем. Его бурная, полная страстных порывов жизнь, его постоянные любовные увлечения не укладываются в рамки буржуазно-мещанского быта провинциального университетского города. Тегнера нужно угомонить, университетскую молодежь нужно оградить от разлагающего влияния мятущегося, беспокойного профессора. Это Тегнер чувствовал, н нотка разочарования, нотка пессимизма проникает в радостную гармонию тегнеровской лиры. К этому присоединяются также и экономические заботы. Кроме семьи, Тегнер содержит целый ряд своих обедневших родственников и родственников своего воспитателя Брантинга. Этим кончается второй, самый светлый, самый счастливый в творчестве Тегнера период.
VI
В 1824 году произошла большая перемена в жизни Тегнера. Его назначают епископом в провинциальный город Векшё[21]21
Главный город провинции Смоланд (Smaland) на юге Швеции.
[Закрыть]. Об этом назначении Тегнер пишет в письме своему другу детства: «Что касается моего назначения епископом, то я прежде всего должен категорически заявить тебе, что я ни прямо, ни косвенно не желал этого назначения». С большой болью и грустью он принужден был согласиться на это, к этому обязывал его принятый пасторский сан. Грустно было ему покидать молодежь, друзей, свою науку и посвящать себя делу, которому он по своему мировоззрению был чужд. Многие возмущались таким назначением и высказывали свои сомнения по поводу возможности «поставить Пегаса под ярмо». Всем было ясно, что Тегнер представляет «весьма сомнительный материал для церковного прелата». Ортодоксия была ему чужда, и никогда он не мог подчинить разум вере, В письме к одному из своих друзей, вскоре после своего назначения, он откровенно пишет о «правоверных рачителях веры и поповских болванах, оценивающих свою прославленную религиозность слишком дешево: ведь, в самом деле, нельзя же сомневаться в том, чего ты совершенно не знаешь. Они поглощают догмы, как страус камни, и эту дегустаторскую способность они называют религиозностью и немало хвастаются тем, что обладают значительно большим, чем рассудком».
Экономически епископат давал больше, чем профессура, но для малопрактичного Тегнера система оплаты немногим способствовала улучшению его материального положения. Епископское жалованье высчитывалось натурой с доходов земельных наделов. Ему пришлось стать не только хлеботорговцем, но и землевладельцем, пришлось, по его словам, «закупать скот, семенные зерна, плуги, бороны, удобрение и прочее, – все это относится и окладному управлению религии в нашей стране... Все это отнимает у меня время, так что ничего не остается для плодотворных занятий». Обращаясь за помощью по покупке лошадей к своему зятю, он не без сарказма пишет: «Мне не надо лошадей черной масти, терпеть не могу поповского цвета даже на лошадях. Мне нужна пара новых, мои слишком стары, свыше двадцати лет, возраст, вполне простительный для замужней женщины, но не для кобылы. Да и к тому же они слепы, как члены риксдага, и хромают, как церковная проповедь».
Окружающее его духовенство в епископате представляло собою, по словам Тегнера, настоящие авгиевы конюшни. И он жестокой рукой принялся за чистку этого духовенства, «пропитанного полным невежеством и свинством», с искренним желанием превратить их из «невежественных пьяниц в цивилизованные личности». Эта работа убивала поэта Тегнера и создавала вокруг него нездоровую атмосферу. «Мне удалось, – пишет Тегнер своему другу Магнусу Лагерлёфу в 1833 году, – сместить ряд отчаянных пьяниц, и то после целого ряда всяческих волокит и крючкотворств. В наше время легче низложить короля, чем спившегося попа. Само собой понятно, что я этими и другими своими мероприятиями по внедрению порядка нажил себе массу врагов, но с этим приходится мириться».
Неугомонный, всегда оппозиционно настроенный к окружающему, свободный в своих выражениях, далеко не религиозно-ханжеского порядка, легкомысленный и влюбчивый, Тегнер действительно являлся, по выражению одного из современников, «Саулом среди пророков».
Прекрасный портрет Тегнера-епископа дает талантливый шведский поэт конца XIX века Густав Фрёдинг (1860-1911) в своем стихотворении «Его высокопреподобие епископ в Векшё»:
Епископский пир уж в конце. Затихает...
Епископ вдруг вилкой в стакан ударяет, —
И снова налил он в бокал свой вина.
На друга взглянув своего Хеурлина...
Молчат попадьи и молчат капелланы,
И вздохи почтительны и полупьяны, —
И попьих утроб тихо вздохи летят,
И все капелланы в тарелки глядят.
Над залом, как будто, туман поднялся, проплывая,
Все благоговейно внимают, речей ожидая,
Одну из речей, где епископ возвысит престол,
Где голосом звонким и тоном он всех превзошел.
Но Феб, лучистый Аполлон, стремится в путь,
Чтоб в Олимпийской колеснице на Север заглянуть, —
Лучи над ним горят божественней и краше,
Их блеск горит вокруг епископских кудряшек, —
Епископу стиль древних греков даря,
Вокруг благородного лика горя...
Встает с загоревшимся взором епископ, —
Не верой, а дерзостью полон язык, —
И полон он соли, к аттической близко,
А стиль – из Афин сюда прямо проник...
Сильфид обнаженных, легко, шаловливо
С епископских уст низбегает игриво
Анакреонтический хор...
И шествует муза истории, Клио,
И девять сестер, всем искусствам родные,
И Эроса всеми командует взор!
Слова о свободе, дворянстве, что чает
Героев и подвигов, – луч освещает, —
Как солнечный отблеск кругом весь мир, —
О боге, кто в танце, в стихах, в винограде,
О лаврах побед, победительском взгляде,
О женских суставах, в грации пир...
О духе, материи, боге едином,
О том, что он всюду царит господином,
О жизни, как счастьи, победе везде,
О папе, что нам помогает в беде...
Это звучит, словно хор, бесконечно,
Это – смычок, словно движимый вечно, —
Рукой Аполлон его движет в игре,
Он в воздухе слышен, над миром гремит он,
А в парке кентавры стучатся копытом
Под пляски менад на песчаном дворе...
И жители леса выходят из чащи,
И нимфы и фавны толпою шумящей,
Смеясь над святыми, сквозь окна глядят...
Епископ смолкает, и в сильном смущеньи
Сидят попадьи, – без речей, без движений, —
С открытыми ртами блаженно сидят.
Так вечер проходит под шопот по залу:
«Священный епископ подвержен бокалу...
Коль так, наш епископ свихнется помалу»...
Так в Смолянде слухи, как по ритуалу,
Идут – и готовы все к горю-скандалу...
Среди пошлости провинциального городка Тегнер искренно увлекается красивыми женщинами окружающего его общества. Он влюбляется, сходится, расходится, переживает глубокую душевную драму с тем, чтобы снова проделывать то же самое. Как будто аскетизм его молодых лет находит выход в этих вспышках страсти старости. Мартина фон Шверин, дочь богатого купца, жена блестящего офицера и помещика, Ефросиния Пальм, жена консисторского чиновника, девятнадцатилетняя Эмилия Ульфсакс, жена врача Сельдена, голубоглазая жена коммерц-советника, Хильда Вийк, и ряд других женщин – вот объекты эротических увлечений епископа.
Известный шведский карикатурист Фриц Дардель, который восемнадцатилетним юношей временно жил в доме Тегнера в 1835 году, отмечает в своем дневнике: «На меня он произвел сильное впечатление. Редко я видел более гениальный образ. Говорят, что он в интимном кругу весьма общителен, особенно с дамами, к которым питает определенную склонность и в разговоре с которыми позволяет себе рискованные выражения и двусмысленности, от которых слушательницы краснеют. Во всяком случае, святошей его назвать нельзя – его манеры скорее поэта, чем прелата».
Тегнер тяготился епископской мантией. Ему было ясно, что он совершил страшнейшую ошибку в своей жизни. «Я нахожусь в ложном положении, – пишет Тегнер в 1830 году, – и считаю всю свою жизнь погибшей». Он все реже и реже возвращается к поэтическому творчеству. Это все или поэмы по случаю всяких торжественных актов, на которых Тегнеру по долгу службы приходится выступать, застольные спичи и особенно элегии на смерть своих друзей и выдающихся людей своего времени, или же полные пессимизма и безысходной тоски небольшие стихотворения. В элегии «Меланхолия» («Mjaltsjukan», 1828), написанной октавами, несчастный Тегнер с глубоким чувством скорби говорит о переживаемой им душевной трагедии:
Тогда предстал внезапно черный рыцарь,
И сразу в сердце властно он проник,
И стало все под небом, как в темнице,
Угасли звезды, мглист стал солнца лик...
И вешний день стал, словно осень, тмиться,
Листва желтей, – и пышный цвет поник...
И в чувствах умерла вся жизненная сила,
И молодость увяла, как могила...
Тебя, о род людской, обязан воспевать я, —
Что ты правдив, – что ты совсем господний лик...
Но все ж о лжи в тебе я знаю два понятья:
Мужчина – женщина, – две лжи я знать привык...
Честь, верность, – песнь звучит, пока живут объятья:
Легко звенит та песнь, покуда лжет язык...
Сыны небес! Один вам памятник изваян:
На зыбкой грани двух времен, —
Правдивое клеймо на лбу, что дал вам Каин.
Скажи мне, страж, – пройдет ли ночь немая,
Иль никогда конца не будет ей?
Полуобглодан месяц, проплывая...
За ним плетутся звезды, все грустней...
Пульс быстр, как будто юность отбивая,
Но не убить ему страданий дней...
Прервать мой долгий пульс ничто не вольно...
Как окровавленному сердцу больно!
Что? Сердцу? Нет, в моей груди нет сердца!
В ней урна с пеплом жизни включена...
О, сжалься ты, земная мать, о, Терта, —
Пусть урна будет та погребена...
Прах улетит... Земля же милосердна,
Пусть боль земли землей исцелена...
Пусть дней подкидыш жизни путь отметит, —
И, может быть, отца за солнцем встретит.
Таким образом, из жизнерадостного, всегда оппозиционно настроенного, дерзкого и боеспособного представителя восходящей буржуазии Тегнер обращается в ипохондрика, лишенного жизнеутверждающей радости пессимиста, не верящего в борьбу и победу бесхребетного представителя межеумочной интеллигенции, оторвавшейся от своей почвы, но и не примкнувшей целиком к мировоззрению уходящего феодально-аристократического слоя. Тегнер является как бы олицетворением водораздела, в котором встречаются две эпохи, два мира. В своей элегии «Могила Наполеона» («Napoleons graf») Тегнер находит образное выражение такому положению:
Среди потухших жерл вулканов,
На зыбкой грани двух времен, —
Как столп границ, в эпохи канув,
Его прах в урне водружен!
Единственный раз в этот период у Тегнера прозвучал бодрый голос старого бойца. Это случилось в его знаменитой речи при посвящении новых магистров в Лундском университете в 1829 году, когда он в качестве «промотора»[22]22
Promotor – назначенный университетом профессор, руководящий церемонией возведения в ученые степени.
[Закрыть] возложил лавры на голову присутствовавшего датского поэта Эленшлегера, первого идеолога «готов» в Скандинавии. Приветствуя «короля северных поэтов», Тегнер призывал здесь к скандинавскому единению и тем самым положил основу развившемуся в 60-х годах политическому движению «скандинавизма».
Воспитанный в духе воинствующего рационализма французских «просвещенцев», радикал в политических своих воззрениях, Тегнер соприкоснулся с реальной политикой лишь в период своего епископства, когда ему пришлось по должности быть членом риксдага[23]23
Высшие духовные лица входили по должности в состав духовной палаты риксдага.
[Закрыть] и здесь столкнуться с политиканством парламентских партий. Ему, приверженцу «просвещенного» абсолютизма лучшего периода Густава III, была не по нутру, казалось, близко и нему стоящая, крепнущая либеральная партия; он сразу же охладевает к конституционным формам правления, он не хочет и не может понять, по его выражению, «многоголового, но безголового правления». Ему чужда резкая радикальная критика окрыленной французской июльской революцией 1830 года либеральной буржуазии. Он пишет: «С тех пор как королевская шведская свобода начала выражать свои мысли словами «лодочных нимф»[24]24
Лодочницы стокгольмских перевозочных лодок были известны своей грубостью.
[Закрыть] я не могу быть больше ее любовником». Несмотря на то, что он никогда не мог примириться с Карлом XIV Юханом из-за его русофильской политики, Тегнер выступает на защиту престарелого короля, когда либеральная оппозиция пошла на штурм королевской камарильи. Особенно обостряются отношения Тегнера е руководящей либеральной прессой в 1834 году, когда он позволил себе в Шведской академии в приветственной речи по поводу избрания Агарда академиком резкие выпады против либерализма и нарождающегося демократического течения, которое «подобно гробокопателю, желает уравнять в одном прахе всех – и королей с их короной, и мыслителей, поэтов, ученых с их лаврами, и заурядного глупца с его свободой». В своем отходе от идеалов «просвещенцев» к мракобесию реакции, истокам современного фашизма, Тегнер доходит до отрицания всеобщего образования, за которое оппозиция подняла борьбу в риксдаге. Либеральная пресса не остановилась перед резким отпором, и популярность стареющего поэта в широких массах была поколеблена.
Период епископства, самый мрачный и полный глубоких внутренних коллизий, когда Тегнер то «сжигает то, чему поклонялся», то «поклоняется тому, что сжигал», совпадает е тяжелым душевным заболеванием. Еще в 1825 году Тегнер писал своему другу детства Лагерлёфу: «Вот уже некоторое время я страдаю от необычайно тяжелого, мрачного душевного состояния. Я опасаюсь за свой рассудок! Ты ведь знаешь, что в нашем роду в известном возрасте проявляется сумасшествие[25]25
Младший брат Тегнера и племянница были душевнобольные.
[Закрыть]. До сих пор оно проявлялось у меня в поэзии, в этой более легкой форме умопомешательства, но кто может поручиться, что оно всегда будет находить выход этим путем?..» В другом письме того же года, к своему другу посланнику Боркману, он пишет: «К счастью, скоро закончится постройка центрального госпиталя в Векшё, а он находится в ведении епископа». Консультациям врачей, указывавшим на болезнь печени, Тегнер не верил. Он говорит: «Непонятное беспокойство бросает меня из одного состояния в другое, ни на минуту не покидая меня. У меня нет покоя днем, нет сна ночью. Мое и ранее легко возбудимое воображение является теперь для меня постоянным мучителем. Одним словом: я болен и телом, и душою».