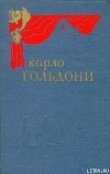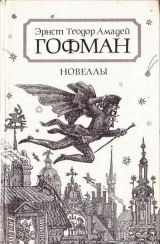
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
В ту пору в Генуе самый богатый банк держал французский полковник, вышедший в отставку вследствие тяжелых ран, полученных им в сражениях. Снедаемый бешеной завистью и ненавистью, отправился туда шевалье в надежде, что привычное счастье позволит ему погубить соперника. Полковник с наигранной шутливостью, обычно ему несвойственной, приветствовал его, объявив остальным игрокам, что наконец-то игра у них будет стоящая, ведь среди них присутствует шевалье Менар со своим пресловутым счастьем, вот когда закипит у них жаркий бой – единственное, что вносит в игру интерес и оживление.
И действительно, пока шли первые талии, шевалье Менару валила сильная карта, но, понадеявшись на свое безотказное счастье, он объявил «Va banque» – и в один удар проиграл значительный куш.
Полковник, бывший и в счастье и в несчастье равно невозмутим, на сей раз пригреб его деньги лопаткой со всеми признаками живейшей радости. С этой минуты счастье окончательно покинуло шевалье Менара.
Он играл каждую ночь и каждую ночь неизменно проигрывал, пока не спустил все, за исключением нескольких тысяч дукатов, хранившихся в ценных бумагах.
Весь тот день шевалье носился по городу и только, обратив свои бумаги в звонкую монету, поздним вечером вернулся домой. С наступлением ночи, забрав в карман золото, он приготовился уйти, как вдруг Анжела, видимо подозревавшая, что с ним происходит, упала к его ногам и, обливаясь слезами, стала заклинать его мадонной и всеми святыми опомниться, отказаться от пагубного умысла, не обрекать себя и ее на голод и нужду.
Шевалье поднял Анжелу, в горестном порыве прижал ее к груди и сказал сдавленным голосом:
– Анжела, милая моя голубка! Ничего не поделаешь, я вынужден совершить то, от чего отказаться не в моих силах. Но уже завтра – завтра кончатся твои мучения, ибо, клянусь всевидящим провидением, что правит нами, сегодня я играю последний раз! Успокойся же, милое дитя, усни, и да приснятся тебе новые светлые времена, прекрасная жизнь, которая принесет нам счастье!
Сказав это, он обнял жену и стремительно убежал прочь.
Два коротких промета, и он все, все проиграл.
Недвижим стоял он возле полковника, пустым остановившимся взором вперясь в стол.
– Что же вы не понтируете, шевалье? – обратился к нему полковник, тасуя карты и приготовившись метать новую талию.
– Я проигрался в пух, – отвечал шевалье с напускным равнодушием.
– Уж будто у вас ничего не осталось? – спросил полковник, меча следующую талию.
– Я – последний нищий, – отвечал шевалье голосом, дрожащим от ярости и горя. Он все еще неподвижно глядел на стол и не видел, что счастье переменилось в пользу понтеров.
Полковник спокойно продолжал метать.
– У вас есть красавица жена, – сказал полковник, понизив голос, не глядя на шевалье. Он тасовал карты для следующей талии.
– Что это значит? – вспыхнул шевалье. Но полковник снял колоду и промолчал.
– Десять тысяч дукатов или – Анжела, – сказал полковник, слегка оборотившись к нему и давая ему подрезать колоду.
– Вы с ума сошли! – выкрикнул шевалье. Но он уже достаточно пришел в себя, чтоб увидеть, как полковник теряет ставку за ставкой.
– Двадцать тысяч дукатов – против Анжелы, – сказал полковник негромко, перестав на мгновенье тасовать карты.
Шевалье промолчал, полковник продолжал метать талию – почти все карты ложились в пользу игроков.
– Идет, – шепнул шевалье на ухо полковнику, начинавшему новую талию, и поставил даму.
В следующую же раскидку дама была бита.
Скрежеща зубами, отошел он от стола и с отчаянием и смертью в душе облокотился на подоконник.
Когда игра кончилась, полковник с ироническим: «Ну, что будем делать дальше?» – подошел к шевалье.
– Вздор, все вздор! – вскричал шевалье, уже не владея собой. – Пусть вы разорили меня – надо быть сумасшедшим, чтобы вообразить, будто вы можете отнять у меня и жену. Мы не дикари, и жена моя не рабыня, отданная на произвол бесчеловечного господина, который волен продать ее или проиграть в карты. Но, разумеется, выиграй я, вы уплатили бы мне двадцать тысяч дукатов, равно и я потерял теперь право на свою жену, и я не стану ее задерживать, если она решит последовать за вами. Идемте же со мной и казнитесь, когда моя жена с негодованием отвернется от того, кто захочет увести ее как бесчестную любовницу.
– Как бы казниться не пришлось вам, – возразил полковник с злобной улыбкой. – Казнитесь вы, шевалье, ибо это вас отвергнет Анжела, вас, нераскаянный грешник, сделавший ее несчастной, и с радостью и восторгом бросится она в мои объятия. Это вы будете казниться, когда узнаете, что нас с ней связало благословение церкви и что наши заветные надежды наконец свершились. Вы меня называете сумасшедшим! Ха-ха! Узнайте же, шевалье, что меня, именно меня, невыразимо любит Анжела, узнайте, что я тот самый Дюверне, соседский сын, с кем она росла, и что мы связаны узами горячей любви, которые вы расторгли своими сатанинскими чарами! Увы, только когда я уходил на войну, поняла Анжела, что я для нее значу, – мне все известно. Она очнулась слишком поздно! Однако дух тьмы внушил мне, что я одолею вас за карточным столом, вот почему я предался игре – последовал за вами в Геную и всего достиг! Идемте же к вашей жене!
Уничтоженный, стоял шевалье под ударами тысячи разящих молний. Перед ним обнажилась роковая тайна, только теперь он постиг всю меру несчастья, которое обрушил на бедняжку Анжелу.
– Пусть Анжела, жена моя, решает, – пробормотал он глухо и последовал за полковником, который в нетерпении устремился вперед.
Когда они вошли в дом и полковник взялся за ручку Анжелиной двери, шевалье силою оттащил его от порога.
– Моя жена спит, – сказал он, – неужто вы нарушите ее сладкий сон?
– Гм, сомневаюсь, чтобы Анжела когда-либо сладко спала, с тех пор как вы уготовали ей столько безмерных страданий.
И полковник направился в спальню, но шевалье бросился к его ногам и в невыразимом отчаянии крикнул:
– Умилосердствуйтесь! Вы сделали меня нищим, оставьте мне по крайней мере мою жену!
– Вспомните, бесчувственный злодей, как у вас в ногах валялся старый Вертуа, но так и не растопил ваше сердце. Так пусть же вас покарает небо!
Полковник сказал это и решительно двинулся к двери. Одним прыжком шевалье опередил его, распахнул дверь, кинулся к кровати, где лежала его супруга, отдернул полог, крикнул: «Анжела, Анжела!» – склонился над ней, схватил ее за руку, вздрогнул, словно в смертельной корче, и завопил раздирающих голосом:
– Глядите, что вам досталось! Труп моей жены!
В ужасе подошел полковник к кровати – ни признака жизни – Анжела была мертва – мертва.
И полковник кулаком погрозил небу, глухо взвыл и убежал прочь. С тех пор никто его больше не видел!
Незнакомец закончил свой рассказ и, прежде чем потрясенный барон успел что-нибудь сказать, встал со скамьи и удалился.
Несколько дней спустя незнакомца нашли в его комнате, пораженного нервным ударом. Он лежал без языка и так и не пришел в себя до самой смерти, наступившей спустя несколько часов. Только по его бумагам установили, что этот человек, называвший себя просто Бодассоном, был не кто иной, как несчастный шевалье Менар.
Барон увидел указание свыше в том, что в недобрый миг, когда он был уже на краю гибели, небо послало ему во спасение шевалье Менара, и он поклялся не поддаваться прельщениям обманчивого счастья игрока.
По сю пору он свято верен своему слову.

Синьор Формика [285]285
© Г. Бергельсон, перевод, 1990.
[Закрыть]
Знаменитый художник Сальватор Роза приезжает в Рим, где его настигает опасная болезнь. Что с ним во время этой болезни происходит
О знаменитых людях любят говорить дурно, не заботясь о том, правдиво ли сказанное или нет. Такое случилось и с достославным живописцем Сальватором Розой, чьи яркие картины не могли не приносить тебе, благосклонный читатель, когда ты их рассматривал, чистейшую, ни на что не похожую радость.
Когда слава Сальватора Розы достигла Неаполя, Рима, Тосканы да и всех уголков Италии и когда художники, чтобы добиться успеха, старались подражать его своеобычному стилю, в это самое время коварные завистники стали распускать злобные слухи, дабы запятнать, забросать грязью доброе имя мастера. В былое время, так гласил их навет, Сальватор вступил в разбойничью банду, и позорному этому общению он якобы обязан дикими, буйными, причудливо наряженными фигурами, изображенными на его полотнах, как и мрачными, страшными дебрями, теми, говоря словами Данте, selve selvagge [286]286
Дикими лесами (итал.).
[Закрыть], в которых ему приходилось скрываться и которые он так достоверно запечатлел в своих пейзажах. Ему, и это было хуже всего, в глаза говорили, что он был замешан в безбожном кровавом заговоре, устроенном в Неаполе печально знаменитым Мазаньелло [287]287
Мазаньелло(Томмазо Аньелло, 1623–1647) – неаполитанский рыбак, в 1647 г. возглавивший восстание бедноты против неаполитанской знати и испанского вице-короля, управлявшего городом. На короткое время захватил власть, но вскоре лишился рассудка и был убит. Мазаньелло и его судьба послужили темой трагедии немецкого драматурга Кристиана Вейзе (1683).
[Закрыть]. О том, как все это происходило, рассказывали с мельчайшими подробностями.
Аньелло Фальконе [288]288
Аньелло(или Анджело) Фальконе(1600–1665) – ученик Риберы, батальный живописец.
[Закрыть], художник-баталист (так его называли), один из главных наставников Сальватора, воспылал огнем кровожадной мести, когда испанские солдаты в драке убили его родственника. Мигом скликал он кучку бесшабашных молодцов, большей частию художников, раздал им оружие и нарек их «Братством смерти». И в самом деле, они, как предвещало это страшное имя, сеяли повсюду смятение и ужас. Разбившись на группы, эти юноши целыми днями прочесывали Неаполь, готовые безжалостно заколоть любого попавшегося под руку испанца. Мало того! Они проникали даже в святые обители, чтобы убить там врага, которого заставил там искать убежища смертельный страх. Ночью же они отправлялись к своему начальнику, безумному, алчущему крови Мазаньелло, и рисовали его при свете пылающих факелов, так что вскоре многие сотни таких портретов наводнили Неаполь и всю округу.
И вот стали поговаривать, будто и Сальватор Роза был в числе этих убийц и средь бела дня усердно резал людей, а ночью с таким же усердием работал кистью. Правду говорит о нашем мастере кто-то из знатоков искусства, кажется Тайяссон [289]289
Тайяссон,Жан Жозеф (1746–1809) – посредственный живописец, автор книги «Наблюдения касательно некоторых великих художников» (1807). Далее Гофман почти дословно цитирует его описание картин Сальватора Розы.
[Закрыть]. На работах Сальватора лежит отпечаток горделивой необузданности, энергии причудливых замыслов и их воплощения. Не в сладостном очаровании зеленеющих лугов, цветущих полей, благоухающих рощ и журчащих вод открывается его взору природа, нет, она является ему в жути громоздящихся гигантских скал и бескрайних морских берегов или диких зарослей необжитых лесов, и внемлет он не шепоту предзакатного ветра и неумолчному шуму листвы, нет, до слуха его доходят лишь завывание урагана да грохот водопада. Когда рассматриваешь его дебри и этих мужчин столь необычного вида, дико блуждающих то в одиночку, то группами, невольно приходят на ум зловещие мысли. Здесь, думается, произошло леденящее душу убийство, там швырнули в бездну окровавленное бездыханное тело и т. п.
Пусть это так, пусть даже прав Тайяссон, когда утверждает, что Сальваторов Платон и, более того, святой Иоанн, предрекающий в пустыне рождение Спасителя, чуточку смахивают на разбойников с большой дороги; да, пусть все это так, говорю я, но ведь нельзя же по картинам судить об их авторе и полагать, что он, сумевший со всей силой изобразить дикое и ужасное, сам был диким и ужасным человеком. Как часто тот, кто много говорит о мече, владеет им хуже всех. Кто всей глубиной души воспринимает кровавые ужасы и потому способен воплотить их с помощью палитры, кисти или пера, тот не в состоянии совершить злодеяние. Но довольно! Ни одному слову из этих бесстыжих слухов, пытающихся превратить достославного Сальватора в презренного разбойника и убийцу, я не верю и взываю к тебе, любезный читатель: раздели мое мнение. А еще я боюсь, как бы ты не усомнился кое в чем из того, что я собираюсь рассказать тебе о мастере, ибо я хочу, чтобы мой Сальватор предстал перед тобою человеком, полным искрометного огня, но в то же время наделенным прекрасной и верной душой и не раз доказывавшим, что он владеет горькой иронией, свойством, которое у людей высокого ума рождено трезвым взглядом на жизнь. Напомним, между прочим, что Сальватор был еще поэт и музыкант, к тому же в обоих этих искусствах блистал не менее, чем в живописи. В этом чудесном преломлении лучей сказывалась его гениальность.
Повторю: я не верю, что Сальватор принимал участие в кровавых деяниях Мазаньелло, и думаю, что скорее всего ужасы той тяжкой годины погнали его из Неаполя в Рим, куда он, нищий беглец, прибыл в то самое время, когда пал Мазаньелло.
Одетый отнюдь не нарядно, с тощим кошельком, где лежало несколько жалких цехинов, он под покровом ночи прокрался сквозь городские ворота. Сам не зная как, очутился он на пьяцца Навона. Когда-то в добрые времена он жил там в красивом доме рядом с дворцом Памфили. С недовольным видом он смотрел наверх, устремив взор на зеркальные стекла больших окон, блестевшие и сверкавшие в лунном свете.
– Да, немало холста придется мне перепортить, малюя всякие картинки, – проворчал он, хмыкнув, – прежде чем я сумею снова обосноваться там, наверху, в собственной мастерской!
Тут он вдруг почувствовал, как все члены отказываются ему служить, и лишился сил, чего с ним никогда в жизни еще не случалось.
– Но смогу ли я, – пробормотал он сквозь зубы, опустившись на каменные ступени перед домом, – да, смогу ли я в самом деле намалевать достаточно таких картинок, каких требуют от нас эти дураки? – Он снова хмыкнул. – Боюсь, не хватит у меня теперь на это сил!
Резкий холодный ночной ветер мчался по улицам. Нужно было искать убежище. Он с трудом поднялся и проковылял в сторону Корсо, а затем оттуда свернул на улицу Бергоньона. Здесь он остановился перед маленьким, в два оконца домом, где жила бедная вдова с двумя дочерьми. Когда он, никому не ведомый, впервые приехал в Рим, эта женщина приютила его за небольшую плату, и теперь он сообразно со своим бедственным положением намеревался вновь у нее поселиться.
Недолго думая, он постучал в дверь и несколько раз громко назвал себя по имени. По доносившимся звукам он понял, что старуха наконец-то пробудилась. Она прошлепала к окну и стала браниться: какой, мол, негодник не дает ей ночью покоя, дом-то ее, чай, не трактир какой и т. п. Потребовалось немало усилий, пока она наконец-то по голосу признала своего давнего постояльца, и когда Сальватор рассказал, как ему пришлось бежать из Неаполя, и посетовал, что в Риме не найти ему дома, где он мог бы голову приклонить, старуха воскликнула:
– Ах, Иисусе Христе, ах, святые угодники! Так это, значит, вы, синьор Сальватор! Да что там! Комнатка ваша наверху, что во двор выходит, все еще пустует, а старая смоковница так глубоко просунула в окно свои ветки, что под ее листьями вы сможете сидеть, точно в красивой прохладной беседке, и работать себе вволю… А уж доченьки-то мои как обрадуются, когда в нашем доме опять синьора Сальватора увидят! Маргерита наша так выросла да так похорошела! Уж теперь вам ее на коленях не покачать! А кошечка ваша, представьте себе, три месяца назад рыбьей костью насмерть подавилась! Ах, все мы там будем! Да вот еще что: толстая соседка, которую вы все просмеивали и так уморительно рисовали, так вот, эта самая толстушка молодого в мужья берет! Не кого-нибудь, а синьора Луиджи. Что ж, nozze е magistrati sono da Dio destinati! [290]290
Браки да власти всегда в божьей власти (итал.).
[Закрыть]Я всегда говорю, браки заключаются на небесах.
– Но, синьора Катерина, – перебил старуху Сальватор, – прошу вас ради всех святых, пустите меня в дом, а уж потом рассказывайте сколько угодно о вашей смоковнице, о ваших дочках, о кошечке и толстухе соседке!.. Я просто гибну от усталости и от мороза.
– Смотрите, какой нетерпеливый! – воскликнула старуха. – Chi va piano, va sano, chi va presto, more lesto. [291]291
Тише едешь – дальше будешь, а поспешишь – скорей на тот свет угодишь (итал.).
[Закрыть]Я всегда говорю, торопись не спеша! Но вы устали, вы озябли. Ключи, поскорее ключи!
Старухе пришлось, однако, сначала разбудить дочерей, затем она очень медленно разжигала огонь. Наконец открыла бедняжке Сальватору дверь, но не успел он войти в сени, как усталость и хворь свалили его замертво на пол. По счастью, как раз в эти дни сын вдовы приехал из Тиволи, где он жил, и остановился у матери. Его тут же вытащили из постели, которую он уступил, даже весьма любезно, заболевшему постояльцу.
Старая женщина очень любила Сальватора, а что касается его мастерства, считала, что ни один художник на свете не идет в сравнение с ним, и, за что бы он ни принимался, все встречало в ее душе радостный отклик. Поэтому его плачевное состояние огорчило ее выше всяких мер, и она уже была готова бежать в ближний монастырь, чтобы привести оттуда своего духовника. Тот должен был одолеть вражью силу с помощью освященных свечей или какого-нибудь сильного амулета. Сын же, напротив, считал, что лучше, пожалуй, будет сразу подумать о дельном враче, и помчался на площадь Испании, где, как ему было известно, жил знаменитый доктор Сплендиано Аккорамбони. И стоило тому услышать, что художник Сальватор Роза лежит больной в доме на улице Бергоньона, как он не раздумывая изъявил согласие немедля прийти к пациенту.
Сальватор лежал без сознания в сильнейшем жару. Повесив над его кроватью несколько образов, старуха истово молилась. Ее дочери, обливаясь слезами, с трудом вливали больному в рот каплю-другую прохладного лимонада, который они сами приготовили, между тем как сын, примостившись у изголовья Сальватора, отирал ему холодный пот со лба. Тем временем наступило утро, и тут дверь с шумом отворилась и в комнату вошел знаменитый доктор, синьор Сплендиано Аккорамбони.
Уверен, что если бы обе девушки не были в великом горе, вызванном смертельной болезнью Сальватора, они бы, со свойственной им веселостью нрава, громко расхохотались над потешным видом врача, а не забились робко и пугливо в угол, как это произошло с ними сейчас. Ведь и в самом деле стоит остановиться на том, как выглядел человечек, появившийся в предрассветных сумерках в доме госпожи Катерины на улице Бергоньона. Вопреки явной предрасположенности к могучему росту господин доктор Сплендиано Аккорамбони не дотянул даже до четырех футов, хоть сколько-нибудь приличествующих мужчине. При этом в молодые годы он отличался изящным сложением, и пока голова, от рождения несколько бесформенная, не разрослась за счет толстых щек и солидного двойного подбородка, пока нос, беспрестанно подкармливаемый испанским нюхательным табаком, от этого не расширился, пока, наконец, брюшко от чрезмерного потребления макарон не округлилось, одеяние аббата, которое он в то время носил, было ему к лицу. Его по праву считали тогда милым человечком, а римские дамы называли его даже не иначе как своим саго puppazetto – своим «душкой-куклёнышем».
Но теперь-то все это было уже позади: и один немецкий художник был не так уж не прав, когда, увидев господина доктора Сплендиано шагающим по площади Испании, сказал, что можно подумать, будто дюжий детина ростом в шесть футов сбежал от собственной головы, а та свалилась на тельце марионеточного Пульчинеллы [292]292
Пульчинелла– комический персонаж итальянского народного театра масок, обычно – слуга или комический старик.
[Закрыть], каковому пришлось с тех пор носить ее словно свою собственную. Эта причудливая фигурка сунула себя в необъятную массу цветастой венецианской камки, из которой было скроено некое подобие шлафрока, опоясала себя под самой грудью широким кожаным ремнем с прикрепленной к нему шпагой длиною в три локтя и на белоснежном парике воздвигла высокий островерхий колпак, несколько напоминавший обелиск на площади Святого Петра. Так как вышеупомянутый парик, толстый и широкий, топорщился на спине, подобно большой спутанной паутине, то он вполне мог сойти за кокон, из которого выполз прекрасный шелковичный червь.
Достопочтенный Сплендиано Аккорамбони уставился сквозь большие сверкающие стекла очков сначала на страдальца Сальватора, а затем на госпожу Катерину, после чего отвел последнюю в сторонку.
– Вот лежит, – проскрипел он вполголоса, – вот лежит у вас, госпожа Катерина, на смертном одре замечательный художник Сальватор Роза, и ему не выпутаться, если его не спасет мое искусство! Скажите-ка, давно ли он у вас? Он, верно, принес с собою много прекрасных картин?
– Ах, любезнейший господин доктор, – ответила госпожа Катерина, – лишь этой ночью мой бедный сынок поселился у меня, а что до картин, то я о том еще ничего не ведаю. В подвале, правда, стоит большой ящик, его Сальватор просил меня поберечь. Тогда он был еще в сознании, не то, что сейчас. Там, небось, картина хранится. Какая-нибудь красивая, в Неаполе писанная.
То была ложь, но мы еще увидим, какие веские причины заставили госпожу Катерину преподнести ее господину доктору.
– Так, так, – сказал доктор, ухмыляясь, погладил себе бороду, с величественным видом приблизился к постели больного, сражаясь с длинной шпагой, цеплявшейся за все столы и стулья, взял Сальватора за руку, пощупал пульс, все время кряхтя и фыркая и нарушая этими странными звуками мертвую тишину, в которую благоговейно погрузились все присутствующие. Затем он перечислил по-латыни и по-гречески сто двадцать болезней, каких у Сальватора нет, и почти столько же, какими он, возможно, страдает, и закончил тем, что пока еще, правда, не может установить, чем хворает Сальватор, но через какое-то время найдет для этой хвори подходящее название, а значит – и нужное средство против нее.
Затем, оставив всех в смятении и страхе, он удалился так же величественно, как прибыл сюда.
За дверью он потребовал, чтобы его провели в подвал и показали ящик Сальватора. Госпожа Катерина действительно показала ему ящик, в котором лежали поношенные плащи ее покойного супруга, а также несколько пар рваных башмаков. Довольно улыбаясь, доктор похлопал по ящику и сказал:
– Поглядим, поглядим!
Через несколько часов он вернулся с благозвучным наименованием для болезни Сальватора и несколькими флаконами зловонной жидкости, которою наказал без устали поить больного. Это была нелегкая задача: больной выказывал величайшую неприязнь, а вернее, даже просто отвращение к лекарству, которое, казалось, поднялось со дна Ахерона [293]293
Ахерон– у древних греков река, отделяющая мир живых от царства мертвых.
[Закрыть]. Оттого ли, что болезнь Сальватора получила наименование, а значит, представляла теперь собою нечто действительное и потому стала решительнее проявлять свою власть, или же Сплендианово питье начало по-настоящему буйствовать в утробе больного, но так или иначе бедняга Сальватор день ото дня и даже час от часу слабел все больше и больше. И хотя доктор Сплендиано Аккорамбони уверял, будто, после того как жизненный процесс полностью приостановится, он вновь запустит машину в ход подобно тому, как дают толчок маятнику часов, все усомнились в выздоровлении Сальватора, ибо, по их мнению, господин доктор дал маятнику такой сильный толчок, что полностью вывел его из строя.
Случилось однажды так, что Сальватор, который, казалось, и пальцами-то едва шевелил, вдруг, охваченный нестерпимым жаром, почувствовал прилив сил, соскочил с постели, схватил флаконы с лекарством и яростно вышвырнул их в окно. А доктор Сплендиано Аккорамбони был как раз на пороге этого дома, и вот флаконы попали ему в голову и разбились, так что коричневая жидкость ручьями разлилась у него по лицу, парику и жабо. Как угорелый порвался он в дом, отчаянно крича:
– Синьор Сальватор обезумел, впал в буйство, медицина бессильна, через десять минут он умрет. Выкладывайте картину, госпожа Катерина, выкладывайте! Она моя, это хоть какая-то мзда за мои труды! Выкладывайте картину, говорю вам!
Но когда госпожа Катерина открыла ящик и доктор Сплендиано узрел ветхие плащи и рваную обувь, глаза у пего на лоб вылезли, он заскрипел зубами, затопал ногами и, наслав всех чертей на бедного Сальватора, на вдову и на весь дом, пулей, а вернее снарядом, выпущенным из пушки, вылетел на улицу.
Лихорадка, охватившая Сальватора, прошла, пароксизм гнева кончился, и он вновь впал в состояние, каковое вполне можно было счесть за предсмертное. Госпожа Катерина подумала, что не иначе как подходит последний час Сальватора, и потому со всех ног помчалась в монастырь и привела с собой патера Бонифачо, дабы он соборовал умирающего. Увидев больного, патер сказал, что хорошо знает черты, которые смерть, подступая к человеку, накладывает на его лик, но их он не видит у лежащего без чувств Сальватора. Есть, однако, добавил он, еще возможность пособить ему, и он готов этим заняться, только нельзя больше пускать на порог господина доктора Сплендиано Аккорамбони с его греческими наименованиями и адскими флаконами. Добрый патер сразу же ушел, и мы скоро узнаем, что он сдержал свое слово относительно обещанной помощи.
Когда Сальватор пришел наконец в себя, ему почудилось, что он лежит в прекрасной благоухающей беседке, ибо над ним возвышались ветви, покрытые листвой. Он ощущал в теле благотворные токи жизненного тепла, но левая рука, так ему казалось, была связана.
– Где я? – воскликнул он слабым голосом, но тут какой-то молодой человек привлекательной наружности, который стоял у его кровати, но которого больной до сих пор не замечал, бросился перед ним на колени, схватил и поцеловал его правую руку, омочив ее жаркими слезами, и воскликнул, повторяя несколько раз одни и те же слова:
– О, великий муж, высокочтимый мастер! Теперь, слава богу, все хорошо! Вы спасены, вы поправитесь!
– Но скажите на милость, – начал было Сальватор, однако молодой человек остановил его, умоляя не утомлять себя, и так столь истощенного, речью, и обещал рассказать ему обо всем, что с ним произошло.
– Видите ли, – произнес незнакомец, – видите ли, достославный мастер, вы прибыли сюда из Неаполя очень больным, но все-таки в вашем состоянии подлинной угрозы для жизни не было, и даже не слишком сильных средств было бы достаточно, чтобы за короткий срок восстановить ваш крепкий организм, если бы только из-за благого, но ошибочного намерения Карло, помчавшегося за ближайшим врачом, вы не попали в руки этого злонамеренного Пирамидального Доктора, который делал все возможное, чтобы отправить вас в сырую землю.
– Как, – воскликнул Сальватор, хохоча, несмотря на свою слабость, от всей души, – как вы сказали? Пирамидального Доктора? А ведь и впрямь он похож на пирамиду, этот камчатный малыш, что приговорил меня к потреблению отвратного, омерзительного чертова пойла. Я хоть и хворал, да заметил у него на голове обелиск с площади Святого Петра. Потому вы и называете его пирамидальным, не так ли?
– О, Господи Боже мой! – воскликнул, тоже громко смеясь, молодой человек. – Не иначе, как доктор Сплендиано Аккорамбони предстал перед вами в зловещем островерхом ночном колпаке, в котором он каждое утро вспыхивает, подобно гибельному метеору, в окне своего дома на площади Испании. Но не из-за этого колпака называют его Пирамидальным Доктором. Для того имеются совсем иные причины.
Дело в том, что доктор Сплендиано большой любитель живописи, и у него в самом деле есть коллекция превосходных картин, собранная особым способом. Он, видите ли, с усердием и превеликой хитростью охотится за художниками и за их болезнями. Мастеров, а особенно приезжих, если они умяли несколько больше макарон, чем обычно, либо осушили лишний бокал сиракузского, он ловко завлекает в свои сети, навешивает им то одну, то другую хворобу, окрестив ее чудовищно замысловатым названием, и затем якобы лечит от нее. А за лечение он берет не деньгами, а картиной, но так как только крепкие натуры способны противостоять его вредоносным лечебным средствам, то картину эту чаще всего ему приходится извлекать уже из наследства бедного приезжего, чьи останки приносят к пирамиде Цестия [294]294
…к пирамиде Цестия… – Возле этой пирамиды (воздвигнутой, впрочем, позже описываемых в новелле событий), у подножия Авентинского холма, находилось кладбище для иностранцев.
[Закрыть], чтобы предать их там земле. А то, что из картин, написанных покойным художником, синьор Сплендиано выбирает самую лучшую, да еще прихватывает в придачу какую-нибудь другую, разумеется само собой. Кладбище у пирамиды Цестия – это хлебное поле доктора Сплендиано Аккорамбони, которое он прилежно обрабатывает; вот потому его и прозвали Пирамидальным Доктором. Зря госпожа Катерина – правда, из лучших побуждений – внушила доктору, будто вы привезли с собой прекрасную картину, и можете представить себе, с каким усердием он готовил для вас свое варево. Ваше счастье, что в бреду и пароксизме вы швырнули доктору в голову его флаконы; счастье, что, разгневанный, он вас покинул; счастье, что госпожа Катерина, считая, что вы помираете, привела патера Бонифачо, дабы соборовать вас. Патер Бонифачо кое-что смыслит в искусстве исцеления; он правильно оценил ваше состояние и привел сюда меня.
– Так и вы тоже врач? – спросил Сальватор испуганным и жалобным голосом.
– Нет, – ответствовал юноша, краснея, – нет, достославный мастер, я отнюдь не ученый врач, как доктор Сплендиано Аккорамбони, я простой лекарь. Когда патер Бонифачо сказал мне, что Сальватор Роза чуть ли не на смертном одре лежит в доме на улице Бергоньона и нуждается в моей помощи, я прямо затрясся весь от страха – и от радости. Я поспешил сюда, пустил вам кровь, вскрыв вену на левой руке, и вы были спасены! Мы перенесли вас в эту прохладную, с чистым воздухом комнату, где вы когда-то жили. Оглядитесь-ка! Вон там еще стоит мольберт, вами оставленный, а тут несколько ваших рисунков лежат. Госпожа Катерина их как святыню берегла.
Болезнь ваша сломлена; простые, добротные лекарства, что вам готовит патер Бонифачо, и заботливый уход скоро вас окончательно на ноги поставят.
А теперь позвольте мне еще раз облобызать эту руку, эту созидающую руку, расколдовавшую и облекшую в плоть сокровеннейшие тайны природы! Позвольте бедному Антонио Скаччати излить свою душу в выражении восторга и горячей благодарности небесам, ниспославшим ему возможность спасти жизнь великому, непревзойденному мастеру Сальватору Розе.
С этими словами юноша вновь, как ранее, упал на колени и схватил руку Сальватора, поцеловал ее и омочил жаркими слезами.
– Не знаю, – промолвил, с трудом приподнимаясь, Сальватор, – не знаю, любезный Антонио, какой особый дух вселился в вас, заставляя выказывать мне столь великое почтение. Вы, как я услышал, лекарь, но ведь это ремесло обычно плохо сочетается с искусством, не так ли?
– Когда вы, – ответил юноша, опустив глаза, – когда вы, почтеннейший мастер, снова наберетесь сил, я скажу вам кое о чем, что сейчас так гнетет мое сердце.
– Сделайте это сейчас, – возразил Сальватор, – доверьтесь мне. Вы можете смело сделать это, ибо я не знаю человека, чей облик с такой же силой, как ваш, затронул бы мою душу. Чем пристальнее я гляжу на вас, тем яснее мне становится, что на вашем лице видны черты сходства с божественным юношей… с Санцио [295]295
Санцио– имеется в виду Рафаэль Санти (1483–1520).
[Закрыть]!
Огнем вспыхнули глаза у Антонио, тщетно искавшего ответные слова.
В эту минуту в комнату вошла госпожа Катерина в сопровождении патера Бонифачо, принесшего питье, которое было приготовлено по всем правилам искусства, пришлось больному по вкусу и принесло ему пользу, не то что вода, добытая со дна Ахерона Пирамидальным Доктором Сплендиано Аккорамбони.