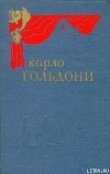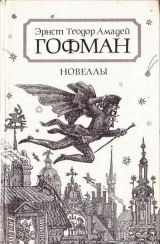
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
– Поверь, – проговорил Антонио в смущении, – сердцем-то я чувствую, что ты не лжешь. Но скажи, кто был мой отец? Как его звали? Что за злая судьба погубила его в ту ужасную ночь? Кто тот человек, который взял меня на воспитание? И какое событие так потрясло меня, что до сих пор оно подобно могучим чарам чужого, незнакомого мира неодолимо владеет всем моим существом, заставляя мысли мои бурлить подобно морским волнам во мраке ночи. Вот что я хочу узнать, и если ты поведаешь мне об этом, раскроешь тайну, непостижимым, загадочным образом вошедшую в мою жизнь, – тогда я поверю тебе!
– Тонино, – со вздохом отвечала старуха, – ради твоего же блага я должна хранить тайну, но скоро, очень скоро придет время, и ты все узнаешь. – Помни: Фонтего, Фонтего – держись подальше от Фонтего!
– О боже! – в гневе воскликнул Антонио. – Твои темные речи тебе уже не помогут, тебе не соблазнить меня своими дьявольскими чарами. Душа моя истерзана, либо ты сейчас же мне все расскажешь, либо…
– Молчи, ни слова больше! – прервала его старуха. – Оставь угрозы – разве перед тобою не твоя верная няня, твоя кормилица?!
Не желая больше слушать старухины речи, Антонио вскочил и бросился прочь от старухи. Издалека он еще крикнул ей:
– А новый плащ ты получишь, и денег сколько пожелаешь – в придачу!
Поистине странное зрелище являл собою престарелый дож Марино Фальери рядом со своей юной супругой. Он, коренастый и еще довольно крепкий, но убеленный сединой, с бесчисленными морщинами на красноватом, загорелом лице, шествует под руку со своей юной супругой, стараясь держаться прямо, что стоило ему немалых усилий; она – сама грация, в чертах ее прекрасного лица запечатлелась кроткая ангельская доброта, неотразимое очарование таится в робком, исполенном смутной тревоги взоре, печать величия и достоинства лежит на открытом лилейно-белом лице, обрамленном темными локонами, нежная улыбка озаряет его, – смиренно склонив свою милую головку, идет она, легко неся свое стройное тело, и кажется, будто ноги ее вовсе не касаются земли, – чудесное видение, словно сошедшее с небес. Да что там говорить, вы ведь и сами видели не раз такие ангельские лица на полотнах старых мастеров, уж они-то умели воплотить их неземную прелесть и очарование.
Такова была Аннунциата. И конечно же не было ничего удивительного в том, что каждый, кто видел ее, испытывал удивление и восторг, и каждый пылкий юноша в синьории воспламенялся неукротимым чувством – смерив старца насмешливым взглядом, приносил он в своем сердце клятву – стать Марсом – победителем этого Вулкана [226]226
…Марсом – победителем этого Вулкана. – Согласно мифологической традиции, Венера, супруга безобразного и хромого Вулкана, изменила ему с богом войны Марсом.
[Закрыть]. Поэтому Аннунциата вскоре оказалась окружена толпою поклониников, чьи льстивые, исполненные соблазна речи она выслушивала кротко и приветливо, не придавая им особого значения. Ее ангельски невинная душа воспринимала союз с престарелым царственным супругом не иначе как обязанность чтить своего высокого господина и служить ему с беспрекословной преданностью верной служанки. Он был с нею приветлив и даже нежен, он прижимал ее к своей холодной, как лед, груди, называя ее своей милой, он осыпал ее всеми драгоценностями, какие только бывают на свете, – чего ей еще желать, чего требовать от него? При таком отношении к супружеству у нее не могло зародиться и мысли о неверности старику; все, что находилось вне узкого круга представлений об этом союзе, было для нее неведомой страной, запретные границы которой скрывались в туманном мраке, – кроткое дитя не видело ее и не подозревало о ней. Вот почему все притязания поклонников были бесплодны.
Но ни в одном из них прекрасная догаресса не пробудила столь неистового любовного жара, как в Микаэле Стено. Несмотря на молодость, он занимал важную высокую должность в Совете Сорока. Итак, он был знатен, да к тому же хорош собою, и это придавало ему уверенность в победе. Он не боялся старого Марино Фальери, ведь после женитьбы его и вправду, казалось, оставили припадки внезапного, клокочущего гнева и грубое, неукротимое буйство. Он сидел бок о бок с прекрасной Аннунциатой, в богатых одеждах, разряженный в пух и прах, сияя улыбкой, и ласковый взор его серых глаз, то и дело застилавшийся старческой слезой, как бы вопрошал собравшихся, может ли кто-нибудь еще похвастаться такой супругой. Властный, грубый тон, каким он обыкновенно разговаривал прежде, сменился воркующим лепетом; каждого старик именовал милейшим и удовлетворял самые невероятные прошения. Кто бы узнал сейчас в этом разнеженном влюбленном старике прежнего Фальери, который в день праздника тела Христова, вспылив, ударил по лицу самого епископа, – того Фальери, который победил отважного Морбассана. Это расслабленное состояние Фальери, которое день ото дня становилось все более явственным, воспламеняло Микаэле Стено к самым буйным выходкам. Аннунциата не понимала, чего, собственно, хочет от нее Микаэле, неотступно преследуя ее, то бросая на нее пылкие взоры, то донимая дерзкими речами. Однако ничто не могло поколебать ее спокойствия и приветливости, – но именно безнадежность, которую внушало ему это чистое существо, с неизменной доброжелательностью относившееся ко всем, приводила его в отчаяние. Тогда он решил заманить ее в ловушку. Ему удалось завести любовные шашни с самой преданной служанкой Аннунциаты; она довольно скоро сдалась и стала пускать его к себе ночью. Итак, он считал, что путь к неоскверненным доныне покоям Аннунциаты ему открыт, но силы небесные воспротивились этому и обратили вероломное коварство на голову бесстыдного злодея.
Случилось так, что однажды ночью дож, только что получивший дурные вести о неудаче, постигшей Николо Пизани в сражении с Дориа при Портелонго, лишившись сна, в сильной тревоге и волнении прогуливался по галереям дворца. Тут ему почудилась тень, которая, выскользнув из покоев Аннунциаты, пробиралась к лестнице. Он поспешил за ней – и обнаружил Микаэле Стено, – тот возвращался от своей возлюбленной. Ужасное подозрение пронзило душу Фальери, с диким криком: «Аннунциата!»– бросился он к Стено, выхватывая на ходу кинжал. Но Стено, который оказался гораздо более сильным и ловким, нежели Фальери, увернулся и подлым ударом кулака свалил его на пол, а затем, с громким хохотом, выкрикивая: «Аннунциата! Аннунциата!»– бросился вниз по лестнице. Старик с трудом поднялся и, раздираемый муками ада, стал ощупью пробираться в спальню Аннунциаты. Ни звука – тихо, как в могиле. Он постучался, незнакомая служанка – не та, которая обычно спала в покоях Аннунциаты, отворила ему.
– Что угодно моему любезному супругу в столь необычно поздний час? – спокойным ангельским голосом проговорила, выходя, Аннунциата, успевшая тем временем набросить легкое ночное платье. Старик вперил в нее свой взор и, воздев к небу руки, воскликнул:
– Нет, не может быть, не может быть!
– Чего не может быть, мой вельможный господин? – спросила Аннунциата, вконец обескураженная его странно торжественным тоном.
Но Фальери, оставив ее слова без ответа, обратился к служанке:
– Почему ты здесь? Где Луиджа?
– Ах, – отвечала бедняжка, – Луиджа уговорила меня поменяться с ней на эту ночь, она ночует сегодня в первой комнате, той, что прямо у лестницы.
– Ты говоришь – у лестницы? – обрадованно воскликнул Фальери и быстрым шагом поспешил туда.
Луиджа, в одной рубашке, услышав громкий стук, отперла дверь и, едва увидев раскрасневшееся от гнева лицо и сверкающие глаза своего господина, упала на колени и поведала о своем позоре, красноречивым свидетельством коего была и пара изящных мужских перчаток, забытых на мягком сиденье кресла; запах амбры, исходящий от них, выдавал щегольские замашки их владельца. До крайности возмущенный неслыханной дерзостью Стено, дож отправил ему на следующее утро суровое предписание, согласно которому ему запрещалось под страхом изгнания из города появляться вблизи герцогского дворца и в его окрестностях и показываться на глаза дожу и его супруге. Микаэле Стено пришел в неописуемую ярость, оттого что провалился его блестящир! замысел и позорное изгнание лишит его возможности находиться подле своего кумира. Обреченный теперь лишь издали наблюдать, как неизменно приветливо и кротко беседует Аннунциата с другими юношами синьории, снедаемый завистью и неистовой страстью, Стено додумался до злобного измышления, будто супруга дожа отвергает его лишь потому, что его опередили другие более удачливые счастливцы, и у него хватило наглости говорить об этом на всех углах. Может статься, старый Фальери прослышал об этих бесстыдных наветах, или же события той ночи показались ему предостережением судьбы, а может быть, при всей вере в благочестие жены, ему ясно представилось, сколь неестественен их союз, – так или иначе, он сделался мрачен и угрюм, дьявольская ревность невыносимо терзала его, он велел запереть Аннунциату во внутренних покоях герцогского дворца, и ни одна душа больше не могла ее увидеть.
Бодоери храбро вступился за свою внучатую племянницу и осмелился попенять старому Фальери на эти строгости, но тот и слышать не хотел о смягчении принятых мер. Все это случилось незадолго до праздника Giovedi grasso [227]227
Масленый четверг (итал.) —на последней неделе перед великим постом.
[Закрыть]. Согласно обычаю, на нарядных празднествах, которые устраиваются в этот день на площади Сан-Марко, супруга дожа восседает рядом с ним на особом троне с балдахином, который устанавливают в галерее напротив этой небольшой площади. Бодоери напомнил ему об этом, сказав, что будет очень глупо с его стороны, если он, вопреки всем обычаям и традициям, не удостоит Аннунциату такой чести и что его болезненная ревность неизбежно вызовет толки, пересуды и насмешки, да еще какие.
– Неужели ты думаешь, – отвечал престарелый Фальери, честолюбие которого было сильно задето, – что я, старый, слабоумный глупец, опасаюсь выставить напоказ драгоценнейшее из своих сокровищ в страхе перед воровской рукою, которую я не смогу остановить своим добрым мечом? – Нет, старина, ты заблуждаешься, завтра я пройду рука об руку с Аннунциатой во главе нарядной праздничной процессии через площадь Сан-Марко, чтобы народ лицезрел свою догарессу, несравненную супругу своего повелителя, и в день праздника Giovedi grasso она примет букет цветов из рук отважного гребца, который взлетит к ней по воздуху.
Произнося эти слова, дож подразумевал один старинный обычай. Дело в том, что в день праздника Giovedi grasso для народа устраивается необычная забава: какой-нибудь смельчак вызывается подняться по канатам, которые тянутся из моря и закреплены на верхушке башни собора Святого Марка, в специальном устройстве в виде маленькой лодочки – сначала лодочка поднимается наверх, а потом от башни смельчак стрелой летит вниз как раз к тому месту, где восседает дож со своею супругой; далее традиция предписывает вручить букет цветов догарессе или самому дожу в том случае, если он не женат.
На следующий день дож сделал все как обещал. Аннунциата должна была облачиться в самые роскошные наряды, и в окружении синьории, сопровождаемый пажами и свитой, Фальери прошествовал через площадь Сан-Марко, запруженную народом. Толпа напирала, люди готовы были затолкать друг друга насмерть, чтобы только увидеть прекрасную Аннунциату, и тот, кому удавалось взглянуть на нее, мог подумать, что узрел рай небесный и что прекраснейший из ангелов явился ему в сиянии и славе. – Но таковы уж венецианцы: вперемешку с бурными излияниями безумного восторга то здесь, то там раздавались стишки и куплеты, которые довольно грубо задевали Фальери и его молодую жену. Но Фальери, казалось, ничего не замечал и забыл о всякой ревности, несмотря на то что повсюду видел он страстные взоры, которые с явным вожделением были направлены на его прекрасную супругу; сияя от распиравшего его удовольствия, шагал он со всей торжественностью, рука об руку с Аннунциатой. Перед главным порталом дворца оруженосцы с трудом разогнали толпу, так что, когда дож и его супруга вошли внутрь, лишь кое-где можно было видеть отдельные группы богато одетых горожан, которых все же пришлось допустить даже во внутренний двор. И вот в тот самый момент, когда супруга дожа появилась во дворе, некий юноша, стоявший вместе с другими людьми у колоннады, с громким возгласом: «О боже милостивый!»– упал бездыханный на холодные мраморные плиты. Все бросились к нему и окружили умершего, так что Аннунциате он был не виден, но как только юноша упал, грудь ее внезапно словно пронзило кинжалом, она побледнела, пошатнулась, и лишь флаконы с нюхательной солью, услужливо протянутые подоспевшими вовремя дамами, спасли ее от глубокого обморока. Старый Фальери, напуганный и подавленный этим происшествием, мысленно проклинал на чем свет стоит несчастного юношу. Увидев Аннунциату, ее безжизненно склоненную головку, ее прикрытые, глаза, он собрался с силами, поднял ее на руки и понес свою раненую голубку вверх по лестнице, во внутренние покои дворца.
Во внутренний двор, где и без того было довольно людно, прибывали все новые и новые зеваки. И вот на глазах у изумленной толпы разыгралась загадочная и удивительная сцена. Вокруг безжизненного тела юноши хлопотали какие-то люди, нужно было вынести тело усопшего с площади (в том, что он мертв, уже никто не сомневался), и в это самое время в толпе раздался чей-то истошный вопль, и старая безобразная, оборванная нищенка, яростно работая локтями, протиснулась сквозь толпу зевак: ковыляя, она приблизилась вплотную к бездыханному юноше и воскликнула:
– Эй, оставьте его, не трогайте! Вот олухи! Ничего не понимают! Ведь он же вовсе не умер!
С этими словами она опустилась подле юноши, осторожно приподняла его голову, так, чтобы он мог лежать у нее на коленях как на подушке, и принялась его тихонько поглаживать, легко касаясь пальцами лба и висков, и приговаривать, называя его ласково по имени. И было в этих двух фигурах поразительное несоответствие, которое бросалось в глаза: уродливая, отталкивающая физиономия старухи, искаженная безобразными судорожными гримасами, и дивно прекрасный лик юноши с мягкими спокойными чертами, казалось, будто он только уснул вечным сном; грязные отрепья нищенки, свисающие лохмотьями, и совсем рядом – богатые, нарядные одежды юноши; тонкие, костлявые руки с дряблой кожей – гадко было видеть, как дрожат ее пальцы, вот они коснулись высокого лба, вот дотронулись до груди, действительно, зрелище это у всякого вызвало бы внутреннее содрогание и ужас. Ведь и вправду, глядя на это, можно было вообразить, будто сама смерть с гнусной ухмылкой заключила в свои объятия этого прекрасного юношу. Во всяком случае, словно почуяв неладное, люди, что стояли вокруг, начали потихоньку расходиться, и лишь очень немногие остались наблюдать до конца эту сцену, они-то и помогли старухе дотащить беднягу до большого канала; к этому моменту юноша уже очнулся и, глубоко вздохнув, открыл глаза; его перенесли в гондолу, каковая и доставила обоих, старуху и юношу, к дому, в котором, по словам нищенки, и жил этот несчастный.
Вы, вероятно, догадываетесь, что юноша, о котором шла речь, был не кто иной, как Антонио, а старуха – та самая нищенка с паперти францисканской церкви, которая утверждала, будто она его нянька. Когда Антонио уже совершенно оправился и пришел в чувство, он увидел перед собою старуху, которая сидела подле него, держа в руках чашу с каким-то подкрепляющим снадобьем; обратив на нее сумрачный, тяжелый взгляд и неотрывно глядя ей прямо в глаза, он глухо сказал, с трудом подбирая слова:
– Это ты, Маргарета? Как хорошо! Где мне найти еще такую верную помощницу! Ты уж прости меня, матушка, неразумного да немощного несмысленыша, который на миг посмел усомниться в твоих давешних словах. Теперь я не сомневаюсь, ты действительно та самая Маргарета, что выкормила меня, что ходила за мной, я ведь это знал всегда, но какой-то злой дух помутил мой рассудок. Твой образ всегда был со мною. Теперь я понял – это была именно ты. Разве не говорил я тебе, что у меня такое чувство, будто душа моя скована какими-то колдовскими чарами, которые безраздельно владеют всем моим существом? Эти чары, рожденные мраком, обрушиваются как удар грома, словно нарочно стараясь лишить меня невыразимого блаженства. Но теперь мне все известно! Я все знаю! Разве не Бертуччо Неноло заменил мне отца? Не он ли воспитывал меня в своем загородном доме в Тревизо?
– Да, да, именно так, – откликнулась старуха, – он самый, Бертуччо Неноло, отважный мореход, которого поглотила морская пучина, когда он уже готовился увенчать свою голову лаврами за доблестные подвиги.
– Не перебивай меня, – продолжал Антонио. – Хорошо мне жилось у Бертуччо Неноло. Я носил красивые, нарядные платья, ел всегда вдоволь; и если я хорошо справлялся со своими обязанностями – не забывал прочитать положенные три молитвы, мне дозволялось гулять, бродить по лесам и лугам, везде, где мне только заблагорассудится. Прямо за домом начинался темный сосновый бор, навевающий прохладу, напоенный тысячью разнообразных ароматов и наполненный пением птиц. И вот однажды – дело происходило вечером, солнце уже клонилось к закату – я, утомленный дневной беготней, прилег отдохнуть под высоким раскидистым деревом. Я лежал и смотрел в синее небо, вскоре глаза у меня сами собою сомкнулись – то ли от усталости, то ли от пряного запаха трав, которые цвели пышным цветом вокруг, – словом, меня охватила легкая дремота, и очнулся я от какого-то шороха, словно что-то упало прямо рядом со мною. Я вскочил в ту же минуту и увидел перед собою девочку, ее ангельское личико сияло небесной красотою, грациозно склонив головку, она глядела на меня с невыразимым очарованием.
– Милый мальчик, – сказала она певучим голоском, – ты так сладко здесь спал, а ведь ты был на волосок от гибели; злая смерть подобралась к тебе совсем близко.
Я осмотрелся и увидел рядом с собою небольшую черную змейку с раздробленной головой – это девочка, увидев, что змея уже приготовилась вонзить в меня свои ядовитые зубы, ударила ее крепкой веткой орехового дерева. Меня охватил священный трепет – конечно же я слышал немало историй о том, что ангелы нисходят с небес на землю и являются людям, чтобы спасти их в минуту опасности от злого врага. Я опустился на колени и готов был молиться этому ангелу.
– О, я знаю, ты ангел света, ниспосланный мне самим Господом Богом, чтобы уберечь меня от смерти.
Услышав мои слова, это небесное создание протянуло ко мне руки и прошептало чуть слышно:
– Ах, милый мальчик, я не ангел, а просто девочка, обыкновенный ребенок, такой же, как и ты!
Яркий румянец заиграл у нее на щеках. И тогда священный трепет сменился неизъяснимым восторгом, который жарким пламенем опалил все мое существо. Я поднялся, наши руки сплелись в пылком объятии, и губы слились в безмолвном поцелуе – мы рыдали и плакали от какой-то сладкой, томительной, несказанной тоски, что охватила наши сердца! В этот миг мы услышали чей-то голос, который доносился откуда-то издалека:
– Аннунциата! Аннунциата!
– Мне уже пора, мой милый друг, это мама зовет, – так прошептала девочка, и невыразимая боль пронзила меня.
– Ах, как я люблю тебя, – повторял я сквозь рыдания, чувствуя на своих щеках горячие, обжигающие слезы, что струились из глаз девочки.
– Я люблю тебя всей душой, милый мальчик! – воскликнула она, крепко целуя меня на прощанье.
– Аннунциата! – снова послышалось из-за леса, и в то же мгновение девочка скрылась за деревьями.
– Вот видишь, Маргарета, именно тогда в моем сердце зажглась та искра любви, которая продолжает гореть во мне, вспыхивая то и дело ярким пламенем! Несколько дней спустя после этого случая меня выгнали из дому. Я не мог говорить ни о чем другом, кроме как о явившемся мне ангеле, чей нежный голос мне чудился повсюду – и в шепоте деревьев, и в журчанье ручейков, и в таинственном шуме морского прибоя. Я прожужжал все уши старику – помнишь, я рассказывал, его еще прозвали Папаша Сизый Нос, – и он объяснил мне, что девочка, по всей вероятности, дочка Неноло – Аннунциата, которая гостила здесь вместе со своей матерью и уехала на следующий же день. – О, матушка моя Маргарета! Святые небеса! Аннунциата, та самая Аннунциата, она-то и стала супругою дожа!
С этими словами Антонио, не в силах скрыть невыразимую боль, упал на подушки, содрогаясь от неудержимых рыданий.
– Тонино, мой мальчик, – молвила старуха. – Не печалься! Возьми себя в руки, будь мужественным и попробуй побороть эти страдания, на которые так глупо обрекаешь себя. Разве ж это дело, сразу впадать в отчаянье от любовных мук? Для кого же, как не для влюбленного, сияет золотой цветок надежды?! Ведь кто знает, что готовит нам грядущий день, и, может статься, сон еще станет явью. Ведь даже воздушные замки порой обретают на земле вполне зримые очертания. Послушай, Тонино, по-твоему, мои слова мало чего стоят, но чует мое сердце, ох, чует, да и по другим знакам выходит, что все переменится, я вижу, как ослепительное знамя любви поднимается над морем и радостно плещется на ветру. Терпение, сынок, только терпение! – так пыталась старуха утешить бедного Антонио, и действительно ее слова звучали как нежнейшая музыка и потому юноша не отпускал ее от себя ни на минуту.
Так нищенка с паперти францисканской церкви превратилась в почтенную хозяйку синьора Антонио, которая, нарядившись подобающим образом, каждое утро отправлялась на рыночную площадь за покупками для своего господина.
И вот настал день Giovedi grasso: на этот раз праздник был задуман с особой пышностью. Посреди небольшой площади Сан-Марко был сооружен высокий помост, предназначенный для особого, никогда доселе не виданного фейерверка, который взялся устроить некий грек, владеющий в совершенстве этим сложным искусством. Когда наступил вечер, на галерею вышел сам дож в сопровождении своей красавицы жены; сияя от переполнявшего его счастья, наслаждаясь блеском собственного величия, старик Фальери с довольной миной посматривал по сторонам, явно желая прочесть в глазах своих подданных выражение восторга и восхищения. Дож уже собрался было изойти на трон, но в этот самый момент приметил Микаэле Стено, который как ни в чем не бывало стоял тут же на галерее, да еще в таком месте, откуда он сам мог беспрепятственно смотреть на догарессу, не теряя ее из виду, но и она, в свою очередь, не могла бы не заметить его. Разгоряченный обуявшим его гневом и бешеной ревностью, Фальери приказал громовым голосом немедля вывести Стено с галереи. Микаэле Стено готов был уже кинуться па старого дожа с кулаками, но в это время подоспела стража и заставила его покинуть галерею, на что он, хотя и повиновался приказу, разразился безудержными проклятьями, грозя жестоко отомстить, после чего удалился, скрежеща зубами от ярости.
Тем временем толпа оттеснила Антонио, и он, едва оправившийся от удара, поразившего его при виде возлюбленной, побрел одинокий и всеми покинутый по пустынному морскому берегу, и его истерзанное сердце разрывалось на части от нестерпимых мук. Он уже подумывал о том, не лучше ли будет просто броситься в ледяные волны, что потушат пожар сердца, чем умирать медленной смертью от безысходных страданий. Еще немного, и он бы кинулся в море, но в ту минуту, когда, готовый к прыжку, спустился уже на последнюю ступеньку лестницы, что вела к воде, кто-то окликнул с лодки, как раз проплывавшей мимо:
– Эй! Добрый вечер, синьор Антонио!
В отблесках света дворцовых огней Антонио узнал весельчака Пьетро, одного из своих прежних товарищей; теперь же он, нарядно одетый, стоял в лодке: на голове – лихо заломленный берет, украшенный блестками и перьями, новенькая куртка полосатой ткани, расшитая яркими лентами, в руке он держал огромный букет красивых душистых цветов.
– Добрый вечер, Пьетро! – отвечал Антонио. – Что за важную птицу ты собираешься катать по морю, я смотрю, ты вырядился прямо как на бал.
– Еще лучше, синьор Антонио! – воскликнул Пьетро и при этом подпрыгнул от радости так, что лодка сильно закачалась. – Дело в том, что сегодня я намерен заработать целых три цехина, я должен добраться до самой верхушки башни Святого Марка, а потом – вниз и преподнести этот букет прекрасной догарессе.
– Уж не собираешься ли ты, приятель, взяться за тот самый трюк, на котором так легко свернуть себе шею? – спросил Антонио.
– Это правда, шею тут свернуть себе немудрено, да еще сегодня придумали новую затею – лететь придется прямо через огонь, – отвечал ему Пьетро, и по всему было видно, что ему как-то не по себе. – Правда, грек утверждает, – продолжал он, – что бояться нечего, это совсем не опасно, от такого огня ничего загореться не может, но – чем черт не шутит!
Антонио тем временем спустился к нему в лодку и только тогда заметил, что Пьетро стоит перед каким-то механизмом, держась за канат, конец которого уходил куда-то под воду. Другие канаты, посредством которых машина приводится в движение, терялись где-то в темноте.
– Послушай, Пьетро! – молвил Антонио, немного помолчав. – Послушай, приятель! Если бы тебе сегодня представилась возможность заработать десять цехинов, не рискуя своей молодой жизнью, ты бы согласился?
– А то нет, – расхохотался во все горло Пьетро.
– Ну, что ж, – продолжал Антонио, – вот тебе десять цехинов, давай поменяемся платьями, и я пойду вместо тебя. Сделай одолжение, любезный друг!
Взяв деньги, Пьетро как будто прикинул их вес на ладони и, поразмыслив немного, стоит ли соглашаться, сказал на это:
– Вы очень добры ко мне, синьор Антонио, называя меня, бедолагу, своим приятелем, да к тому же еще и щедры безмерно! Ради денег я бы, пожалуй, согласился, но ведь за то, чтобы преподнести красавице букет и услышать ее прелестный голосок, чего только не сделаешь, можно и жизнью рискнуть. Ну, да ладно. Вам уж уступлю, будь по-вашему!
Они быстро скинули одежды, и едва Антонио успел нарядиться, как Пьетро закричал: «Скорее в машину, уже подали знак!»
И в тот же миг море озарилось светом тысячи огоньков, что взметнулись в воздух, и грохот праздничной пальбы прокатился по всему побережью. Словно вихрь пронесся Антонио по воздуху прямо сквозь огонь праздничного фейерверка – все новые и новые ракеты разрывались в небе и гасли с легким шипением – мгновение, и вот он уже опустился на галерею прямо перед супругою дожа. – Она поднялась и ступила к нему навстречу; она была так близко, что он почувствовал ее дыхание; он протянул ей букет, но в этот самый момент невыразимого, почти неземного счастья жгучая боль безнадежной любви будто раскаленной иглой пронзила его сердце. Не помня себя, охваченный каким-то безумием, в котором слились воедино страстное желание, восторг упоения и невыразимая душевная мука, он припал к руке красавицы и, запечатлев пылкий поцелуй, воскликнул голосом, срывающимся от безутешной скорби:
– Аннунциата!
Но вот уже снова заработал механизм, и неведомая сила, будто послушный исполнитель веления самой судьбы, подхватила юношу и унесла прочь от любимой; обессиленный и измученный, очнулся он на руках своего приятеля Пьетро, который поджидал его в лодке на том же месте, где они расстались.
Тем временем толпа на галерее пришла в какое-то волнение и смятение: на троне, где восседал дож, кто-то прикрепил записку с непристойными стишками, написанными на том венецианском наречии [228]228
…на том венецианском наречии… – Венецианский диалект широко использовался в итальянских комедиях как средство комической характеристики персонажей (в особенности Панталоне).
[Закрыть], которым обыкновенно пользуются простолюдины:
Воистину наш дож Фальер
В округе первый кавалер.
Он с молодой женою
Гуляет под луною.
Ему жена по гроб верна,
С другими спит давно она.
Старик Фальери вскочил вне себя от бешенства и поклялся, что жесточайшим образом покарает того безобразника, кто совершил сей дерзкий поступок. Он обвел собравшихся грозным взором и тут заметил на площади подле галереи Микаэле Стено, который преспокойно стоял, не скрываясь, в ярком свете многочисленных огней, освещавших площадь. Не медля ни секунды, дож велел своим стражникам схватить и доставить к нему виновника учиненного безобразия. Все были необычайно возмущены таким приказанием дожа, ибо он, поддавшись охватившему его гневу, нанес оскорбление не только синьории, которая почувствовала себя ущемленной в своих правах, но и народу, не желавшему портить себе праздник из-за такого пустяка. Все члены синьории покинули свои места, остался только Марино Бодоери, который тут же бросился останавливать прохожих и разъяснять – дескать, главе государства было нанесено тяжкое оскорбление, и виноват в этом не кто иной, как Микаэле Стено, – так старик Бодоери старался обратить на него весь народный гнев, спасая тем самым положение.
Фальери и впрямь не ошибся, именно Микаэле Стено, позорно изгнанный в начале праздника с галереи, сбегал домой, где сочинил те издевательские стишки, и, когда все внимание было обращено на фейерверк, он тихонько подкрался к трону дожа и, прикрепив листок, удалился, никем не замеченный. Коварный Стено верно рассчитал удар – его стишки чувствительнейшим образом задевали обоих супругов, ибо были глубоко оскорбительны как для дожа, так и для его жены.
Микаэле Стено без лишних препирательств, нимало не смущаясь, признался в содеянном, но обвинил во всем дожа, который, мол, первым нанес ему сильнейшее оскорбление. Синьория давно уже была недовольна своим правителем, который, вместо того чтобы оправдать надежды и чаяния подданных, ежедневно и ежечасно доказывал своими поступками, что воинственный и гневливый дух, живущий в холодном сердце дряхлеющего старика, подобен всего лишь фейерверку, который с оглушительным шумом и треском взрывается, не причинив никакого вреда, рассыпается черными, мертвыми хлопьями и бесследно исчезает. К тому же его женитьба на молоденькой красавице (ведь всем было известно, что союз этот был заключен сразу же после избрания его дожем), его бешеная ревность, все это разом изменило к нему отношение – в глазах многих из воина-победителя старик Фальери превратился в обыкновенного vecchio Pantalone [229]229
Старикашка Панталоне (итал.).– одна из комических масок итальянской комедии, глупый и болтливый влюбленный старик.
[Закрыть].
Все перечисленные обстоятельства привели к тому, что синьория, лелея коварные планы отмщения, склонялась скорее к тому, чтобы оправдать Микаэле Стено, нежели оскорбленного до глубины души правителя. Совет Десяти [230]230
Совет Десяти– высший суд, разбиравший политические дела.
[Закрыть]передал дело в Совет Сорока [231]231
Совет Сорока– высший апелляционный суд по гражданским делам.
[Закрыть], куда между прочим входил и сам Стено. Микаэле Стено и без того уже изрядно натерпелся, и потому ссылка на месяц будет достаточной мерой наказания за содеянное – таково было вынесенное заключение, чрезвычайно разозлившее старика Фальери, и так уже сердитого на синьорию, которая, вместо того чтобы защищать главу государства, позволила себе вынести приговор, более подходивший к мелким проступкам, нежели к тяжким преступлениям, каковое было совершено по отношению к нему.