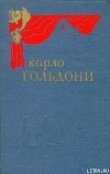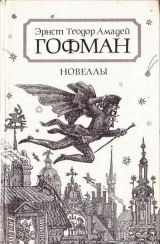
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
– А что вы подразумеваете под серьезными жизненными задачами?
Племянник воззрился на него с изумлением.
– Господи, что за вопрос! – выпалил он наконец. – Вы же не станете спорить, что главное в жизни – сама жизнь, а на это у профессионального художника, как правило, не бывает времени среди одолевающих забот. – И он понес сущую околесицу, смешивая наобум изящные словеса и избитые мысли. В конечном счете все у него сводилось к тому, что жить это значит не иметь долгов, зато иметь много денег, вкусно есть и сладко пить, иметь хорошенькую жену и, пожалуй, послушных деток, которые никогда не ляпнут жирное пятно на выходное платьице и т. д. Трауготу стало невмоготу от удушья, поэтому он был рад, когда рассудительный племянник наконец отвязался и он мог запереться от всех в своей комнате.
«Какое убожество моя никчемная жизнь! – сказал он себе. – Утро такое, что краше, кажется, не бывает, на дворе весна, вон даже в сумрачные городские улицы залетел теплый западный ветер и шумит-гудит, словно хочет рассказать, как чудесно все расцвело по лугам и полям, а я в эти золотые денечки лениво и нехотя плетусь в закопченную контору господина Элиаса Рооса. Там я встречаю бледные лица, склоненные над громоздкими конторками, угрюмая тишина лишь изредка прерывается шорохом переворачиваемых листов, позвякиванием пересчитываемых монет, бормотанием – все заняты, все поглощены работой. – И какой работой? Ради чего эти умственные потуги, эта писанина? – Ради того, чтобы в ящиках множилось злато, чтобы злополучное сокровище Фафнира [168]168
Сокровище Фафнира– роковой клад Нибелунгов, приносящий гибель его владельцам. В скандинавской версии о Нибелунгах, известной Гофману по трилогии Ф. де ла Мот Фуке «Герой Севера» (1808–1810), клад стережет дракон Фафнир.
[Закрыть]блестело ярче и заманчивей! – Как, должно быть, хорошо свободному художнику, как весело ему выйти на вольный простор с высоко поднятой головой и упиваться вешними лучами, столь живительными для крылатого воображения, в котором рождается целый мир прекрасных образов. Как ликует его душа, преисполненная радостного движения и жизни! И вот перед ним из густых зарослей выступают на свет дивные образы, духовные детища, неотторжимые от своего создателя, ибо где, как не в самом художнике, живет волшебный источник света, цвета и формы, и кто, как не он, способен запечатлеть в чувственном изображении призрачное видение, представшее его внутреннему взору! – Так что же мешает мне вырваться из ненавистных уз привычного существования?..
Удивительный старик подтвердил мне мое призвание – я рожден быть художником, но более, чем старик, это сделал прекрасный, милый юноша. Хоть он и не промолвил ни слова, но мне все же показалось, что его взор ясно высказал все то, что так долго таилось во мне под гнетом сомнений, не смея о себе заявить. Разве не будет больше толку, если я вместо моего постылого занятия постараюсь стать дельным художником?»
Траугот извлек на свет все свои прошлые рисунки и стал придирчиво изучать. Некоторые вещи, на нынешний взгляд, показались ему гораздо лучше, чем он подозревал. Но главное, среди прочих ребяческих опытов отроческих лет ему попался один листок, на котором хоть и коряво, но тем не менее довольно похоже были нарисованы те же фигуры старинного бургомистра с красавцем пажом; при взгляде на этот рисунок Траугот отчетливо вспомнил, какое удивительное впечатление они произвели на него еще в те годы; однажды вечером какая-то неведомая сила заставила его бросить игру и повлекла в Артуров двор, в сгущающихся сумерках он долго трудился там, стараясь срисовать эту картину. – Сейчас при виде старого детского рисунка душа Траугота всколыхнулась и затосковала. Надо было, как всегда, идти в контору, чтобы еще несколько часов поработать, но он не мог себя заставить, вместо конторы Траугот убежал из города на Карлову гору. С ее вершины перед ним открылось море; взор его, устремленный на волны и зыбкую игру туманов, окутавших Хельскую косу [169]169
Хельская коса– в Данцигской бухте.
[Закрыть], пытался проникнуть сквозь завесу, скрывавшую зерцало судеб, и разгадать, что готовят ему грядущие дни. – Не правда ли, дорогой читатель, – когда озарение свыше, ниспосланное к нам из горнего царства любви, посещает нас, то в первый миг душа испытывает безнадежное страдание? – Это – сомнения, которые обуревают душу художника. Узрев идеал, он чувствует, что бессилен его отразить, и мнит, что видение бесследно исчезнет. – Но вслед за тем к нему возвращается божественная отвага, он доблестно сражается со своей немощью, и отчаяние сменяется упоительным полетом мечты, она дает ему силы и поддерживает, когда он устремляется вослед своей возлюбленной, она манит его все ближе и ближе, но настигнуть ее никому не дано.
Подобным чувством безнадежного страдания был в тот миг весьма болезненно уязвлен и Траугот! – Бросив поутру свежий взгляд на раскиданные по столу рисунки, он нашел, что все это пустячные каракули, и тут он вспомнил слова своего друга, превосходного художника, что нынешний разгул посредственности в искусстве происходит оттого, что слишком многие берутся за него, побуждаемые какой-либо внешней причиной, ошибочно приняв случайный порыв за истинное призвание. Склоняясь к тому, чтобы отнести картины Артурова двора вместе с замечательными изображениями старика и юноши к такого рода внешним случайностям, Траугот обрек себя на возвращение в контору и, как проклятый, трудился под началом господина Элиаса Рооса, невзирая на непреодолимое отвращение, которое временами охватывало его с такой силой, что он принужден был вскакивать и бежать на волю, чтобы отдышаться. Озабоченный этими припадками господин Элиас Роос, движимый участием к юноше, приписывал их нездоровью, следы которого, по его мнению, можно было явственно прочесть на бледном лице Траугота.
Между тем время шло, и скоро должен был наступить праздник святого Доминика [170]170
Праздник святого Доминикаотмечался 5 августа.
[Закрыть]с ежегодной большой ярмаркой, а вместе с нею назначенная на этот день свадьба Траугота и Кристины – торжество, которое должно было ознаменоваться окончательным приобщением Траугота к торговому миру в качестве компаньона господина Элиаса Рооса. – Для Траугота этот день был печальной вехой, отныне ему предстояло Проститься с самыми радужными надеждами и мечтами; с тяжелым сердцем посматривал Траугот на деятельные хлопоты своей нареченной, а у Кристины кипела работа – под ее присмотром на втором этаже шло мытье полов, потом их вощили, потом развешивали занавески, Кристина собственноручно поправляла каждую складочку, наводила окончательный блеск на медную посуду и т. д.
Однажды в толчее Артурова двора Траугот услышал за спиной разговор, и сердце его встрепенулось при звуках знакомого голоса.
– Неужели эти бумаги и впрямь настолько упали в цене?
Траугот обернулся и узнал в говорящем того, кого ожидал увидеть, – перед ним был старик, поразивший его воображение; он обращался к маклеру с просьбой о продаже ценной бумаги, но курс этих акций в последнее время действительно очень понизился. Из-за его плеча выглядывал прекрасный юноша, он вскинул на Траугота грустный и приветливый взгляд. Траугот быстро шагнул навстречу старику и сказал:
– Позвольте-ка, сударь! Акция, которую вы хотите продать, на сегодняшний день действительно котируется так, как вам сказали, однако же на днях ожидается значительное повышение курса. Если вам угодно выслушать мой совет, то лучше вам сейчас немного повременить с продажей.
– Что это значит, сударь! С какой стати вы вмешиваетесь в мои дела! – довольно сухо обрезал его старик. – Откуда вам знать, что мне, может быть, сейчас вовсе не нужна эта дурацкая бумажонка, зато очень надобны наличные деньги?
Траугот, весьма смущенный тем, что старик с такой обидой отнесся к его добрым намерениям, хотел было ретироваться, но тут юноша умоляюще посмотрел на него со слезами на глазах.
– Я хотел быть вам полезен, сударь, – быстро сказал Траугот, обращаясь к старику, – и не хочу допустить, чтобы вы понесли значительные убытки. Продайте мне вашу акцию с условием, что я через несколько дней, когда курс опять повысится, выплачу вам разницу.
– Да вы чудак, сударь, – молвил старик. – Будь по-вашему, хотя я и не понимаю, с чего вам пришла охота способствовать моему обогащению. – С этими словами он бросил сверкающий взгляд на юношу, который смущенно потупил свои прекрасные голубые глаза.
Втроем они отправились к Трауготу в контору, там старику отсчитали деньги, и он с мрачным выражением сгреб выручку в кошелек. В это время юноша потихоньку спросил Траугота:
– Скажите, не вы ли тот человек, который несколько недель тому назад сделал в Артуровом дворе такой хороший набросок?
– Он самый, – ответил Траугот, чувствуя, как лицо его заливается краской при воспоминании о неприятной сцене, которая произошла из-за неудачного авизо.
– О, тогда я не удивляюсь, – продолжал юноша, но сразу умолк под гневным взором старика.
В присутствии незнакомцев Траугот не мог отделаться от чувства неловкости, поэтому он позволил им уйти, так и не расспросив об их обстоятельствах. Впрочем, своим необычайным видом эти посетители поразили даже конторщиков. Нелюдимый брюзга бухгалтер, засунув перо за ухо и обхватив голову руками, во все время их посещения разглядывал старика, уставясь на него оловянными глазами.
– Экое наваждение, прости господи! – заговорил он, когда посетители удалились. – Видали? Бородач-то в черном плаще – ни дать, ни взять будто старинная картина одна тысяча четырехсотого года из приходской церкви Иоанна Предтечи!
А господин Элиас Роос, невзирая на величавую степенность старика и суровый германский склад лица, попросту принял его за польского еврея и с довольной усмешкой во всеуслышанье объявил:
– Вот глупая тварь! Продает акцию сегодня, а через неделю получил бы за нее по меньшей мере лишние десять процентов.
Конечно, господин Элиас Роос не знал об условленной надбавке, которую Траугот намерен был доплатить старику из своего кармана, что он и выполнил спустя несколько дней, встретившись со стариком и его юным спутником в Артуровом дворе.
– Мой сын напомнил мне, – сказал ему старик, – что вы тоже художник, поэтому я приму от вас то, на что никогда не согласился бы иначе.
Они стояли возле одной из четырех гранитных колонн, на которых покоятся своды этого здания, рядом с двумя фигурами из шествия, которых Траугот срисовывал в их первую встречу на листке с недоконченным деловым письмом. Траугот без околичностей высказался насчет большого сходства своих собеседников с этими изображениями. Старик на это странно улыбнулся и, положа руку ему на плечо, произнес тихо и значительно:
– Следовательно, вы не знаете, что я художник Годофредус Берклингер и что эти фигуры, которые вам, судя по всему, так понравились, написаны мною в давние годы, когда я сам делал только первые ученические шаги в искусстве. Под видом бургомистра я оставил на память потомкам собственный портрет: в паже, который держит под уздцы его коня, вы без сомнения узнаете моего сына, достаточно сравнить лицо и фигуру.

Траугот онемел от изумления; но скоро он догадался, что старик, вообразивший себя автором картины, написанной двести с лишним лет тому назад, по всей вероятности, должен быть помешан на этой идее.
– Славное было времечко, – продолжал старик, запрокинув голову и гордо оглядывая роспись, – в ту пору, когда мы расписывали этот зал, украшая его многоцветными картинами во славу короля Артура и его рыцарей круглого стола, искусство процветало и было в почете. Как вспомню теперь, то верю, что моим величественным посетителем был однажды сам король Артур, его наставления направили меня на путь мастерства, которого я в те дни еще не сподобился.
– Мой батюшка, – вмешался юноша, – художник, каких немного. Вы, сударь, не пожалеете, если он позволит вам посмотреть на свои произведения.
Тут к ним опять присоединился старик, которому вздумалось немного побродить по опустевшему залу; воротившись, он позвал за собой юношу; перед тем как они ушли, Траугот успел попросить у него позволения взглянуть на его картины. Старик долго всматривался в него острым, пронизывающим взглядом и наконец со всей серьезностью молвил:
– Вы и впрямь дерзновенны, если, не перешагнув порога ученичества, уже хотите вступить в святая святых. Однако будь по-вашему! Пускай неискушенный взор не способен проникать сокрытое – по крайней мере, вас осенит предчувствие! Приходите завтра поутру.
Он описал местоположение своего жилища, и на другой день Траугот не преминул последовать приглашению; наскоро развязавшись со своими делами в конторе, он поспешил на отдаленную улицу, в которой находилась обитель старого чудака. Дверь отворилась, на пороге его встретил юноша, облаченный в старинное платье, и отвел в просторную комнату, посередине которой на низенькой табуретке восседал старик, созерцая громадный холст, покрытый серой грунтовкой.
– В добрый час! – громко начал старик при виде Траугота. – В добрый час вы явились сюда! Я только что положил последний мазок на этой большой картине, над которой проработал весь год, и, надо сказать, она стоила мне изрядных трудов. Это вторая половина диптиха; первую, изображающую «Потерянный рай», я закончил в прошлом году, ее вы тоже сможете посмотреть. А это, как видите, «Возвращенный рай» [171]171
«Потерянный рай» и «Возвращенный рай»– эпические поэмы английского поэта Джона Мильтона (1608–1674).
[Закрыть], мне было бы жаль, если вы начнете выискивать в нем скрытую аллегорию. Писание аллегорий [172]172
Писание аллегорий… – Аллегорическая живопись и скульптура были особенно распространены в XVIII в. в эпоху Просвещения и отражали рационалистический характер просветительской эстетики. Немецкие романтики отрицательно относились к аллегории и противопоставляли ей символ как более сложное и многозначное образное воплощение. Гофман выразил свое отрицательное отношение к аллегории в первой редакции «Выбора невесты».
[Закрыть]– это занятие для слабодушных и неумех; моя картина не должна что-то подразумевать, она – есть, и этим все сказано. Вы найдете, что эти щедро разбросанные группы людей, зверей, плодов, цветов и камней сочетаются в гармоническое целое, и торжественная музыка, которая здесь громко звучит, есть чистый аккорд божественного просветления.
Засим старик начал демонстрировать Трауготу отдельные группы, обращая его внимание на мерцание цветов и металлов, на чудесные создания, возносящиеся из чашечек лилий и вплетающиеся в хоровод прекрасных юношей и дев, на бородатых мужей, полных молодости и отваги, которые, казалось, вели беседу с невиданными, странными зверями. Речь старика становилась все живописней, но смысл ее делался все более путаным и непонятным.
– Сверкай себе, слепи лучами, великий старец, увенчавший чело свое алмазами! – воскликнул он наконец, вперив горячечный взор в пустое полотно. – Откинь покрывало, Изида [173]173
Откинь покрывало, Изида… – Изваяние древнеегипетской богини Изиды (Исиды) в Саисе выступает в сочинениях немецких романтиков как символическое воплощение таинств познания, скрытых от взора непосвященных непроницаемым покровом. Ср. двустишие Новалиса:
Лишь одному удалось приподнять покрывало богини. Что же узрел он? Узрел – чудо: себя самого. Этот же образ использован Шиллером в философском стихотворении «Саисское изваяние под покровом».
[Закрыть], которым ты скрыла свой лик от непосвященных! Почто ты держишь края своего мрачного облачения сомкнутыми на груди? – Я хочу зреть твое сердце! – Сердце твое – философский камень, коим отверзается сокровенная тайна! – Или ты – не я? Чего ты так дерзко величаешься предо мной! – Ты споришь с твоим повелителем? – Мнишь, что рубин, твое сердце, сиянием своим разорвет мою грудь? – Восстань! – Выдь! – Явись предо мною! – Я тебя создал, – ибо я…
Но тут старик рухнул, точно сраженный молнией, Траугот подхватил его на руки, юноша торопливо пододвинул низкое креслице, и вдвоем они усадили старика, который погрузился в целительный, покойный сон.
– Теперь, сударь, вы все знаете, – тихим и нежным голосом заговорил юноша, – и вы поняли, в чем беда моего батюшки. Злая судьба развеяла все лепестки на цветущем древе его жизни, и вот уж много лет, как он умер для искусства, которым прежде жил. Целыми днями просиживает он с остановившимся взглядом перед загрунтованным холстом, это у него называется писать картину. А в какую экзальтацию он приходит, описывая свое творение, вы и сами только что видели. Вдобавок его преследует еще одна злосчастная идея, которая сломала мою несчастную жизнь и обрекла меня влачить жалкое, унылое существование. Я несу это бремя, как волю рока, который, ввергнув его в пучину мучений, нечаянно захватил и меня. Если вы желаете отдохнуть от пережитого зрелища, тогда пойдемте со мной в соседнюю комнату, где вы сможете увидеть несколько картин моего отца, написанных им в минувшие годы, когда он еще плодотворно трудился.
Как же удивился Траугот, увидев там ряд полотен, словно бы созданных кистью самых прославленных голландских художников. По большей части это были сценки, выхваченные из жизни, – например, изображение вернувшегося с охоты общества, которое развлекается пением и игрой и т. п., и тем не менее в них заключался глубокий смысл, в особенности выражение лиц отличалось поразительной жизненностью. Траугот собрался уже вернуться в первую комнату, как вдруг заметил у двери еще одну картину и, словно зачарованный, замер перед ней. Это была прелестная девушка, одетая в старинное платье, но лицо у нее было совсем как у юноши рядом с ним, только щеки казались румянее и круглее и фигура более рослой. Трепет несказанного восторга охватил Траугота при виде красавицы. По силе и жизненности эта картина совершенно напоминала ван-дейковскую. Темные очи, тоскуя, смотрели на Траугота, пленительные уста словно шептали ласковые слова.
– Господи! Господи! – простонал Траугот из глубины души. – Где, где ее искать?
– Пойдемте отсюда, – сказал ему юноша.
И тогда Траугот, словно в упоении безумного восторга, воскликнул:
– Ах, это она, она! Возлюбленная души моей, чей образ я давно лелеял в сердце, кого я зрел в моих мечтах! Где? Где она?
У младшего Берклингера слезы хлынули из глаз, он с трудом, словно превозмогая внезапную боль, взял себя в руки.
– Пойдемте же, – молвил он наконец твердо. – На портрете изображена моя несчастная сестра Фелицита. Она погибла навек! Вы никогда с нею не встретитесь.
Безмолвный, почти ничего не сознающий, Траугот дал увлечь себя в другую комнату. Старик все еще спал, но внезапно он вздрогнул, выпрямился и, гневно сверкнув глазами на Траугота, закричал:
– Что вам здесь надо? Что вам надо, сударь?
Тогда к нему подошел юноша и напомнил отцу, что он только что показывал Трауготу свою картину. Берклингер, казалось, все вспомнил, он заметно смягчился и, сбавив тон, сказал:
– Прошу вас, сударь, не сердитесь на мою стариковскую забывчивость.
– Ваша картина, господин Берклингер, – заговорил Траугот, – замечательно хороша, я ничего подобного еще никогда не встречал, но чтобы так писать, наверно, надо много учиться и долго поработать. Я чую в себе непреодолимую тягу к искусству, и потому я прошу вас, дорогой мастер, взять меня под свое покровительство как прилежного ученика.
Старик так обрадовался от его слов, что совсем раздобрился; обняв Траугота, он пообещал, что будет его верным учителем.
Таким образом Траугот стал ежедневно бывать в мастерской старого художника и делал заметные успехи на новом поприще. Контора ему совсем опротивела, и он стал так небрежничать, что господин Элиас Роос даже вслух начал жаловаться на такую обузу и только обрадовался, когда Траугот под предлогом скрытого недомогания окончательно сбежал из конторы, вследствие чего, к немалому неудовольствию Кристины, их свадьба была отложена на неопределенный срок.
– Сдается мне, глядя на вашего господина Траугота, – сказал как-то господину Элиасу Роосу один из его приятелей-коммерсантов, – что он переживает в душе нечто вроде кризиса; быть может, у него не сошлось сальдо в сердечных делах, и он хочет уладить счеты, прежде чем думать о женитьбе. Он стал какой-то бледный и расстроенный.
– Вот еще! Нет, это все пустое, – ответил господин Элиас. – Разве только, – продолжил он после раздумья – плутовка Кристина заморочила его какими-нибудь выкрутасами? Этот олух бухгалтер в нее влюблен, то пожмет ей ручку, то поцелует. А Траугот по уши влюблен в мою дочурку, уж я-то знаю! Может быть, тут замешана ревность? Ладно, я его как-нибудь прощупаю и узнаю, что у нашего молодого человека на уме.
Однако как ни прощупывал он Траугота, так ничего и не нащупал, и господин Элиас сказал своему приятелю:
– Странный субъект этот Траугот, но тут уж, как видно, ничего не попишешь. Надо ждать, что он сам решит. Кабы не пятьдесят тысяч талеров, которые у него вложены в мое предприятие, уж я бы знал, что мне делать, потому что о н давно ничегошеньки не делает.
Посвятив себя искусству, Траугот, казалось бы, должен был радоваться, купаясь в его солнечных лучах, но любовь к прекрасной Фелиците, которую он часто видел в волшебных снах, разрывала ему сердце. Картина куда-то исчезла. Старик убрал ее с глаз, и Траугот не смел спросить, чтобы не разгневать своего наставника. Понемногу он, правда, завоевал доверие старого чудака, и тот уже, не обижаясь, позволял ученику вместо гонорара за уроки вносить кое-какие улучшения в его скудное хозяйство. От младшего Берклингера Траугот узнал, что старика недавно надули, когда он продавал секретер, и бумага, которую Траугот купил у него, представляла последний остаток от вырученной тогда суммы. Эти деньги составляли всю их наличность. Лишь изредка Трауготу выпадала возможность наедине поговорить с юношей, старик неусыпно следил за ним и резко одергивал, не давая отвести душу в веселой приятельской болтовне. Траугота это особенно огорчало, потому что он всей душой полюбил юношу за удивительное сходство с Фелицитой. Зачастую в обществе юноши на него нападало странное наваждение, ему чудилось, будто он наяву видит возлюбленный образ, и он чуть ли не готов был заключить в объятия милого юношу и прижать его к своему пылающему сердцу, словно это был не он, а обожаемая Фелицита.
Зима кончилась, настала весна, осыпала леса и луга цветами, озарила землю ясным солнышком. Господин Элиас Роос посоветовал Трауготу ехать на воды и пройти курс молочного лечения. Кристиночка снова воспрянула духом с приближением свадьбы, хотя Траугот показывался редко и даже думать забыл о своих обязательствах перед ней.
Однажды ему пришлось просидеть в конторе над неотложными счетами с утра и до вечера, он пропустил урок у Берклингера и только в сумерки выбрался на окраину к своему учителю. Траугот тихо вошел в дом, в первой комнате он никого не застал, из соседней слышались звуки лютни. При нем еще ни разу никто здесь не музицировал. – Он стал слушать; словно вздохи, вплеталось в струнные аккорды чье-то пение. Он надавил на дверь, она медленно отворилась, и – о, боже! – спиной к нему там сидела женщина в старинном платье с высоким кружевным воротником: все было, как на портрете! – На шум, который невольно произвел Траугот, открывая дверь, незнакомка встала, положила лютню на стол и обернулась. То была она! Она сама предстала перед ним!
– Фелицита! – вскричал Траугот в восторге и восхищении, он хотел броситься на колени перед милым небесным видением, как вдруг сзади его схватила за шиворот чья-то могучая рука и поволокла вон.
– Негодяй! – Окаянный злодей! – кричал старый Берклингер, толкая впереди себя Траугота. – Так вот какова твоя любовь к искусству? – Ты замыслил убить меня!
С этими словами он вытолкал Траугота за дверь. В руке у старика блеснул нож; Траугот припустил от него по лестнице вниз; оглушенный, обезумевший от восторга и страха, Траугот ввалился домой.
Всю ночь он не спал и метался на своем ложе.
– Фелицита! Фелицита! – то и дело восклицал он, раздираемый страданием и любовной тоской. – Ты здесь, ты – здесь, а я не смею тебя видеть, мне нельзя заключить тебя в объятия? – Ты любишь меня! Любишь! Я знаю! – Убийственное мучение, которое терзает мне грудь, подсказывает мне это, я чувствую – ты меня любишь!
Ясное весеннее солнышко заглянуло в окно к Трауготу, тогда он собрался с силами и решил во что бы то ни стало выяснить, какая тайна скрывается в жилище Берклингера. Он поспешил к старику, но каково же было ему, когда пришел, увидеть, что все окна в квартире распахнуты и служанки заняты уборкой комнат. Он уже догадывался, что здесь произошло. После его ухода старик Берклингер, забрав сына, покинул на ночь глядя свой дом и уехал, никому не сказав куда. Повозка, запряженная парой лошадей, увезла ящик с картинами и два небольших чемоданчика, в которых уместились все скудные пожитки обоих Берклингеров. Сам он вместе с сыном ушел через полчаса. Все расспросы, куда он мог подеваться, остались тщетными, ни один извозчик не вспомнил, чтобы его нанимали две особы, похожие на описание Траугота, даже у городских ворот он не добился сколько-нибудь определенных сведений: короче, Берклингер исчез так, словно улетел на плаще Мефистофеля. В совершенном отчаянии Траугот прибежал домой.
– Она исчезла! Она исчезла – возлюбленная души моей! Все, все пропало! – С этим воплем он промчался через переднюю мимо господина Рооса, который как раз оказался на его пути, и влетел в свою комнату.
– Господи, твоя воля! – воскликнул господин Элиас, сдвигая набекрень и дергая свой парик. – Кристина! Кристина! – закричал он затем на весь дом громким голосом. – Кристина! Наказание мое! Негодница-дочь!
На его крики к нему со всех ног бросились конторщики и обступили с испуганными лицами, а бухгалтер в растерянности взывал к нему: «Ну зачем же так, господин Роос!»
Но тот продолжал кричать, не затихая: «Кристина! Кристина!»
Тут мамзель Кристина вошла с улицы в дверь и, поправив сперва шляпку, с улыбкой осведомилась у папеньки, с чего он поднял такой ор.
– Чтобы не было больше этой дурацкой беготни по улицам! Я запрещаю! – так и набросился на нее господин Элиас. – Зятек-то – человек меланхолического нрава: когда взревнует, он сущий турок. Тут уж, хочешь не хочешь, а знай сиди дома, иначе и до беды недалеко.
Вон что делается-то – компаньон заперся у себя и ревмя ревет из-за побродухи-невесты!
Кристина удивленно посмотрела на бухгалтера, а тот многозначительно показал глазами на открытую дверь конторы в сторону стеклянного шкафчика, где у господина Рооса хранился графинчик с коричной водой.
– К жениху бы шла, его утешать надо! – бросил на прощание отец.
Кристина отправилась в свою комнату, чтобы сначала быстренько переодеться, да между делом выдать горничной белье, да кстати объяснить кухарке все, что следовало, насчет воскресного жаркого, да заодно послушать последние городские новости, и тогда она собиралась сразу же проведать жениха и узнать, что там у него стряслось.
Ты ведь и сам знаешь, любезный читатель, что в положении Траугота мы все проходим через известные стадии, так уж устроен человек. – Вслед за отчаянием он впадает в тоскливое оцепенение, которое знаменует наступление кризиса, а затем страдания принимают более мягкую форму, и тогда вступают в действие целительные силы природы.
Достигнув упомянутой стадии приятного, грустного страдания, Траугот спустя несколько дней уже сидел на Карловой горе и глядел с нее на морские волны и туманы, застилавшие Хельскую косу. Однако на сей раз он не пытался разглядеть в них свою грядущую судьбу; все, о чем он мечтал, на что надеялся, к чему стремился душой, – все исчезло.
«Ах, – говорил он, – я горько, горько обманулся, думая, что мое призвание – служить искусству; обманчивый призрак Фелициты – вот что ввело меня в соблазн, заставив уверовать в то, что было лишь порождением воспаленного воображения. – С этим покончено! – Я смирился! – Итак, решено – назад в темницу!»
Траугот снова принялся за работу в конторе, назначили вновь день его свадьбы с Кристиной. Накануне этого события Траугот стоял в Артуровом дворе и смотрел на роковое изображение старого бургомистра и юного пажа; за этим занятием ему невзначай попался на глаза маклер, которому в свое время Берклингер собирался продать ценную бумагу. Повинуясь безотчетному порыву, Траугот подошел к этому человеку и спросил:
– Скажите, знаком ли вам старый чудак с курчавой черной бородой, который одно время захаживал сюда в сопровождении красивого юноши?
– А как же! – отвечал маклер. – Это сумасшедший старый художник Готфрид Берклингер.
– Не знаете ли вы, – продолжал Траугот свои расспросы, – куда он подевался, где живет сейчас?
– Как же, как же! – ответил ему маклер. – Берклингер преспокойно живет в Сорренто, он давно уже поселился там со своей дочерью.
– С дочерью Фелицитой? – воскликнул Траугот так громко и с такой горячностью, что кругом стали оборачиваться на его возглас.
– Ну да, – спокойно подтвердил маклер, – она и была тем миловидным мальчиком, который всюду сопровождал старика. Половина Данцига знала, что это девушка, хотя сумасшедший отец считал, что об этом никто не догадывается ни сном ни духом. Ему напророчили, что как только дочка захочет вступить в брачный союз, он тут же умрет нехорошей смертью, поэтому он решил просто скрыть ото всех ее существование и заставлял одеваться под мальчика, так что она курсировала у него здесь как товар с поддельной этикеткой.
Траугот остался стоять в оцепенении, потом он сорвался с места и бегом бросился по улицам прочь, за ворота, на волю, в глухие заросли кустарника, громко изливая на бегу свои горести:
– О, я несчастный! – Это была она, сама Фелицита, и я сидел рядом с ней тысячу раз! – Впивал ее дыхание, пожимал ей руку – заглядывал в ее чудные очи – слышал ее нежную речь! – И вот я ее утратил! – Нет! – Не утратил! – Вперед, за нею, на родину искусства! – Я понял намек судьбы! – Вперед – вперед в Сорренто!
Он помчался домой. На его пути нечаянно подвернулся господин Элиас Роос, Траугот сграбастал его и затащил в свою комнату.
– Я никогда не женюсь на Кристине, – кричал Траугот. – Она похожа на сладострастную Voluptas, на пышную Luxurias, у нее волосы яростной Ira с картины в Артуровом дворе! О, Фелицита, Фелицита! – прекрасная возлюбленная! – тоскуя, я простираю к тебе руки! – Я спешу, спешу к тебе! – И чтоб вы наперед знали, господин Роос, – продолжал он, крепко вцепившись в побледневшего коммерсанта, – никогда вы больше не увидите меня в вашей окаянной конторе. Я знать не хочу ваших гроссбухов, и пропади они пропадом! Я художник, притом хороший, Берклингер мой учитель, мой отец, он – все для меня, а вы для меня пустое место! Как есть пустое место! – И он потряс господина Элиаса; тот завопил благим матом:
– Помогите! Караул! – Сюда! На помощь! – Спасите меня! – Зятек буянит! – Компаньон взбесился! – Помогите! Помогите!
Все конторщики сбежались на его крик; Траугот выпустил свою жертву и в изнеможении опустился на стул. Все столпились вокруг, но едва он вскочил и, бешено зыркнув глазами, прикрикнул: «Что вам тут надо!», как они дружной вереницей, в середине которой затесался господин Элиас, унеслись, точно их вымело из комнаты. Вскоре снаружи послышалось шуршание женских шелковых юбок, и чей-то голос спросил:
– Вы и взаправду сошли с ума, господин Траугот, или это была шутка?
Под дверь пожаловала Кристина.
– Нет, я отнюдь не взбесился, мой ангел, – ответил ей Траугот, – однако и не шучу. Не извольте понапрасну беспокоиться, дражайшая. Назавтра свадьбы не будет, я не женюсь на вас ни завтра, ни вообще во веки веков.
– Подумаешь! – ответила на это Кристина. – Не больно-то мне это и нужно, с некоторых пор вы мне совсем разонравились. Найдутся другие, которые больше вашего оценят меня и будут почитать за счастье заполучить такую хорошенькую и богатую невесту, как мамзель Кристина Роос, и с радостью на мне женятся! – Прощайте, месье Траугот!