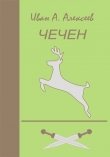Текст книги "Сохраняя веру (Аутодафе)"
Автор книги: Эрик Сигал
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
76
Тимоти
На другое утро первый чайник вскипятили для кофе, второй – для бритья.
– Какие у вас на сегодня планы, дом Тимотео? – спросил Хардт, когда они вдвоем скребли подбородки перед одним зеркалом.
– Никаких определенных. Посол приглашал меня на ужин, но это я могу сделать в любой день. В воскресенье я должен вести одиннадцатичасовую мессу.
– Что ж, на этот счет вам лучше принять решение после сегодняшнего дня, – предостерегающим тоном сказал Хардт. – То, что я сегодня хочу вам показать, может поубавить вашего рвения.
«Ну, уж нет, – подумал Тим, – этому речистому еретику не удастся отговорить меня от совершения святой евхаристии!»
Семейство Хардтов в полном составе вновь собралось за столом. Завтрак состоял из жареных бананов и, конечно, кофе.
Юный Альберту показал пальцем в наряд Тима и захихикал.
– Футболист!
– Ага, – сказал Тим по-португальски. – Ты играешь в футбол?
– Да, сеньор. Придете сегодня на игру?
– Я пока не знаю, что мне приготовил на сегодня твой папа. – Тим повернулся к хозяину дома: – Эрнешту?
– Не волнуйтесь. Школьный матч будет частью вашей грандиозной программы знакомства с трущобами.
Мужчины помогли хозяйке убрать со стола, после чего Изабелла принялась мыть голову дочке. Анита пронзительно плакала и сопротивлялась.
Мужчины тем временем снова уселись за стол и налили по третьей чашке кофе. После чего Хардт закурил третью сигарету за сегодняшний день.
– Надо вам бросить курить, дом Эрнешту, – посоветовал Тим. – Табак вас убьет.
– А вам надо отказаться от безбрачия, – парировал тот. – Воздержание убьет вас быстрее.
– Почему вы так говорите? – смутился Тим.
– Я видел ваше лицо, когда вы говорили с Альберту. – Он вдруг заторопился. – Кстати, он же меня убьет, если опоздаем к нему на игру! Пошли скорей!
Тим поспешил за Хардтом на улицу. В начищенных кожаных туфлях Тиму пришлось месить грязь в закоулках фавелы.
Уже в самом начале «экскурсии» Тиму стало ясно, что ночная тьма в значительной мере скрывала убожество поселка. Здесь царили гам, нищета, смрад и антисанитария.
Движок, как у Хардта, имелся не более чем в пяти или шести домах. Воду в поселок качали две коммунальные напорные станции. Заметив потрясение Тима, Хардт поспешил его успокоить:
– Да, да, дом Тимотео. Здесь очень грязно. Но смею вас заверить, что все, что вы вчера ели, было подвергнуто кипячению. В этом как раз мы с братьями-францисканцами добились определенных успехов: привили людям элементарные навыки гигиены и резко сократили заболеваемость дизентерией.
Выйдя из удушливой атмосферы жилого поселка, они добрались до мокрого поля, на котором Альберту с двумя десятками сверстников играли в футбол. Встреча была жаркая. Счет в матче обозначали по две пустые канистры из-под масла, выставленные у обоих ворот.
Не прерывая игры, футболисты приветствовали приходского священника.
– Oi, дом Эрнешту! Como vai?[93]93
Как дела? (порт.).
[Закрыть]
– Bem, bem[94]94
Хорошо, хорошо (порт.).
[Закрыть], – отвечал Хардт и махал в ответ.
– Кажется, они не скучают, – заметил Тим. – Какие у них еще тут есть развлечения?
– Да никаких, – ответил его спутник. – А кроме того, нам особо некогда заниматься здоровыми, нам и страждущих хватает. Идемте дальше.
Они вернулись на тесные улицы поселка, и Хардт продолжил свои пояснения:
– Вы, должно быть, себе представляете, что у нас здесь – как вы выражаетесь, в странах «третьего мира» – очень высокий уровень рождаемости.
– Да, – тихо сказал Тим. – Кажется, представляю.
– Но стремительный рост населения сдерживается благодаря одному из самых высоких в мире показателей младенческой смертности, – с горькой иронией продолжал Хардт. – Ребенок, родившийся в здешних условиях, имеет в десять раз больше шансов умереть на первом году жизни по сравнению, скажем, с Огайо. А оканчивает свою жизнь (если вообще можно назвать жизнью существование индивида в таких вот фавелах) средний бразилец на десять лет раньше, чем его собратья в Штатах.
Несколько минут они молча шагали по грязной дороге. Потом Тиму пришел в голову вопрос:
– Дом Эрнешту, не сочтите меня ненормальным, но я заметил, что нам то и дело попадаются кучки довольно атлетических парней, которые… как бы это сказать… ко мне приглядываются, что ли…
– Не тревожьтесь, – успокоил Хардт. – Они вас не тронут.
– Но кто они? Бандиты?
– Это сильно сказано, Ваша честь. На самом деле они не просто известные граждане фавелы, но и члены организации жителей – так называемой ассоциации морадореш. Если коротко, они следят, чтобы все было в порядке, и делают для нас то, что должны бы делать власти.
В этот момент они поравнялись с большим зданием, которое заметно выделялось на фоне нищенских лачуг. Это было длинное белое строение, похожее на сарай. При ближайшем рассмотрении в этом бараке оказалось целых два этажа.
– Сей небоскреб – наша больница, – объяснил дом Эрнешту.
– А эти люди на крыльце – морадореш или врачи?
– Не те и не другие. Это гробовщики.
Хардт серьезно посмотрел на Тима.
– Лучше вам туда не ходить. Некоторые болезни очень заразные.
– Ничего страшного, – заявил Тим, призывая на помощь всю свою отвагу.
К тому, что предстало его взору, он совсем не был готов. Ему доводилось посещать больных и умирающих во многих клиниках, но никогда он не видел смертельно больных людей, которые не получали бы совсем никакого лечения и ухода.
Огромная палата оглашалась криками молодых и стенаниями стариков. На плечо Тиму вдруг легла ободряющая рука Хардта. Эрнешту ласково заговорил:
– Я тебя хорошо понимаю, брат мой. Последние десять лет я прихожу сюда изо дня в день и все равно не могу к этому привыкнуть.
– А что, врачей никаких нет? – изумился Тим. К горлу подступила тошнота.
– Конечно, нет, – ответил Хардт. – Они приходят, совершают обход и уходят. Время от времени, если расщедрится какая-нибудь крупная фармацевтическая компания, оставят тут обезболивающие средства или какие-нибудь новейшие препараты.
– Хоть какое-то утешение… – заметил Тим.
– А-а… – махнул рукой Хардт. – Вы должны понять, что при всей щедрости любых компаний мира они все же предпочитают не дарить, а продавать. А это значит, что лекарства достаются нам тогда, когда по той или иной причине они признаны негодными для «цивилизованного» потребления. – Он уточнил: – Не стану вам говорить, как нас завалили талидомидом, когда весь мир уже кричал о вызываемых им врожденных уродствах и прочих пакостях.
Медсестры у нас есть. Причем одна или две даже с образованием. Остальные – те же морадореш, которые умеют только делать уколы, выносить покойников и перестилать койки. – Он тяжко вздохнул. – Это единственное место, где я жалею, что не избрал своей специальностью медицину. Что может священник? Только совершить последний обряд и попробовать объяснить несчастным, почему Господь так рано забирает их к себе…
Тим огляделся. На низких койках лежали больные. Одни корчились от боли, другие бились в судорогах, но большинство от слабости даже не шевелились. Да, подумал он, вот так должен выглядеть Дантов ад. Постепенно за криками и стонами умирающих он стал различать какой-то другой звук.
– Я слышу детей.
– Верно. – Хардт смерил его внимательным взглядом. Ему стало жаль Тима. – Они наверху. Если сказать вам, что там в десять раз страшнее, чем тут, это не будет преувеличением. Вы уверены, что выдержите?
За Тима ответили его горящие глаза.
– Разве не сказал Господь: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»?
– Прекрасно, брат мой, – похвалил Хардт и дружески взял его под руку. – Я восхищаюсь вами.
Хардт повел его по шаткой импровизированной лестнице на второй этаж.
От вида и запаха Тима затошнило. Несчастные маленькие дети, бледные и тощие, некоторые – со вздутыми животами, лежали на матрасах и скулили. Самые маленькие умирали на руках у матерей.
– Скажите, – срывающимся голосом спросил Тим, – сколько из этих детей выйдет отсюда живыми?
При всей любви к риторике Хардт на этот раз не хотел говорить вообще.
– Сколько, дом Эрнешту? – не унимался Тим.
– Иногда, – начал Хардт, – очень редко, Господь посылает нам чудо. – Он опять замолчал.
От ощущения собственной беспомощности Тим разозлился.
– Чем они больны?
– Чем обычно болеют дети? Дизентерией, тифом, малярией и, конечно, СПИДом. Поскольку болезни – это единственное, в чем мы идем в ногу со временем.
– Это же бесчеловечно! – взорвался Тим. – В Бразилии только в городской черте должно быть шесть крупных клиник!
Хардт кивнул:
– Они существуют. Но мы, как говорится, – не их район.
Тим что-то задумал. Он повернулся к Хардту и попросил:
– Вы можете отвезти меня в отель, а потом обратно?
– Конечно. – Тот был в недоумении. – Но зачем?
– Не спрашивайте. Можете считать, что я решил что-то сделать для этих детей.
– В таком случае вы бы лучше помогли ребятам у входа сколотить побольше маленьких гробов.
Тим вышел из себя:
– Сейчас, дом Эрнешту, я говорю с вами на правах архиепископа. Извольте сделать то, о чем вас просят!
Хардт в изумлении развел руками и двинулся к выходу.
При виде заляпанного грязью джипа привратник отеля «Националь» поспешил навстречу, чтобы поскорей отправить его на стоянку, но тут заметил, кто за рулем.
– Добрый день, падре. Давайте я отгоню вашу машину?
– Спасибо, мы только на минутку и сейчас же обратно.
– В таком случае я стану сторожить ваш джип, как цепной пес!
Хардт подмигнул Тиму, словно говоря: понял, кто здесь главный?
Через несколько минут Тим вышел, таща с собой черный саквояж.
– Могу я спросить, что у вас там? – поинтересовался Хардт, отруливая от тротуара.
– Нет, брат мой, – отказался Тим. – Это сугубо официальное дело.
Остаток пути они слушали по радио жаркий репортаж с футбольного матча.
Доехав до селения, Тим извинился и прямиком направился к Хардту в кабинет. Переодеваясь, он слышал, как обмениваются недоуменными репликами Эрнешту с Изабеллой. Когда он вышел, у обоих от его вида захватило дух. Он был в полном пурпурном облачении епископа римской католической церкви.
– Что это вы задумали? – саркастически произнес Хардт. – До карнавала два с лишним месяца.
Тим не смеялся.
– Я снова иду в больницу. Можете меня не провожать. Я помню дорогу.
Он, не мешкая, вышел из дома. За ним двинулись ошеломленные хозяева.
Прошло минут двадцать, и они поняли, что есть такие аспекты земного и божественного, которые «теология освобождения» не учитывает. Тим поочередно подходил к больным детям, опускался рядом с ними на колени, разговаривал (с каждым – на понятном ему языке), а главное – прикасался к ним рукой. Хардты видели издали, что от его слов дети смеются, а матери плачут. Всякий раз он заканчивал беседу крестным знамением, после чего переходил к следующему больному, а рыдающие матери благословляли его и инстинктивно старались облобызать ему руку.
Дойдя таким образом до конца палаты, Тим обернулся и далеко за морем детских глаз увидел своих хозяев. Оба улыбались. Он отслужил самую важную службу за все годы своего священства.
Потом все трое вернулись к Хардтам, и, пока Изабелла готовила кофе, Эрнешту спросил:
– Что это было – урок мне, как надлежит пастырю исцелять души?
– Дом Эрнешту, – отвечал Тим, – если вы извлекли для себя что-то новое, я буду только рад. Что до меня, то я лишь пытался доказать самому себе и вам, что в могуществе Святой Матери Церкви есть нечто позитивное.
Но убедить Хардта ему не удалось.
– Тим, – начал он, – с вашим сердцем вы тронули бы этих детей даже в костюме Санта-Клауса.
– Не согласна! – вступилась за гостя Изабелла. – Люди знают, что пурпурную мантию носят епископы. Только они никогда их не видели. – Она повернулась к Тиму. – Вы были правы, дом Тимотео.
– Спасибо. Если вы думаете, что это может как-то помочь, то я бы хотел завтра отслужить там молебен. На каждом этаже.
Ко всеобщему изумлению, Хардт вдруг попросил:
– А можно я вам буду ассистировать, дом Тимотео?
Дни слагались в недели, недели – в месяцы, и постепенно отношения между двумя слугами Господа стали весьма доверительными. Тим со временем стал отдавать предпочтение теплу бразильского семейного очага перед роскошью отеля. Частенько они ночи напролет проводили в дискуссиях на темы Священного Писания. И делились самым сокровенным.
Однажды вечером Хардт, по обыкновению попыхивая сигаретой, спросил:
– Скажи мне, мой юный друг, неужели ты никогда не любил женщину?
Тим замялся, не зная, как ответить. Даже в этой дали и глуши в его подсознании продолжал жить образ Деборы. Однако он не говорил о ней никому за исключением своего духовника, да и тогда не называл ее имени. И не рассказывал, что он испытывал, когда был с нею. Он всегда говорил только о своем грехе, но никогда – о счастье. Сейчас же Тиму захотелось излить душу этому человеку, которому он так сильно симпатизировал.
Бразильский пастырь внимательно выслушал его рассказ, не перебивая даже тогда, когда Тим говорил сумбурно и комкал детали.
Потом Хардт деликатно сказал:
– Думаю, тебе бы следовало на ней жениться. – Он вздохнул и спросил: – А ты так не считаешь?
– Я принял обет. Я женат на Святой Церкви, дом Эрнешту.
– И тем самым лишь увековечил ложный постулат. Из всех отрывков Писания, которые я мог бы сейчас привести в доказательство своей правоты, самым парадоксальным – и подходящим к случаю – является глава третья из Первого послания к Тимофею. Ты, конечно, помнишь, что в ней сам апостол Павел формулирует требования к образцовому епископу, настаивая, что он должен быть «непорочен… трезв, благочинен…».
Тим машинально вставил пропущенное:
– «…одной жены муж».
– Скажи честно: ты до сих пор не можешь ее забыть?
Взор Тима затуманился, так что он не видел лица своего друга.
– Да, Эрнешту. У меня перед глазами все время ее лицо.
– Мне жаль тебя, – сочувственно произнес Хардт. – Мне жаль, что тебе не суждено испытать той особой любви, какая есть между мной и моими Альберту с Анитой.
Тим развел руками.
– А ты сумел бы ее отыскать?
После некоторого раздумья Тим сказал:
– Думаю, это возможно.
Они немного помолчали. Затем Хардт снова заговорил:
– Я буду за тебя молиться, брат мой.
– О чем конкретно?
– О том, чтобы тебе достало мужества, – ответил тот с чувством.
77
Дэниэл
Это было как искривление времени. Несколько минут назад я любовался по-галльски изысканными улицами Монреаля – и вот через каких-то несколько кварталов нахожусь уже в районе, который вполне мог бы сойти за нью-йоркский Истсайд сто лет назад.
Нет, улицы и здесь выглядели достаточно элегантно – и Сент-Урбен, и бульвар Сен-Лоран. Но этим канадский дух района исчерпывался. Вдоль всего бульвара, который местные называли не иначе как Главный, вывески магазинов были на идише, и этот язык звучал повсеместно в оживленных переговорах лоточников с бородатыми покупателями в черных пальто.
Проработав почти шесть лет в самых отдаленных уголках Новой Англии, я только теперь понял, как мне недоставало этих знаков и звуков моего детства.
Должен признаться, что Главный вызывал во мне жестокую ностальгию. За исключением одной детали: я больше не носил униформы. Моя одежда ни в коей мере не отвечала представлениям здешних иммигрантов о костюме настоящего еврея. На меня глазели так, словно у меня были две головы, и обе – без кипы.
Несмотря на все это, единственным доступным мне способом подзарядить «батарею» своего национального самосознания было отправиться на улицу Сент-Урбен, что я и делал всякий раз, как представлялась возможность.
Как только у меня возникала потребность в какой-нибудь новой еврейской книге – или, наоборот, в старом раритетном издании, – я отправлялся в Монреаль, ибо это был ближайший ко мне город, где имелись еврейские букинисты. Таким образом, раз в несколько месяцев я совершал «путешествие библиофила», и мне доставляла неизъяснимое удовольствие сама возможность подержать в руках новые книги, неспешно их полистать.
В то достопамятное воскресенье я основательно подкрепился двумя сандвичами с острой пастромой – пища богов, которой не найдешь в Новой Англии, а затем направился к конечному пункту моей поездки – книжному магазину «Светоч вечности» на Парк-авеню.
Я всегда звонил заранее и извещал реба Видаля о своем приезде, чтобы сей образованный муж, владелец лавки, был на месте. Я привык полагаться на него в выборе литературы на темы Ветхого Завета. Однако в тот день, войдя в магазин, я его не обнаружил. Какой-то древний, ссутуленный служащий в углу зала разговаривал с несколькими клиентами.
Я прошел к столику, где были выставлены новые поступления.
Не могу описать это чувство. Когда-то в Бруклине это было для меня чем-то само собой разумеющимся. Теперь же, отшельник из глухого лесного края, я впервые начал ценить радость прикосновения к книге на священном языке.
Так я провел минут двадцать, а затем стал терять терпение и направился навести справки к прилавку, где стоял старомодный кассовый аппарат. Быть может, реб Видаль просил мне что-нибудь передать.
И в этот момент вся моя жизнь перевернулась.
За кассой сидела румяная девушка лет восемнадцати-девятнадцати. Таких бездонных карих глаз я еще никогда не встречал. Даже издали я ощущал исходящую от нее квинтэссенцию божественного сияния – то, что мистики называют шекина.
Я почтительно подошел и пролепетал:
– Простите, я ищу реба Видаля. Мы договаривались…
Она немедленно повернулась ко мне спиной.
Бог мой, каким же я стал неучем! Ни одна благовоспитанная девушка из семьи ортодоксальных евреев не станет говорить с незнакомым мужчиной. Она явно находилась в магазине для того, чтобы обслуживать женскую клиентуру.
В смущении, чувствуя себя полным болваном, я попытался извиниться – чем навредил еще сильней.
– Пожалуйста, извините меня, – бормотал я, – я не думал вас обидеть. Я хочу сказать…
Она опять отвернулась и на идише обратилась к старику в дальнем углу зала:
– Дядя Эйб, ты не поможешь этому джентльмену?
– Минутку, Мириам, – ответил тот. И прибавил: – По-моему, шайгец какой-то. Ты лучше иди в подсобку.
Я разозлился. Он обозвал меня самым обидным словом, каким ультраортодоксальный еврей может выразить свое неодобрение другому еврею. Он назвал меня иноверцем.
Я, без сомнения, дал бы волю своему гневу, если б ее дядя, ведь он судил по внешним признакам, не был абсолютно прав. В конце концов, в своем свитере поверх рубашки без галстука я явно смотрелся здесь чужаком. Не говоря уже о непокрытой голове и недопустимо коротких бакенбардах.
Дядя Эйб издалека разглядывал мою особу, и я даже слышал, как он пробурчал:
– Что за хуцпа[95]95
Нахальство, наглость (иврит.).
[Закрыть]!
После чего нарочито долго возился с другими покупателями, должно быть, втайне рассчитывая, что я потеряю терпение и уйду.
Наконец он оформил их покупку, и в магазине остался я один. Когда я подошел, он спросил:
– Oui, monsieur[96]96
Да, месье? (фр.).
[Закрыть]?
Черт возьми, за кого он меня принимает? За Ива Монтана? Как бы то ни было, к его вящему облегчению, я отозвался на идише, в душе надеясь убедить его, что я – личность не совсем пропащая.
– Чем могу быть полезен? – спросил он с легким раздражением.
– Я ищу реба Видаля, – ответил я. – Я звонил ему и предупреждал, что сегодня буду здесь.
В его глазах мелькнула догадка.
– А, так вы, должно быть, ковбой?
– Кто?
– Так вас мой брат называет. Ему пришлось отлучиться – повез жену в больницу. Он просил перед вами извиниться.
– Что-нибудь серьезное? – встревожился я.
– Видите ли… – Он развел руками. – Когда ваше детство проходит не в детском садике, а в Берген-Бельзене, – он говорил о концлагере для евреев с иностранным гражданством, – все может оказаться серьезным. Но, слава Богу, на сей раз это очередной гипертонический криз. Так чем могу быть полезен?
– Пожалуйста, передайте ребу Видалю от меня привет и пожелания скорейшего выздоровления его супруге. Я пока посмотрю «Еврейскую книгу вопросов» Альфреда Колача, с вашего позволения.
– А зачем?
– Что – зачем? – не понял я.
– Я хотел бы понять, зачем вам труд такого рода. Вы разве еврей?
– Смеетесь? По мне что, не видно?
– По одежде – нет. Но поверю вам на слово. Объясните только, зачем вам книга, в которой объясняется то, что знает каждый шестилетний бохер из ешивы?
– Вам это покажется удивительным, – ответил я, – но далеко не все в этом мире имеют возможность посещать ешиву. У меня масса учеников, которые жаждут побольше узнать о своих духовных корнях, но не читают на иврите. Могу я все же просить вас показать мне эту книгу?
Дядя Эйб пожал плечами, нагнулся под прилавок и достал синий с красным томик. Я с одного взгляда понял, что это именно то, что нужно: доходчивое разъяснение иудейских традиций.
– Отлично! – сказал я. – Могу я заказать через вас двадцать пять экземпляров?
– Это возможно, – нехотя протянул он, по-видимому, не желая доставлять мне удовольствие быстрым согласием.
И тут опять появилась его восхитительная племянница:
– Дядя Эйб, папа звонит.
– А-а… – встревоженно протянул старик и на ходу бросил мне: – Подождите здесь. – Выйдя из-за прилавка, он строго обратился к девушке: – Мириам, с ковбоем не разговаривай!
Она покорно кивнула и проводила дядю взглядом.
Я знаю: то, что я потом сделал, было недопустимо. Но я это сделал. А почему – не скажет вам ни одна «Еврейская книга вопросов». Я заговорил с девушкой.
– Мириам, вы еще школьница? – робко спросил я.
Она помялась, потом, стараясь глядеть мимо меня, повернулась и смущенно ответила:
– Мне не положено с вами разговаривать!
Но не ушла.
– Знаю, что не положено, – согласился я. – Запреты на этот счет содержатся в Своде еврейских законов, глава сто пятьдесят вторая, статья первая. А еще в «Шульхан Арух Эвен а-Эзер», глава двадцать вторая, статьи первая и вторая.
– Вы знаете «Шульхан Арух»[97]97
Букв.: «накрытый стол». Средневековый свод законов Каббалы, мистического течения в иудаизме.
[Закрыть]? – удивилась она.
– Скажем так, я некоторое время его изучал и полную версию знаю неплохо.
– Вот, наверное, почему вас папа так любит!
Я был потрясен.
– Вы хотите сказать, что реб Видаль что-то обо мне говорил?
Она вспыхнула и снова оглянулась.
– Сейчас дядя вернется. Я лучше…
– Постойте! – остановил я. – Еще одну секунду! Что именно говорил обо мне ваш отец?
Она застенчиво выпалила:
– Что вы… что вы очень образованный. И что он жалеет…
– О чем? – перебил я в нетерпении.
И в самый ответственный момент, конечно, нагрянул дядя Эйб. Он пытливо посмотрел на Мириам.
– Ты говорила с этим незнакомым мужчиной? – сурово вопросил он.
Она онемела, и мне пришлось вмешаться:
– Это моя вина, сэр. Я спросил, который час.
– У вас что же, нет часов? – недоверчиво уточнил старик.
– Гм-мм… – Я судорожно искал какого-нибудь объяснения. – Мои что-то встали. – Это была почти правда. Ибо в космическом смысле в тот миг, как я увидел Мириам, время для меня остановилось.
Он приказал племяннице выйти из зала, пока он «займется этим туристом». Но, к моему восторгу, Мириам не послушалась. Ее будто пригвоздили к прилавку, и она жадно ловила каждое слово нашей беседы.
– Итак, мистер, – отрывисто произнес старик. – На сегодня мы с вами разобрались?
– Нет, – возразил я. – Не для того я проделал двести миль, чтобы заказать одну книгу, и только. Я рассчитывал обсудить с ребом Видалем новые публикации по мистицизму.
– Что ж, придется вам отложить это до другого раза. Счастливого пути!
Не давая ему удалиться, я спросил:
– А Шолем?
Он хмыкнул, приняв мою реплику за неправильно произнесенное прощание.
– Шалом и вам.
– Да нет! – все не унимался я. – Я говорю о Гершоме Шолеме. Который пишет на тему Каббалы.
Он расценил мое замечание как уловку – каковой оно и являлось – и с сомнением произнес:
– Какая конкретно работа вас интересует?
– Ну, я бы хотел посмотреть, что у вас есть.
– Пожалуйста. – Он показал на стеллаж напротив. – Мистицизм у нас там. Три верхние полки. Если потребуется что-то уточнить, позвоните вот в этот колокольчик, я сейчас же выйду. А теперь прошу меня извинить.
Он обернулся к племяннице. Она стояла на том же месте.
– Мириам – нахмурился старик, – я, кажется, велел тебе идти.
– Я же с ним не разговариваю!
– Но ты смотришь! – рявкнул строгий дядя. – А ты знаешь, что об этом говорит Свод!
Пробил мой час. Я встрял в разговор, постаравшись вложить в свой вопрос всю неприязнь.
– Не могли бы вы уточнить, в каком конкретно трактате содержится этот запрет?
Дядя Эйб растерялся.
– Гм-мм… Неважно. Запрещено, и все тут!
– Прошу меня извинить, – начал я, разогреваясь к драке. – Согласно первой статье главы сто пятьдесят второй Свода, это мне запрещено глядеть на Мириам – чего, как вы видите, я и не делаю. Мне запрещено смотреть на нее, запрещено говорить, что красивее ее волос мне в жизни видеть не доводилось, а голос ее звучит слаще любого другого. Но я, конечно, такого себе никогда не позволю!
Я украдкой бросил на нее взгляд. Она улыбалась.
– Как бы то ни было, все книги Шолема, какие у вас тут выставлены, у меня уже есть, так что я, пожалуй, откланяюсь до следующего раза. Могу я вас попросить передать кое-что ребу Видалю?
– Может быть… – ответил старый цербер. – И что прикажете ему передать?
– Я, разумеется, отправлю ему по этому поводу официальное письмо, но просьба моя заключается в том, чтобы меня по всем правилам представили его дочери – конечно, в присутствии ее наставницы.
– Это исключено! – огрызнулся старик. – Она благочестивая девушка…
– Не беспокойтесь, – заверил я, – я непременно надену кипу – и даже черный костюм и меховую шапку, если понадобится.
– Вы над нами издеваетесь? – вскинулся старик.
– Нет, просто пытаюсь вас убедить, что я достоин аудиенции вашей племянницы. В любом случае, пусть это решит ее отец.
– Нет, он будет против, я в этом убежден, – твердо объявил старик. – Вы из какой-то глуши… Семьи вашей мы не знаем…
Пожалуй, тут я должен признать, что впервые в жизни ощутил гордость за свою родословную. Теперь от меня требовалось только одно – быть тем, кто я есть.
– Не найдется ли у вас случайно экземпляра «Большой книги хасидских напевов»? – небрежно полюбопытствовал я.
– Конечно, найдется. Оба тома. Купить хотите?
Я ответил на вопрос вопросом:
– А может быть, вы знакомы и с представленными там песнями?
– С некоторыми. – Он отвел глаза, из чего я заключил, что он уже чувствует себя посрамленным. – С самыми известными – безусловно.
Я снова украдкой посмотрел на Мириам, которая не спускала с нас глаз, дожидаясь развязки.
Я стал напевать:
– «Бири-бири, бири-бири-бум».
Старик уставился на меня, как на сумасшедшего.
Вдохновленный этим, я стал прищелкивать пальцами и запел в полный голос.
– Узнаете мотивчик, реб Эйб?
– Конечно! Это сочинил Моисей Луриа, покойный зильцский рав, да будет земля ему пухом. Это все знают.
– Так вот, я его сын – бири-бум.
Я услышал резкий вдох и обернулся – Мириам закрывала рот рукой. Но глаза ее были открыты, и они сияли. Старик стоял разинув рот. Он начисто лишился дара речи.
И тут от дверей загудел голос:
– Эйб, чем это вы тут занимаетесь?
Старик обернулся. На пороге стоял его брат реб Видаль, солидный мужчина в возрасте.
И тут беднягу Эйба прорвало.
– Этот мешугеннер[98]98
Сумасшедший (идиш).
[Закрыть]… Поет тут… Говорит, он…
– Знаю, знаю. Я только хотел спросить, почему…
– Что – почему? – спросил вконец ошалевший дядюшка.
– Почему ты ему не подпеваешь?
И добродушный реб Видаль расхохотался в голос.
Надо ли говорить, что желанной аудиенции я добился. Больше того – меня пригласили провести с Видалями весь шабат плюс воскресенье. Разместили меня в квартире дяди Эйба на Кларк-стрит.
Остаток недели я провел в отчаянных попытках отрастить бакенбарды и благодаря черному цвету волос умудрился к пятнице достичь приемлемого минимума.
Распаковывая свой чемодан в гостевой комнате – сильно сказано для большого чулана, в котором мне было предложено поселиться, – я вспоминал бешеную суматоху предшествовавших нескольких дней. Я задался целью обзавестись всеми атрибутами ортодоксального еврея и, кажется, прочесал все возможные магазины в поисках приличного – и хорошо сшитого! – ортодоксального наряда. Сейчас, глядя на себя в зеркало, я как будто услышал: «Эй, Дэнни, ты где пропадал?»
Мать Мириам не пожалела ни сил, ни средств на ужин. Были приглашены даже перезрелые кузины – Менделе и Софи. Мой вклад заключался в бутылке «Шато Барон де Ротшильд», строго кошерного настоящего французского бордо.
Единственное, чего я боялся, это пролить красное на их дорогую белую скатерть, поскольку стоило мне войти – и я не мог больше оторвать глаз от Мириам. В бело-голубом платье с высоким кружевным воротом и манжетами она была еще прелестнее, а при свете мерцающих свечей личико у нее было совсем ангельское.
Мною владели противоречивые эмоции. С одной стороны, я был счастлив, и даже польщен, что реб Видаль, как мне показалось, прочесал все музыкальные сборники в своем магазине и выучил абсолютно все, сочиненное равом Луриа. С другой стороны, я боялся, что меня будут воспринимать исключительно как его сына. Но потом я убедил себя, что, раз наш библейский предок Иаков мог четырнадцать лет работать в полях Лавана, чтобы заслужить свою возлюбленную Рахиль, значит, и я смогу пережить высокое положение своего рода и все же добиться Мириам собственными усилиями.
– Кстати говоря, – упомянул реб Видаль за рыбой, – я читал в «Ла Трибюн», что ваш дядюшка наделал много шума.
– Как так? – удивился я вполне искренне: я был не в курсе. Хотя я раз в неделю обязательно звонил домой, разговор наш по большей части состоял из града маминых вопросов, моих ответов и вариаций на тему, тепло ли я одеваюсь.
Хозяин дома пояснил:
– Да как будто бы он подписал обращение, опубликованное в «Нью-Йорк таймс», вместе с несколькими другими раввинами консервативного – и даже реформистского! – толка, в котором они призывают государство Израиль уступить арабам земли на Западном Берегу в обмен на мир. Для человека с его положением это беспрецедентный поступок!
Я не мог сдержать гордости за дядю. Саул не только повел себя как настоящий лидер – то есть поставил во главу угла благополучие своего народа, но и бесстрашно заявил о своей позиции в публичной форме.
– Нет сомнения, многие видные раввины-ортодоксы обрушатся на него с критикой. Уверен, что и в самом Бруклине у него друзей не прибавилось, – добавил реб Видаль. – Вы считаете, он правильно поступил?
– На сто процентов! – ответил я. – Первейшей обязанностью лидера является обеспечить сохранение своего народа в истории. У Саула были на то все законные основания. Да и сама Библия весьма противоречиво определяет границы Еврейского государства. Исход, глава пятнадцатая, стих восемнадцатый, подстрекает наше честолюбие, называя нашей всю территорию «от Нила до Евфрата», тогда как Книга Судей в первом стихе главы двадцатой упоминает лишь землю «от Дана до Вирсавии», что не включает ни Хайфу, ни пустыню Негев.