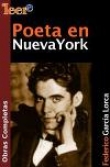Текст книги "Санта действительно существует?"
Автор книги: Эрик Каплан
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Глава 5
Санта-йога
Мистики иногда сравнивают свою речь с пальцем, указывающим на луну. Даже если сторонники мистических традиций иногда утверждают, что они не согласны друг с другом, они могут ошибаться. Так, буддисты иногда говорят, что они отличаются от индуистов, потому что последние верят, будто все сущее обладает личностью, хотя Будда учил, что личность – иллюзия. Тем не менее мне не ясно, почему буддисты имеют право говорить вам такое, потому что индуисты утверждают, что личность есть то, о чем вы не можете сказать ничего. Это «нети-нети» – не имеющее ничего общего с емкостью для промывания носа, но в переводе с санскрита означающее «ни то ни другое». Иначе говоря, на вопросы «Это ум?», «Это тело?», «Это время и пространство?» дается ответ «Ни то ни другое». Потому, возможно, реальность, о которой, как считают индуисты, нельзя говорить, но которую они тем не менее называют личностью, – та же самая, в которую верят буддисты, о которой нельзя говорить и которую они называют «не-я». Забудьте слово «возможно». Если реальность – это все, что существует, так должно быть. Двум реальностям надлежит быть одной, потому что нет двух реальностей. Индуисты указывают на луну большим пальцем, буддисты – мизинцем. Тантристы – чем-то еще.
Мысль о том, что могут существовать какие-то невысказанные знания, привела меня к конфликту с Дональдом Дэвидсоном, крупнейшим философом Беркли в мою бытность там. Тогда, в середине 1990-х годов, Дэвидсон считался настолько важной фигурой, что студенты совершали паломничество к нему даже из таких отдаленных мест, как Тайбэй и Гамбург, чтобы писать монографии, посвященные исследованию какой-нибудь малюсенькой извилинки коры его головного мозга. Дэвидсон развивал философию, которая толковала понятие благотворительности, но, по иронии судьбы, он был зол на всех, кто с ним не соглашался, и называл своих оппонентов дураками. Это сочетание благотворительности в качестве предмета исследования и презрения в реальной жизни делало его очень грозным соперником. Вслед за своим наставником, профессором Уиллардом Куайном, он утверждал, что никто не может иметь радикально иную концепцию реальности и что понятие «концепция реальности» даже лишено смысла, поскольку, чтобы понять кого-то, говорящего на своем языке, мы должны интерпретировать то, что он говорит, а чтобы интерпретировать, мы должны верить, что речь идет о реальности: о предметах, воде, соли, перце и т. д. Я нашел это довольно обидным, потому что в то время мне казалось, что такая постановка вопроса делает мистицизм невозможным. Дэвидсон и Куайн презирали обсуждение «внутреннего света» и Альфреда Норта Уайтхеда, склонного к мистике соавтора Рассела (Куайн однажды сказал, послушав речь Уайтхеда: «Альфред Норт Уайтхед, Мэри Бейкер Эдди, Иисус Христос…»).
В своей работе «Об идее концептуальной схемы» Дэвидсон, в частности, разнес в пух и прах диссертацию и репутацию Бенджамина Уорфа. Тот был инженером и лингвистом-любителем, он изучал язык хопи и пришел к выводу, что у этой народности нет принятого на Западе понятия о времени. Исследование Уорфа о способах описания времени у хопи стимулировало невзаимную любовь хиппи к хопи. Опровергая выводы Уорфа в своей книге, Куайн и Дэвидсон писали, что система времен в языке хопи все-таки существует, поскольку мы понимаем, когда наш собеседник-хопи использует одно слово, чтобы рассказать о чем-то, имевшем место вчера, и другое слово, чтобы рассказать о том, что будет завтра.
Я обратился с вопросом об этом к своему двоюродному брату Гарри, хиппи и лингвисту, в надежде, что он примет мою сторону, а не сторону Дэвидсона, – но он этого не сделал! Он сказал, что Дэвидсон прав! Тем не менее даже без моральной поддержки двоюродного брата я начал бороться против философии Дэвидсона – и боролся все время, что учился аспирантуре. Высокомерный Дэвидсон был у меня на устной защите. Он поставил зачет, хоть и выглядел при этом недовольным – впрочем, возможно, он просто хотел есть. Я почувствовал, что должен принять вызов Дэвидсона, потому что мои надежды на мистическое прозрение – и, следовательно, счастье, и, следовательно, жизнь после смерти – зависели от него. Если бы оказалось, что Дэвидсон прав, я бы никогда не встретил индейца-шамана, или тибетского ламу, или таинственную женщину с длинными черными волосами, имеющую представление о реальности, выходящее за рамки того, что я знал, пока рос в странном и грустном доме со своей семьей в Бруклине. Такое развитие событий казалось очень обидным!
Я отчаянно хотел верить, что мистики – не просто жулики или сбитые с толку, запутавшиеся люди, которые завалили «Введение в философию языка» – этот предмет Дэвидсон преподавал в Куинс-колледже. Есть ли способ ухватиться за их сообщения? Будда иногда говорил: он мог бы рассказать о том, что знает, но не будет, так как считает, что это не важно. В Чуламалунковаде, или сутте об отравленной стреле, он заявляет, что учит возникновению страдания и прекращению страдания, и приводит в пример своих последователей, которые задают вопросы о реальности людей, получивших ранение отравленной стрелой и, перед тем как начать извлекать яд, спрашивающих о цвете волос поразившего их лучника. Это довольно странный момент. Во-первых, даже если жизнь есть страдание, мы не спешим, особенно если время есть иллюзия. Будда должен быть в состоянии ответить на наши вопросы о Вселенной примерно за десять минут, а затем рассказать, как избавиться от страданий. А во-вторых, страдание является в некотором смысле ложным ощущением себя как отдельной сущности, так что можно подумать, будто извлечение яда укажет, что вера является ложной, и заменит ее на истинную. Но хоть Будда и говорит нам, что наша наивная вера в самих себя ложна и приводит к неприятностям, он никогда не дает нам более правильного предположения о самом себе. Все, что он делает, – одобряет все другие способы, которыми мы можем думать о проблеме, и сообщает нам, что все они неправильные. В Палийском каноне, который является лучшим собранием того, что на самом деле говорил Будда, есть запись его беседы с последователем о том, что происходит с монахом, когда он освобождается от иллюзии веры в собственное «я».
Аггивессана Ваччхаготта: «Таким образом, когда ум монаха освобожден, учитель Гаутама, где он возродится (после смерти)?»
Будда: «Термин “возродится” не используется, Ваччха».
Аггивессана Ваччхаготта: «То есть он не возрождается, учитель Гаутама?»
Будда: «Термин “не возрождается” не используется, Ваччха».
Аггивессана Ваччхаготта: «…одновременно возродится и не возродится, учитель Гаутама?»
Будда: «…не используется, Ваччха».
Когда учителю Гаутаме задают четыре вопроса, он отвечает: «“Возрождается” не используется», «“Не возрождается” не используется», «“И возрождается, и не возрождается” не используется», «“Ни возрождается, ни не возрождается” не используется». Я в недоумении, учитель, я в замешательстве, и доверие, установившееся во время прошлого разговора с Гаутамой, исчезло.
Бедный Ваччха! Почему бы Будде не сказать то, что он должен сказать? Прикидывается ли он скромным? Несет ли он ахинею (этот термин философ Гарри Франкфурт определяет как вращающиеся слова без подтверждения их истинности или ложности, используемые в целях продвижения собственных замыслов)? В это тоже трудно поверить, потому что, согласно легенде, у Будды было все, чего только может пожелать человек: богатство, власть, статус, гарем женщин, гороскоп, который показал ему короткий путь, как стать владыкой всей Индии, – но Будда отказался от всех благ, потому что понял: это не принесет ему долговечного счастья. Сейчас мы могли бы подумать, что такая легенда – просто реклама, но почему бы не отнестись с некоторым доверием к словам тех, кто находил в учении Будды удовлетворение в течение многих столетий? Если допустить, что они не все время были обмануты, как это станет работать? Как то, что говорит Будда, может одновременно оказаться абсолютно истинным – и абсолютно не заслуживающим доверия?
Может, Будда так же относится к обычному человеку, как тот относится к Эбенезеру Скруджу. Скрудж – субъект, который думает только о деньгах. У него нет близких друзей, он никого не любит, и единственное, что он делает, – это зарабатывает деньги и наблюдает, как растут его банковские счета. У него очень ограниченная эмоциональная жизнь и совсем нет воображаемой или духовной жизни.
Представьте, что мы пытаемся донести до него свои чувства о наших детях. Скрудж считает, что все определяется стоимостью. Мы заявляем: «Любовь к собственному ребенку – то, что я никогда не продам». Скрудж отвечает: «Тогда она бессмысленна!» Мы говорим: «Нет. Это важнее всего на свете». Скрудж: «Ага! Она очень дорога! Как спортивный автомобиль, но еще дороже?» Мы: «Да нет же! Любовь не имеет ни ценности, ни стоимости». Скрудж: «О’кей, то есть она обладает высокой ценностью и не обладает ценностью». Мы: «Нет!» Скрудж: «Ни высокой ценности, ни ценности вообще?..»
Нет! Неправильно! Скрудж просто пребывает в ограниченном, невротическом, измененном состоянии сознания – наверное, он употребляет закись азота или ЛСД (хиппи, конечно, так и думали!). Мы же находимся в более возвышенном состоянии сознания, чем он, и поэтому ему может быть непросто понять то, о чем мы говорим. Мы – лучше, и мы используем более развитый язык и более совершенное мышление, потому способны думать о том, о чем он (пока) не может. Ему нужно изменить свое сознание, чтобы попасть в другое свободное пространство, или, в терминологии хасидов, перейти от закрытого сознания к расширенному.
Если мы хотим помочь Скруджу, мы можем предложить ему пройти терапию, чтобы выйти за рамки его денежного сознания. Мы можем предложить ему отправиться на прогулку, не думать о деньгах так много и просто попробовать ценить красоту в жизни. Если он послушает нас, то столкнется с довольно непростой задачей – увидев красивый солнечный луч, он будет сперва думать: «Вау! Восхитительно!» – а потом: «Эй, если я установлю тут солнечные батареи, то получу пониженную налоговую ставку!» Если мы дадим ему стихи и музыку, написанные людьми, не одержимыми деньгами, это может всколыхнуть его эмоции. Тем не менее есть вероятность, что он поймет наш жест неправильно и решит, что ему следует собирать стихи и музыку авторов, не заботящихся о деньгах, чтобы в результате получить ценную коллекцию и, вероятно, когда-нибудь продать на eBay за миллионы. Это путь, по которому Скрудж, финансовый маньяк, может пройти маленькими шажками, чтобы понять, что жизнь есть нечто большее, чем просто деньги; но также существует путь, по которому он не сумеет сделать ни шага, – ему придется совершить прыжок в новую форму сознания, в новую форму бытия. Если он преуспеет в этом, то сможет сказать, что его жизнь стала лучше, что он видит гораздо более красивую вселенную, а его старый взгляд на вещи станет казаться ему темным и неполным. Прежде чем достигнуть просветления, Скрудж видел, как мы делаем и говорим вещи, не имеющие смысла. Теперь они обрели смысл и для него, но это не означает, что он может объяснить их в понятиях, которыми оперировал в прошлом.
С этой точки зрения, то, что предлагает буддист, является реальным пониманием, но оно состоит в том, что наша обычная ошибочная структура мышления всегда понимается неправильно. Так что, если Куайн и Дэвидсон с детства имеют невротическую необходимость контролировать жизнь и мышление людей, они не смогут интерпретировать то, что говорит мистик. Для них двоих слова мистика покажутся пустыми и бессмысленными, но проблема будет заключатся в Куайне и Дэвидсоне, а не в мистике. Можно сказать, что часть идей остаются невыразимыми для некоторых людей, а проблема состоит вот в чем: люди, которые находят, что Будда должен сказать то, что труднее всего услышать, оказываются теми, кому больше всего надо это услышать. Если дело обстоит так, вполне логичными представляются колебания между попыткой сделать буддийское учение достаточно ясным, чтобы оно приносило пользу людям, и беспокойством о том, что сделать его «полезным» означает пожертвовать всем ценным, что в нем есть. Так, в самом начале Будда учил, что есть такая вещь, как «ниббана»17 – приостановка эгоцентрических способов мышления. Однако потом возникло движение махаяна, последователи которого утверждали, будто хинаяна18 (их предшественники), рассматривая ниббану как нечто отличное от обычной жизни, придерживались очень небуддийского отношения: если есть что-то отличное, но не у нас, мы должны сделать все, чтобы заполучить его. Как мы с вами ранее находили различные способы, позволяющие привести Скруджа к осознанию факта, что любовь – это не дорогая в денежном исчислении вещь, что она принадлежит к другой категории бытия, так и буддист должен убедить нас, что то, о чем он говорит, – не просто еще одна вещь, которую нам нужно получить.
Когда приверженцы хинаяны высказали свое понимание метафизически, они заявили, что все формы пусты. Вы думаете, что правда есть что-то, что можно удержать или укусить, но на самом деле это иллюзия. Нет ничего, что имеет смысл получить, и нет ничего, чье существование осмысленно. Но сторонники махаяны решили, что такой подход упускает из вида главное, и выразили эту мысль в диалоге между несколькими головами божества Авалокитешвары и монаха старой школы хинаяны по имени Шарипутра. Вот цитата из Сутры сердца, которая названа так, потому что она – сердце сутр совершенства мудрости, которые имеют более-менее краткие формы19: «Здесь, Шарипутра, форма есть пустота, и пустота есть форма; форма не отличается от пустоты, и пустота не отличается от формы; и все, что есть форма, то есть пустота, и все, что есть пустота, есть форма, такая же, как чувства, восприятие, импульсы и сознание».
Авалокитешвара сказал Шарипутре: «Ты думаешь, что Будда учил другому образу жизни, свободному от жажды эгоизма, и ты отчаянно хочешь вести такой образ жизни. Но само мышление является формой эгоистического влечения. Все, что ты делаешь в жажде просвещения, превращается в желание сигарет, виски и диких, диких женщин».
Эта точка зрения в более философской, диалектической форме лежит в основе школы буддистов махаяны, известной как Мадхъямака. Она была основана философом, алхимиком и йогом Нагарджуной, который якобы узнал свою философию от змееподобных нагов на дне океана. (Интересно, что в то время как в истории об Эдемском саду змей становится источником понимания того, что отделяет нас от реальности, в мифе о Нагарджуне змеи – отличные ребята.) Волшебные змеи показывают, как все, с чем мы имеем дело, в действительности очищается от любого независимого состояния.
Сказанное выше относится и к нам, и к тому, что мы хотим получить или чего стремимся избежать. Это шуния – пустота собственной природы. И она появляется только в контексте: цветок есть цветок только потому, что он становится плодом, плод есть плод только потому, что он полон семян, семена есть семена только потому, что из них вырастает трава, трава есть трава только потому, что на ней появляются цветы. Нельзя ничего определенного сказать о высшей реальности. Тем не менее Мадхъямака различает две истины: условную истину, также известную как рыночная, и абсолютную истину. Итак, давайте зададимся вопросом: «Пуста ли сама пустота?» Утверждение «Ничто не существует» – это абсолютная истина или все-таки условная?
Запишите свой ответ до того, как продолжите чтение.
Если вы предположили, что, в соответствии с Мадхъямакой, истина существования абсолютна, – вы ошибаетесь. Потому что все – пустота, и пустота – тоже пустота. Потому что языком невозможно выразить высшую реальность, и даже утверждением «языком невозможно выразить высшую реальность» ее нельзя выразить. Различие между условной и абсолютной истиной есть условная истина. Мадхъямака предлагает нам движение по кругу, которое приводит нас туда, откуда мы начали.
Подобный парадокс существует и у даосов. В Дао дэ цзин, основополагающем тексте даосизма, Лао-цзы утверждает: «Тот, кто знает, – не говорит, а тот, кто говорит, – не знает». Следовательно, Лао-цзы не знал – но он основал даосизм. Китайский философ Ту Вэймин как-то заявил, что Конфуций был лучшим даосом, потому что он учил, как люди могут ужиться в обществе, и, следуя изречению Лао-цзы, ничего не сказал про даосизм. Конечно, Ту Вэймин был конфуцианцем.
Как все, о чем я только что рассказывал, связано с Санта-Клаусом?
Это один из возможных подходов: сказать, что Санта-Клаус и все то, во что мы верим в Америке, – личность, любовь, смерть, наука – явления одной природы. Ничего этого не существует на самом деле. А если мы посмотрим на Санту сквозь призму диалектики Мадхъямаки, мы в конце концов в каком-то смысле поверим в него. Мы не будем привязаны к нему, но мы сможем использовать его по своему усмотрению. Наше отношение к Санте будет чем-то сродни мировоззрению тибетцев, практикующих божественную йогу. Они сначала осознают, что все свободно от материи, а затем представляют себя тантрическими божествами: красочными, хорошо одетыми сексуальными сущностями с несколькими головами и руками, полными оружия для спасения людей.
Таким образом, мы могли бы медитировать на Санта-Клауса, закрыв глаза и пытаясь получить его опыт.
Мы могли бы повторять его имя снова и снова: «Санта, Санта, Санта, Санта…» – такая практика называется джапа-йога.
Мы могли бы искать прибежище в храмах Санты, полных его статуй, и слушать лекции на Северном полюсе.
При этом нам не пришлось бы беспокоиться о том, существует он или нет, потому что парадокс заключается в самих особенностях реальности. Перефразируя Нагарджуну, можно сказать:
Неправда, что Санта-Клаус существует.
Неправда, что Санта-Клаус не существует.
Неправда, что Санта-Клаус ни не существует, ни существует.
Неправда, что Санта-Клаус одновременно и существует, и не существует.
И сказанное было бы правдой! Капля катится к сияющему морю.
Глава 6
Я делаю, и я не делаю
Какого типа возмущения будет испытывать капля, скатывающаяся в сияющее море?
Давайте начнем с выводов Джемса о мистике. Он утверждает, что последователи мистических учений, как правило, склонны к оптимизму и пантеизму. Они считают, что Вселенная – хорошая штука, поэтому они счастливы и верят, что все в каком-то смысле является проявлением первичной, невыразимой, по-настоящему удивительной и потрясающей реальности. Далее Джемс задает вопрос: «Имеет ли это значение? Разве сам факт, что мистики так ощущают реальность, доказывает, что она и вправду настолько удивительна и потрясающа?» В конце концов наркоманы, употребляющие героин, считают, что все великолепно и что волноваться не о чем, но они не правы. А еще есть активисты, выходящие на митинги против политиков, с чьим курсом они не согласны, – эти люди считают, будто они точно знают, что случилось со страной, но и они ужасно заблуждаются. Джемс утверждает, что мистические состояния авторитетны для человека, который с ними знаком, но отнюдь не для остальных людей. Последние должны проверить, являются ли границы реальности, про которые говорит мистик, действительно существующими или тот их домыслил. Джемс допускает, что, например, люди, утверждающие, что в мистическом экстазе видели дьявола, и страдающие от этого, – шизофреники.
Таким образом, мистицизм авторитетен для человека, но не для человечества. Такая формулировка звучит как хороший компромисс – она демократична, взаимоуважительна, вежлива. На самом деле она улаживает огромную проблему. Потому что есть одна вещь, которую мистики настойчиво пытаются донести: что границы между людьми не существуют. Так что если Джемс прав в том, что авторитетные для мистика вещи несущественны для остальных людей, не означает ли, что мистик ошибается? Как может существовать то, что авторитетно только для кого-то из нас, если мы все едины?
Пропаганда мистического смирения Джемса также, кажется, не отражает отношения мистиков к своим внутренним взглядам. Да, есть неустановленное число молчаливых приверженцев мистических учений, но те мистики, чьи произведения дошли до нас, довольно многословны. Они чрезвычайно активно говорят о необходимости молчания и очень хотят, чтобы все остальные поняли, насколько важны их мысли о самоотверженности. Они утверждают, что добились понимания самых потаенных глубин реальности – серьезная заявка, и не важно, сообщают они это громогласным голосом или застенчиво хихикая. Даже если мистик не утверждает сам: «Я – бог, поклоняйтесь мне» (а некоторые заявляют и такое), их последователи часто говорят: «Ты – бог, мы будем тебе поклоняться» и «Мой гуру – бог, вы должны ему поклоняться» (и в этой настойчивости мистиков обычно трудно остановить20). Последователи таких наставников утверждают, что разница между нами и гуру – как между безумным человеком и здоровым или как между животным и человеком. Если они и не считают это в буквальном смысле магией – а они часто так считают, – то они верят, что их гуру – образец святости, энергии, любви, стойкости и так далее.
На самом деле наличие внутреннего противоречия – еще не признак хорошего человека. В таком случае вы можете быть, и я уже говорил об этом, либо жуликом, дурачащим людей, либо сумасшедшим. Как показал Джордж Оруэлл в романе «1984», нечто похожее на свойственные для мистицизма парадоксы вполне способны проявлять тоталитарные режимы, деятели которых утверждают: «Мир – это война» и «Свобода – это рабство». Если вам хочется почитать что-нибудь не имеющее смысла, но свеженькое, поищите материалы по северокорейской философии чучхе. Последние книги по сайентологии21 показывают, как Рон Хаббард пудрил мозги своим адептам нелогичными поступками и утверждениями, как выбрасывал их с корабля и заставлял скитаться по миру в поисках кладов из предыдущих жизней; Георгий Гурджиев22 также вел себя ужасно по отношению к своим последователям.
Буддисты часто утверждают, что мы становимся менее эгоистичными, когда понимаем, что сами являемся иллюзией. Нагарджуна написал суньяту «Пустота – чрево сострадания». То есть осознание факта, что все самости пусты и взаимосвязаны, должно заставить нас любить и проявлять сострадание. Роберт Турман, первый американец, ставший буддийским монахом (и первый мой учитель), пишет в предисловии к сутре Вималакирти: «[буддийские учителя] рекомендуют культивацию большой любви и великого сострадания, сохраняя при этом общую осведомленность о полном отсутствии чего-то подобного живому существу, страдающему существу, существу в неволе. Короче говоря, они показывают путь к полной недвойственной мудрости и великому состраданию».
Это не обязательно, но, как мы видели при обсуждении Мадхъямаки, определенные допущения возможны. Буддисты скажут, что когда они приспосабливаются – они приспосабливаются к более спокойной, менее сумасшедшей обстановке. Но почему? Не должны ли они приспосабливаться таким образом, чтобы сто процентов тревог и безумия были в начале? Если путь и вправду круг, не должен ли он привести нас в начальную точку?
Турман продолжает: «Мудрость не позволяет нам довольствоваться привычными чувственными объектами (например, “дано” или “там”) и заставляет учиться и практиковаться в вылазках под поверхность видимой “реальности”, чтобы получить абсолютное осознание конечной реальности всех вещей. В то же время великое сострадание не позволяет нам настроить материальную “объективную реальность”, погрузиться в квиетический транс или принять нелогичное релятивистское стремление, но в обязательном порядке заставляет нас действовать самоотверженно».
Аргумент Вималакирти, изложенный Турманом, состоит в том, что понимание пустоты, а затем пустоты пустоты даст нам свободу от навязчивого мышления и сделает нас сострадающими. Но надо учитывать следующее. Когда я слышу, что кто-то кричит «Спасите! Спасите!» из квартиры этажом выше, я – если только я хороший человек – почувствую себя обязанным пойти помочь. Но если это MP3-плеер проигрывает аудиофайл с записью криков «Спасите! Спасите!», а в квартире нет никого, я не должен ничего делать. Не чувствуют ли буддисты нечто подобное: что смысла в неоказании помощи столько же, сколько в ее оказании?
Это не только теория. Если вы перешли к тантрической буддийской йоге перед ужином, посмотрите меню, перед тем как начать. Как говорит «Йогаратнамала» («Ожерелье из йоги»): «Еда и питье должны быть, и от них нельзя отказаться из-за того, что что-то разрешено, а что-то запрещено. Не следует выполнять ритуалы омовения и очищения и избегать вульгарного поведения… Он должен есть все виды мяса… Он любит всех женщин, свободных от предрассудков… Он должен есть пять нектаров, пить ликер из черной патоки, есть ядовитый ним и пить плацентарную жидкость. Он должен есть кислые, сладкие, горькие, горячие, терпкие, соленые, гнилые, свежие и кровавые жидкости вместе со спермой. Из понимания недвойственности знаний следует, что не существует ничего несъедобного. Получив менструальную кровь, он должен поместить ее в чашу из черепа, смешать с мокротой и слизью и, давая клятву, выпить это».
Подобное касается не только диеты. «Вы должны убивать живых существ, говорить ложь, принимать то, что не дано, и использовать чужую жену».
Некоторые из самых приятных тантрических буддистов, например Далай-лама, говорят, что все эти заявления про убийства и блуд – только метафора. Но многие воспринимают их как инструкцию к действию. Лидер тантрического буддизма Осел Тендзин продолжал заниматься сексом, не предохраняясь, уже после того, как узнал, что он заразился ВИЧ. Тем самым он распространял болезнь среди последователей обоего пола. В его организации с этим мирились: будучи высшим духовным существом, превзошедшим дуальность, наместник дхармы делал то, что делал, чтобы открыть сознание своих учеников. Спасибо, учитель!
Еще одна проблема с мистиками состоит вот в чем: даже если они не сторонники авторитаризма, они все равно могут быть глупцами. Когда студент спросил ныне покойного профессора Колумбийского университета Сидни Моргенбессера, согласен ли он с Мао Цзэдуном, что что-то может быть одновременно А и не-А, Сидни сказал: «Я согласен и не согласен». Это означало, что логика и проверка должны помочь нам приблизиться к реальности и улучшить наши убеждения, принять такую точку зрения на противоречия и мистику, которая позволяет не пинать мяч одновременно во все стороны. Если вы хотите знать что-то про диких сумчатых Северной Америки, вам не поможет, если вам скажут, что они то ли есть, то ли их нет; поможет вам, если кто-то скажет, что они существуют. Когда же вы потребуете доказательств, вам предъявят опоссума. Моргенбессер перефразировал Аристотеля, который сказал, что бесполезно спорить с теми, кто не принимает закон противоречия, это все равно, что спорить с овощами. Вы не хотели бы спорить с овощами, равно как не хотели бы оказаться у алтаря с тем, кто скажет: «Я согласен, и я не согласен».
Мистик может оказаться одновременно глупцом и тираном, потому что главное оружие, которое ум может использовать в борьбе с несправедливой властью, это выявление ее внутренних противоречий. И если мистик в ответ скажет «жизнь противоречива» (вторя нашим родителям, которые, устав придумывать оправдания для наказаний, говорили просто «жизнь несправедлива»), он наголову разобьет одну из лучших стратегий сознания, подвергающих сомнению нечестное и несправедливое положение вещей. Стоит отметить, что индийская культура, давшая нам Упанишады, также породила и Шиталу – богиню оспы. Когда индийские дети умирали от этой болезни, их родители ублажали Шиталу и говорили, что ничего сделать нельзя. А потом живший на другом краю Евразии Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заболевают оспой натуральной, и изобрел прививку – так болезнь была искоренена. Это пример рациональной точки зрения.
Иногда граница между самоотверженной простотой дзена и глупостью очень тонка. Как мы видели, хинаяна учит, что «я» – это иллюзия, и предлагает всем жить как монахам, без имущества, семьи и ужина23, чтобы освободиться от иллюзии самости. По махаяне буддийские монахи создавали психологические структуры, убеждавшие людей, что существует такая великая вещь – свобода от страданий и что ее нужно пытаться достигнуть. Приверженцы махаяны утверждают, что, в то время как они сами делают это, последователи хинаяны культивируют в людях жадность, но дают им нечто новое – щедрость. Тем не менее приверженцы махаяны – все еще буддисты. Они учат людей, как следовать учениям Будды, как одеваться, как медитировать – хотя иногда им проходится задаваться парадоксальным вопросом: «Если я просветлен, зачем я медитирую?» На одном из шагов этого пути некоторые учителя24 начинают говорить, что не нужно не только пытаться достичь ниббаны, но и даже верить в истинность буддизма. Таких учителей легко можно раскритиковать в том же ключе, в котором сторонники махаяны высказываются в отношении сторонников хинаяны: что мы не должны быть нездорово привязаны ни к чему, в том числе к вере в то, что мы не должны быть ни к чему привязаны. В этом месте вы, вероятно, зададитесь вопросом, почему они должны получить микрофон, если, по их собственному мнению, им нечего сказать. Один мой друг увлекался французской философией деконструкции25. Во время наших разговоров он превозносил возможности этого учения, утверждая, что деконструкция способна разобрать сама себя. Я отвечал, что, если деконструкция разбирает сама себя, зачем вообще читать эту скучную толстую книгу? Не лучше ли отправиться на пробежку или потратить время на какую-нибудь из морских историй Патрика О’Брайана26?
Задумайтесь на минуту об истории Кришнамурти и Теософского общества. Последнее было основано мадам Блаватской, русской шарлатанкой, которая утверждала, что является ученицей тибетских махатм, в частности некоего Кут Хуми. Слово «шарлатанка» может показаться немного жестковатым, но достаточно будет сказать, что слово «Кут Хуми» совсем не похоже на то, как в действительности звучат тибетские имена, что в описаниях Тибета Блаватской нет ничего общего с тем, что там есть на самом деле, и что ее учение, описанное в «Разоблаченной Изиде», – это просто какая-то фантастика, повествующая о затонувших континентах и исчезнувших человеческих расах, обладавших магической силой. После Блаватской духовным лидером теософского движения выступал найденный Чарльзом Уэбстером Ледбитером красивый молодой индиец по имени Кришнамурти – он считался воплощением Майтреи, Учителя Мира. Впрочем, через несколько лет Кришнамурти отказался от роли мессии и заявил своим последователям, что вера в духовные общества и особую мудрость их адептов – ловушка.