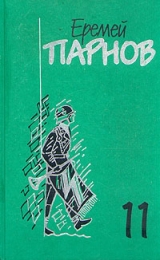
Текст книги "Заговор против маршалов. Книга 1"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
– Ничуть, Вальтер. Все более чем серьезно: вы только что выпили яд.
– Что? – Шелленберг поперхнулся и закашлялся.
– Я дал вам яд, Вальтер. Если вы скажете правду, всю правду, какая бы она ни была, получите противоядие. Нет – дело ваше, готовьтесь держать ответ перед господом.
– Но это же немыслимо! – пунцовое от напряжения лицо Шелленберга пошло белыми пятнами.
– Вы уяснили свое положение?.. Я хочу знать, что у вас было с Линой. Но только правду, Вальтер! Ложь будет стоить вам жизни. И поторопитесь. Яд начинает действовать через полчаса.
– Что вы хотите знать? – уже спокойнее спросил Шелленберг.
– Как вы провели время с моей женой? Учтите, я заранее принял меры и знаю все. Каждое ваше слово записано.
– Тогда нечего спрашивать, раз вы и так все знаете.
Гейдрих подосадовал, что несколько пережал. Шелленберг, надо отдать должное, держался достойно. Но игра шла наверняка, и можно было не стесняться.
– Мне нужно проверить вашу искренность. Это единственное, что меня интересует. Поэтому говорите, и не дай бог вам солгать!
– Оригинальная манера проверять людей,– Шелленберг покачал головой.
– Не теряйте драгоценное время,– Гейдрих демонстративно взглянул на часы.– Мне бы не хотелось, чтобы противоядие опоздало.
– Итак, вам нужна правда... Какая именно?
– Какая бы она ни была,– повторил группенфюрер, следя за секундной стрелкой.– В любом случае я обещаю вам жизнь.
– Хорошо,– Шелленберг поправил угол платочка в кармашке двубортного пиджака, налил в стакан воды из сифона, но пить не стал. Собираясь с мыслями, вынул пачку «Кэмел» и зубами вытащил сигарету.– Дайте огня.
Гейдрих с улыбкой поднес зажигалку.
– В тот день, когда вы улетели, мы допоздна гуляли вдоль берега,– он жадно затянулся.– Говорили о скачках, Новалисе, поэзии романтиков... Потом ужинали у камина. При свете огня, если вас это интересует.
– И все?
– А чего вы ждали?.. Где-то во втором часу мы разошлись по своим комнатам. На следующее утро позавтракали на открытой террасе. Опять гуляли, проехались немного верхом... А после обеда я отбыл в Берлин.
– Почему не остались до вечера?
– Вы же сами сказали, что я понадоблюсь вам в понедельник утром.
– Я действительно так говорил?
– Ну, если вы и в этом сомневаетесь...– Шелленберг погасил сигарету и, наклонив красиво подстриженную, с идеальным пробором голову, глухо бросил: – Давайте ваше противоядие. Я все сказал.
– Все ли, Вальтер?
– Вы ведь приняли меры! – он было забарабанил пальцами, но сразу же убрал руку.– Или это блеф?..
Послушайте, Рейнгард, вы узнали все, что хотели, и давайте кончим на этом.
– Давайте кончим! – Гейдрих со смехом плеснул в оба бокала, наполнив свой до золоченого ободка.– Это и есть противоядие. Я действительно пошутил, милый Вальтер,– дурачась, как бурш, он запрокинул голову и перелил коньяк в глотку.– С сегодняшнего дня ваши фотографии нигде не должны появляться,– сказал, выдохнув.
Шелленберг понял, что это может означать, и сдержанно поблагодарил.
29
Медики, сойдясь на последний консилиум у «круглого стола» в кабинете, ограничились многозначительными кивками. Ни диагноз – гемаррагическая пневмония на фоне бронхоэктазы, склероза и эмфиземы, ни ближайший прогноз разногласий не вызывали. Экзотус ожидался в любой момент.
– Может быть, все-таки поддержать сердце? – предложил Сперанский. Не было и тени надежды, но та самозабвенная вера, которой в ожидании скорых чудес жил институт экспериментальной медицины, приводила к постоянному двоемыслию. Он тут же пожалел о вырвавшихся словах. Стало стыдно перед коллегами.
– На нем и так живого места нет,– сурово бросил Плетнев.– Зачем?
– Маска Гиппократа,– уронил профессор Ланг.
Сперанский распахнул застекленные створки и предложил близким проститься с Алексеем Максимовичем.
Белостоцкий отстегнул и тут же защелкнул никелированные замочки своего саквояжа. Плетнев прав: впрыскивания бесполезны. Ни камфора, ни глюкоза, ни новейший строфантин из Германии не оказывают уже никакого действия. Только лишние муки.
Замыкая вместе с художником Ракицким – Соловьем, как его тут называли, печальное шествие, Сперанский и Белостоцкий проследовали на второй этаж. Остальные врачи задержались в кабинете. Затем и доктор Кончаловский поднялся по лестнице, машинально пересчитывая деревянные балясины.
Горький спал, и сон уводил его в странствие, которое не знает конца. Исколотое иглами тело, утратив всякую память о боли, обрело непривычную легкость, почти невесомость. Какое-то могучее, но некасаемое течение несло его по темному коридору, огибая бесчисленные углы, но впереди, как белая звезда, уже светил выход.
– А я бы дала камфору,– как бы про себя молвила медсестра Липа, но Сперанский только устало махнул рукой.
Кончаловский обошел кресло, в котором умирающий еще боролся с неотпускавшей его землей, и замерил пульс. Он был плох, но не хуже, чем в тот день, когда отменили инъекции глюкозы.
– Сопротивляется сердце...
Изменения нарастали в угрожающей последовательности. Нос заострился, кончики пальцев и раковины ушей облекло свинцовой синью. Потом началась икота, руки задвигались по пледу, левая задралась вверх и бессильно отпала.
– Прощается,– прошептала Надежда Алексеевна, Тимоша, как прозвали домашние.
Свесив голову вправо и бессильно уронив уже гипертрофированно набрякшие руки, Горький испускал короткие всхлипы. Ему виделся бог, но не в сиянии заоблачной славы, а в простой обстановке, похожей на кабинеты Кремля. И он спорил с богом, гневно и доказательно, ничего не боясь, не приспосабливаясь ни к каким обстоятельствам.
Все, кто был в комнате, придвинулись к столу, где бесполезным уродливым хламом громоздились пустые кислородные подушки, стерилизаторы со шприцами, битые ампулы, пузырьки, клочья ваты.
Липа умоляюще взглянула на Кончаловского. На Капри, когда – почти как сейчас – не осталось ни малейшей надежды, она на свой страх и риск ввела Алексею Максимовичу целых двадцать кубиков камфоры, и он ожил.
– Не поможет,– покачал головой Кончаловский.– Не нужно напрасных страданий.
Все же он спустился в кабинет, где еще оставались Левин и Ланг, жившие по соседству.
– Не надо мешать, коллега,– Левин устало опустил веки.– Пусть поступают, как хотят... Будем и родных щадить. Если им станет хоть на капельку легче... Пойдемте к нему.
Они вошли, когда Горький переменил позу, склонив подбородок к другому плечу.
– Не нужно ли тебе чего, Алексей? – умоляюще, позвала Катерина Петровна, прикорнувшая было на скамеечке возле кресла.
Одетая в черное Мария Игнатьевна Будберг нервно вздрогнула и обернулась к Тимоше, ища понимания. Торжественно-примиряющее молчание было нарушено, и это показалось кощунственным. Зачем он только вернулся? Непонятная смерть Максима, запутанные отношения, эта жуткая, давящая атмосфера вокруг. Ах, если бы он остался на Капри...
Горький открыл глаза, еще замутненные пеленой нездешних странствий.
– Как тяжело возвращаться,– пробормотал измененным голосом, едва раздвигая занемевшие губы.– Меня унесло так далеко... Всю жизнь готовился к этой минуте... Как славно, что рядом свои.
– Надо сделать впрыскивание,– Сперанский нетерпеливо махнул доктору Белостоцкому.
– Я сама! – вскочила Липа, торопливо расправляя складки халата.
– Ну вот, столько милых и разумных людей, а предлагаете...– Алексей Максимович вновь закрыл глаза и сказал после продолжительного молчания.– Хватит,– голос его заметно окреп.– Пора уходить.– Сумеречные коридоры, несущий к свету поток обещали свободу.
Запах – Липа подступила с наполненным шприцем и смоченным спиртом тампоном – задержал его, вынуждая разлепить вобравшие чуть ли не всю телесную тяжесть веки. Обведя внимательно-сосредоточенным взглядом устремленные к нему лица, он уловил выражение тревожных тоскующих глаз и послушно кивнул.
– Может, проголосуем для верности,– порадовал последней шуткой.– Кто за?
Сделав девять впрыскиваний, Липа ввела двадцать пять кубиков. Иглу выбрала самую тонкую. Но он уже не чувствовал боли.
Катерина Петровна собралась было что-то сказать, но тут с выпученными глазами вбежала домработница и кричащим шепотом оповестила о звонке из Кремля: товарищ Сталин и Молотов желают проведать Алексея Максимовича.
– Если успеют...
Горький слабо улыбнулся. Его лицо посветлело: камфора оказала живительное воздействие. Под влиянием нечаянной отсрочки произошла и невольная психологическая перестройка. С тайной надеждой ожидали приезда вождей, отодвинув на край сознания тяжкое ожидание неизбежного.
Со своей ближней дачи сюда, в Горки-10, на дачу четырнадцатую, Сталин привез не только Молотова, но и Ворошилова, который пребывал в расстроенных чувствах. Узнав о безнадежном состоянии Горького – Сталину доложили, едва закончился консилиум,– Климент Ефремович разрыдался. Тут была и жалость, и страх, и бессильная злоба на медицину, которая только обещает, но не может, в сущности, ничего. Разве не сулили эти сперанские, Федоровы, получив институт, оборудованный по последнему слову науки, золотые горы? «Управление человеческим организмом», «власть над слепыми силами природы» – где оно, управление? Власть – где?
Ожидая увидеть «Буревестника революции» на смертном одре, он был ошеломлен его безмятежным видом. Горький улыбался! Горький сидел!
Поймав торжествующий взгляд Сперанского, Климент Ефремович едва удержался, чтобы не заключить в объятия кудесника. Значит, чудо возможно?!
– Почему столько народу? – неприязненно озираясь, спросил Сталин, удивленный по-своему.– Кто тут отвечает за все?
– Я,– Крючков, секретарь Алексея Максимовича, осторожно выступил вперед.
– Кто эти люди? Зачем? Вы знаете, что мы можем с вами сделать? – не взглянув на понурившегося Крючкова, Сталин вошел в комнату.– Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть... В этом доме найдется вино? – закончил с оттенком шутки.
Прислуга внесла ведерко с шампанским.
– Выпьем за здоровье нашего дорогого Максима Горького! – провозгласил он, поднимая бокал.– А вам не следует пить,– улыбнулся Алексею Максимовичу.– Скажите, как вы себя чувствуете?
Горький перевел разговор на литературные темы: «Цари, бояре, церковники и крестьянство» Шторма, «История гражданской войны» в дешевом издании.
– Делами займемся, когда вы совсем поправитесь,– Сталин допил вино.– Не будем долго засиживаться,– кивнул Молотову,– беспокоить Алексея Максимовича.
Остановившись в дверях кабинета, подозвал Крючкова.
– Та, что вся в черном, кто? Монашка?
– Мария Игнатьевна, секретарь Алексея Максимовича. Она была с ним на Капри.
– Свечки только недостает... А в белом халате кто?
– Черткова, медсестра, тоже была в Италии.
– Всех – отсюда вон! Кроме той, в белом, что ухаживает... А этот чего тут болтается? – проходя мимо столовой, Сталин увидел стоявшего возле окна Ягоду.– Чтоб и духу его не было! – ожег взглядом Крючкова.– Ты ответишь за все.
Горький прожил еще десять дней.
Восемнадцатого июня профессор Давыдовский, руководивший бригадой прозекторов, опустил мозг, объявший и выси и бездны, в оцинкованное ведро.
Диагноз полностью подтвердился: зарастание плевральных полостей, каверны в верхушках...
Отмытые от крови полушария доставили в институт мозга.
Газеты вышли в черных рамках. Хоронили по самому высокому рангу, положенному вождям революции. На траурной вахте стояли члены Политбюро. Тухачевскому – он был частым гостем в особняке Алексея Максимовича – выпало нести караул в одной команде с Ягодой. Поразило землистое лицо Генриха, отсутствующий, заторможенный взгляд. Он как-то весь опустился и постарел за последние дни. Гимнастерка сидела мешком. Звездочка в просвете петлицы налезла, отогнувшись золотым кончиком, на вишневую эмаль ромба.
«Переживает»,– решил Тухачевский. Припухшие глаза Ворошилова тоже покраснели от слез.
Было такое ощущение, словно эта смерть, ожидаемая еще восьмого, но промедлившая с последним взмахом косы – точь-в-точь как в балладе, которую Сталин вознес превыше «Фауста»,– обозначила бесповоротный рубеж. «Любое – так у вождя! – побеждает смерть»?
Прежнее, доброе или дурное, безжалостно сметено, и на опустевшие подмостки выползает таившаяся во мраке кулис неизвестность. Та самая, отвергаемая рассудком и давно угаданная обреченно тоскующим сердцем.
Что-то похожее подступало, когда умер отец, и еще на войне, в минуты острейшей опасности. Но там решения принимались мгновенно. Действие требовало предельной собранности, концентрации мысли. Здесь же незащищенная, открытая с флангов и тыла позиция, и не знаешь, за что ухватиться...
Совершенно спокойный Сталин, каменный Молотов, увитые крепом знамена, удушливые испарения от цветов.
С Горьким отходила целая эпоха. Ее символы, дух.
Вспомнился Достоевский: «Все дозволено...»
И Ницше: «Бог умер».
Ушел слабый исстрадавшийся человек, так мечтавший о крыльях и так по-земному грешный.
30
Год, проходивший под знаком «жить стало лучше, жить стало веселее», перевалил макушку лета, сухого и жаркого. Все, что завязалось под зимними звездами, понемногу проясняли незаметно идущие на убыль дни, с их грозами и отсветами зарниц.
27 января Сталин принимал делегацию трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Ардан Маркизов привел в Кремль крепенькую прелестную девчушку в синей матроске. Едва справляясь с двумя охапками роскошных пионов, она уверенно протопала прямо в президиум. Один букет предназначался любимому Сталину, другой – Ворошилову, которого Геля любила на полмизинчика меньше.
– К тебе пришли,– хитро подмигнув Геле, шепнул Сталину Андрей Андреевич Андреев.
– Твоя? – повернулся к Маркизову вождь.– Как зовут?
– Ангельсина, товарищ Сталин, Геля.
– Ну, здравствуй, Геля,– Сталин поднял девочку, поставил на стул и забрал оба букета.
Геля было раскрыла розовый ротик и даже умоляюще посмотрела на маршала Ворошилова, но непонятная сила заставила ее промолчать.
– Она хочет сказать речь,– догадался, что-то такое почувствовав, Ворошилов.
– Это от ребят Бурят-Монголии товарищу Сталину! – звонко, как ее учили, отрапортовала Геля.
– Поцелуй! – закричали из зала.
Под восторженные выкрики и аплодисменты Сталин взял девочку на руки, а она крепко-крепко его обняла.
Так и сфотографировали их корреспонденты «Правды» и ТАСС.
– А что ты мне подаришь? – спросила Геля, сидя на коленях самого доброго и самого мудрого человека на свете.
– Она хочет подарок? – наклонился он к Молотову.
Когда закончилась торжественная часть, Молотов принес маленькую красную коробочку и уже собрался вручить, но Сталин перехватил и сам поднял крышечку с золотыми буквами «ЗИФ».
– Тебе нравится, девочка?
В коробочке лежали замечательные блестящие часики. На крышке – это она прочитала потом – было выгравировано: «От вождя партии Геле Маркизовой».
А вечером в гостиницу «Москва» два командира принесли потрясающий патефон с набором иголок.
Прошло шесть месяцев, для кого-то радостных и мимолетных, а для кого-то тяжких и долгих, ибо протяженность времени зависит от впечатлений, от состояния души. Геля была счастлива совершенно. И вот в одно прекрасное утро о ее счастье узнала вся советская детвора. Сначала «Правда», потом «Известия» и все другие, включая любимую «Пионерку», газеты напечатали карточку, где круглолицая девочка (черные глазки, как щелочки) прижимается пухлой щечкой к щеке дорогого вождя. Замечательная фотография. Даже цветы и те вышли, как живые!
Вскоре ее размножили на плакатах и открытках.
Одну такую открытку командарм первого ранга Якир купил в газетном киоске в подарок сыну Петру.
Петя повесил ее на стенке, рядом с портретом знаменитого летчика.
– Папочка! – сказал он очень серьезно.– Мне иногда становится страшно, что я мог бы родиться не в Советском Союзе...
Перед отъездом в Одессу Якир собрал начальников родов войск. Перебазировка с зимних квартир в лагеря прошла без сучка и задоринки. В палаточных городках вовсю разворачивалась подготовка к техническим учениям. Командиры и комиссары корпусов, дивизий и бригад, разбросанных по всему театру Днестра, Збруча, Буга, Случи, Тетерева, Горыни, Десны, а также Черноморского побережья, получили своевременное оповещение.
– Задача у нас одна,– подвел итоги командующий,– провести учения с демонстрацией всех видов техники на самом высоком уровне.
– Как заведено в округе,– добавил начальник Политуправления армкомиссар второго ранга Амелин.– По-стахановски!
– Обеспечить стопроцентную явку начсостава поручаю вам,– Якир передал списки комдиву Бутырскому, новому начштаба.– Вопросы есть?.. Тогда все свободны. Товарищей Фесенко и Тимошенко прошу задержаться,– он оставил обоих заместителей, чтобы еще раз четко разграничить обязанности. Тем более что ладить с Тимошенко было непросто. Слишком долго засиделся на кавалерийском корпусе и с трудом постигал значение технических средств. Не помогли ни высшие курсы, ни учеба в Германии. Оборону решительно не признавал. Шашки наголо и «ура». Любимчик наркома.
Засовывая карты в планшеты, командиры поднялись из-за стола.
– Желаю всласть искупаться в черноморской воде и покушать бычков,– неудачно пошутил комдив Шмидт, подойдя попрощаться. Из Дмитрия вырос превосходный танкист, но и для него время в каком-то смысле остановилось на гражданской. Что хотел, то и болтал, не считаясь ни с положением, ни с обстоятельствами.
Якир сделал вид, что не расслышал, и молча подал руку. Зажег новую папиросу, позвонил домой.
– Я еще малость подзадержусь, Саечка,– успокоил жену.– Как, уже сама собрала?.. Ну спасибо, спасибо... Тогда я пошлю машину... Поцелуй за меня Петра.
Пока шофер ездил на Кирова, а потом отвозил заботливо уложенный чемоданчик на вокзал, где в тупике стоял личный вагон, Иона Эммануилович благополучно разрешил тонкую процедуру раздела власти и малость побалагурил с замами.
Уехал в приподнятом настроении. С Одессой и ее портом было связано столько воспоминаний.
«Считаю, что тов. Ягода в записке от 25 марта 1936 г. правильно и своевременно поставил вопрос о решительном разгроме троцкистских кадров,– оперативно отреагировал Вышинский на посланный ему материал.– ...С моей стороны нет также возражений против передачи дел о троцкистах, уличенных в причастности к террору, то есть в подготовке террористических актов, в военную коллегию Верховного суда Союза, с применением к ним закона от 1 декабря 1934 г. и высшей меры наказания – расстрела...»
20 мая опросным голосованием Политбюро приняло соответствующее постановление.
Санкцию на арест Муралова Сталин дал заранее, не дожидаясь формального утверждения намеченных мероприятий. Список «параллельного центра» находился в работе.
Николай Иванович Муралов был активным участником первой революции и одним из руководителей Московского восстания в 1917 году. Исключенный в 1927 году из партии, он только теперь решил отмежеваться от троцкистской платформы, о чем и сообщал в заявлении, поступившем в самом начале года в ЦК. Сталин предусмотрительно распорядился оставить его без рассмотрения: слишком поздно очухался. Упорствующий оппозиционер подпадал таким образом под постановление. Его арест открывал интересные перспективы сразу по нескольким линиям. Прежде всего – по военной. В годы гражданской войны Муралов был членом РВС Третьей и Двенадцатой армий, затем – всего Восточного фронта, в последующий период командовал Московским и Северо-Кавказским военными округами.
По звонку из Москвы его взяли работники управления по Западно-Сибирскому краю.
Семь месяцев и семнадцать дней он отказывался от признаний вины.
Командира Восьмой отдельной танковой бригады Шмидта забрали на киевской квартире за неделю до начала учений. Обыск длился всю ночь, а на рассвете героя гражданской затолкали в товарный вагон с грубо сколоченными нарами и вместе с другими арестованными повезли в Москву. Впрочем, об этом он узнал лишь по приезде, когда пришла пора пересесть в подогнанный к перрону «воронок». О том, что везут на Восток, догадался по солнцу, бившему сквозь щели, а куда именно – не знал.
Очутившись в деревянном боксе внутренней тюрьмы на Лубянке, он еще на что-то надеялся, готовился что-то там доказать, но когда, стоя, в чем мать родила, увидел, как сноровисто свинтили с гимнастерки ромбы и ордена, понял: конец.
Мерзкая, унизительная процедура телесного осмотра подкосила напрочь. Стиснув зубы, чтобы не разрыдаться, не врезать сплеча холуям в белых халатах, так и сяк вертевшим его, он думал только об одном: как бы не лишиться сознания. Не доставить такого удовольствия паразитам.
– Вы часом не из деникинцев? – процедил на последнем пределе.
В камере, где каждые три минуты открывался глазок, он провел, потеряв счет времени, двое суток. Не более. Установил это, погладив обросшее лицо. Почти обрадовался, когда вызвали на допрос: затеплилась какая-никакая надежда.
С ним посменно работали Гай и Ушаков. Сначала держали на «конвейере», потом, заходясь остервенелой матерщиной, взялись за обработку. Свалив с табуретки, пинали сапогами по ребрам, резиновым шлангом полосовали спину. Метили все больше по почкам: на третьи сутки пошла окрашенная кровью моча.
– Вот тебе, падла, вот,– домогался признательных показаний Ушаков.– Нашли у тебя при обыске? Все расскажешь как миленький, польско-немецкий шпион! И не таких раскалывали, не чета тебе, говно.
Шмидт не сразу понял, чего добивается следователь, какую бумагу сует под нос. Постепенно дошло, что он, Дмитрий Шмидт, обвиняется в подготовке покушения на Ворошилова. Только и всего. Причем во время маневров и по заданию иностранных разведок, чтоб расчистить путь к власти командарму Якиру. Найденный при аресте график передвижения наркома служил уликой, вещественным доказательством.
– Но это ж какой-то кошмар! – едва ворочая распухшим языком, хрипел комдив, и кровавые пузыри выдувались на изуродованных губах.– Бред сумасшедшего. Да такие графики раздавали всем командирам соединений! Это же легко проверить! Этапы учения...
– Попой-попой, сволочь,– прерывал Ушаков, сгибая и разгибая упругую резиновую трубу.– Сейчас опять юшкой умоешься. Да нам совершенно точно известно, что твой вонючий Якир дал директиву готовить бригаду к восстанию. Когда уезжал в Вену, якобы на лечение.
– Чего ж мы не восстали, паскуда? – силясь приподняться с приколоченного к полу табурета, дернулся было Шмидт, но второй следователь оглушил его ударом по темени.
– Зачем горячиться? – попенял Ушаков.– Он уже на пределе. Завтра, вот увидишь, будет писать роман.
По сценарию в «романе» Шмидта предполагалось полностью раскрыть предательскую роль верхушки Киевского военного округа во главе с Якиром и протянуть связи в соседний Харьковский округ, где командовал Дубовой. На Тухачевского требовались отдельные показания. Собственноручно написанные, вернее, переписанные с подготовленного варианта, поступившего лично от товарища Ежова. Остальное – по ситуации, как выйдет.
– Кузьмичева уже доставили? – спросил напарника Ушаков.– Не знаешь? – и вызвал звонком конвоира.– В камеру!
Начштаба авиабригады Кузьмичева арестовали чуть позже и тоже определили во внутреннюю тюрьму. Его «прикрепили» к «хорошему» следователю, «вежливому». Вместо того чтобы сразу сломать подследственного, ввергнув его в самое пекло, такой вариант предусматривал постепенную тактику наводящих вопросов, обстоятельное разматывание, когда неизбежно выскакивают характерные подробности и, никуда не денешься, имена. Какие угодно сначала. Глядишь, где-нибудь пригодится. Следователь предполагал развернуть дело как можно шире, начав с партизанских баз, которые Якир вместе с секретарем ЦК КП(б) Косиором начали создавать еще в тридцатом году. Тысячи людей прошли тогда через учебные сборы. На них формировались лесные отряды и целые соединения. Якир не только утверждал, но зачастую и разрабатывал программу, добиваясь максимального приближения к реальным условиям партизанской войны. В том, что воевать придется, и именно так – отступая в начальной стадии под напором противника, он не сомневался: С этой целью в приграничной полосе была развернута сеть тайников, где хранилось оружие, продовольствие, портативные радиопередатчики.
В отряды подбирались специалисты широкого профиля. Подпольщик должен уметь все: изготовлять мины-самоделки, закладывать взрывчатку на железных дорогах, в опоры мостов. Практикум по радиосвязи проводили кадровые инструкторы. Курсанты, обнаружившие способность к работе на ключе, зачислялись в особую группу. Будущих партизан тренировали в прыжках с парашютом, обучали скрытно разводить костры, ориентироваться на местности, прятать боеприпасы на запасных базах.
По личному указанию Якира опытный подрывник Старинов организовал мастерскую-лабораторию для разработки новых образцов мин. За несколько лет удалось создать автоматическую мину «колесный замыкатель», управляемую по проводам мину «удочку» и многообещающую новинку – «угольную», которая взрывалась в топке паровоза.
– Отрезать врага от источников снабжения – значит выиграть войну,– не переставал повторять Иона Эммануилович.– Поезда с живой силой, техникой, горючим и продовольствием – под откос.
– Невидимый фронт зачастую становится главным,– вторил Косиор.
Однако с тридцать третьего года в оценке столь широкомасштабной деятельности Украинского (тогда) военного округа обозначился перелом.
– Какие-то пораженческие настроения,– отреагировал Сталин на доклад комиссии.– Мы не намерены уступить врагу ни пяди своей территории.
На учебных сборах поставили крест, базы и тайники помаленечку растащили, а отряды расформировали.
На текущий момент похеренная инициатива Украинского Политбюро и лично Ионы Эммануиловича расценивалась много серьезнее, чем просто «пораженчество», и следователь знал, как и куда разворачивать. Его не смущало, что авиатор Кузьмичев, хотя бы по роду своей деятельности, отстоял от лесных тайников и паровозных бункеров дальше, чем кто другой. Когда в заговор вовлечено чуть ли не все командование, подобные мелочи не принимают в расчет. «Не имел касательства? Превосходно. А кто имел?»
Но хитроумным логическим построениям, рассчитанным на психологию и прочие тонкости, не суждено было воплотиться в строки протокола. Кто-то на самом верху внес некие коррективы, под которые срочно пришлось подгонять и уготованную Кузьмичеву роль.
Для начала комдива отправили в бокс, где постоянно горела, выжигая мозг, трехсотсвечовая лампа, а следователя перебросили на другой участок, чтобы не простаивал зря. Коль скоро указания поступили от Ежова, в наркомате полагали, что это неспроста и скорее всего непосредственно связано с процессом. Недаром же следователи, ведущие Рейнгольда, Мрачковского и Дрейцера, получили добавочные инструкции. Как бы не повторилась закрутка с Иваном Никитичем, когда в пожарном порядке брали его первую жену и дочь. Ее пришлось показать Смирнову уже готовенькую, в разодранном платье, иначе бы он еще год дозревал. Кто знает, как обернется теперь? Эти вояки – крепенькие орешки.
Первотолчок исходил, однако, не от Ежова.
Знакомясь с новым «Полевым уставом», Сталин заглянул в прежние редакции и вообще порылся в уставах РККА. Один параграф, предписывавший беспрекословное выполнение всех приказов командования, кроме «явно контрреволюционных», ему не понравился.
– Кому решать, какой приказ считать контрреволюционным, а какой революционным? – в присутствии Молотова и Жданова он излил раздражение на Ворошилова.– Тебе или партии это решать? Может, маршалы будут решать? Любой красноармеец начнет теперь думать, выполнять ему приказ командира или не выполнять. Чем вы думали, головой?
– Партию представляют в армии комиссары, Коба,– Ворошилов обиделся. Он не спорил по существу. Не о чем было спорить. Он защищался от оскорбительных личных нападок.
– По-твоему, комиссар ни при каких обстоятельствах не способен на измену? Не знали мы таких комиссаров... Как, по-твоему, существуют в Красной Армии замаскированные враги, помышляющие о контрреволюции?
Ворошилов покрылся холодной испариной.
– Нельзя исключить,– в том же раздраженно– уничижительном тоне продолжал Сталин,– что отдельные белогвардейские козявки и ничтожные лакеи фашистов еще сидят в укромных норах, пользуясь благодушием и ротозейством отдельных руководителей. Они забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы и следа от них не осталось. Советский человек должен без всяких уставов знать, как реагировать на поползновения классового врага. Надо, наконец, понять, что самым решающим капиталом являются люди. Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в армии – наша страна будет непобедимой.
Ворошилов так и не понял, в каком именно уставе допущена враждебная вылазка и как ее надлежит устранить. На всякий случай назвал авторов основных разделов последней редакции: Тухачевского, Туровского и Мерецкова – все члены Военного совета.
– От случайной ошибки никто не застрахован, члены Военного совета неверно выразились. Но мы не будем поднимать шума,– уже спокойно, но обращаясь почему-то к Молотову, заметил Сталин.– Народ любит и доверяет армии. Он ничего не жалеет для армии. Она плоть от плоти народа. Зачем кого-то преждевременно оскорблять огульными подозрениями?
Ворошилов кисло улыбнулся: гроза прошла стороной.
А через несколько дней в газетах появился указ о награждении пятисот лучших летчиков орденами.
Получив откорректированные списки, Ежов обнаружил вписанное крупными буквами имя Семена Туровского, старого партийца-политкаторжанина, и дал сигнал к разработке.
Комкор Туровский был начштаба в Харькове у Дубового, что сразу множило количество «параллелей». На киевских маневрах он командовал танковым корпусом. Николай Иванович существенно расширил перечень примечательных совпадений. Иные наводили на тяжелые, даже опасные мысли.
Как в свое время Уборевичу, Якиру тоже вскоре после маневров было сделано предложение возглавить Генштаб или Военно-Воздушные Силы. То есть и того, и другого хозяин хотел – хотел ли? – перебросить на авиацию. Тут следовало скомандовать себе «стоп!» и заняться тем, что положено. Кузьмичевым, к примеру, где определенно попали в масть. Его следовало попридержать, Кузьмичева. Он попадал в самый центр пересечений. Когда пойдут показания на Якира, можно определиться точнее. Уборевич («Какой из меня авиатор?») отказался сам, заручившись поддержкой Орджоникидзе. Якир вроде бы не отнекивался, но тем не менее остался на Украине. По просьбе Постышева и Косиора. Он им там нужен, Якир? Его начштаба комдива Кучинского все-таки перевели в Москву. Начальником Академии Генерального штаба! С какого боку он Якиру, Дмитрий Александрович, бывший офицер? С Примаковым вопрос ясен – бойцы вспоминают минувшие дни. А товарищ Кучинский?








