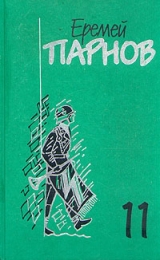
Текст книги "Заговор против маршалов. Книга 1"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
«Один рейх, один народ, один вождь!»
И ясен прямой путь, и проста конечная цель, сведенная к тотальной единице: Европа, Мир, Вселенная!
Нет цели светлей и желаннее: В осколки весь мир разобьем! Сегодня мы правим Германией, А завтра всю землю возьмем.
Ангельские личики умытых, прилизанных мальчуганов в коротких штанишках, с кинжалами на бедре. Высокий, солирующий в солнечное небо дискант: «Герма-а-а-а-ни-и-е-е-е-й»...
И слезы умиления на глазах.
И уже берут, берут. Под бой барабанов на трехцветной перевязи. Под грохот оркестров. Под украденную мелодию:
Когда граната рвется, От счастья сердце бьется!..
Шаг, шаг, шаг. Равнение голов. Согласованный взлет барабанных палочек.
Медсестры в форменных пелеринах – строем. Горняки в черных мундирах – шеренгами. Девушки в одинаковых блузах – в ногу.
Флюиды экзальтации атмосферным электричеством растекались по воздуху.
Цепи «трехслойной» охраны: полиция, штурмовые отряды, СС – взяли в кольцо оперный театр. Обезображенный пожаром старый парламент – отсюда до него было метров триста – сиротливо просвечивал арматурой прогоревшего купола. В ту достопамятную ночь Геринг пошутил, что опера важнее рейхстага, и сбылось по слову его. К ремонту так и не приступили. Поговаривали, что гауляйтер столицы Геббельс собирается перенести на новое место памятник Бисмарку вместе с сопровождающими фигурами: дородной Германией, Атласом и Зигфридом, что тяжким млатом ковал неустанно государственный меч.
Охрана стояла по всему маршруту, которым должен был проследовать сопровождаемый мотоциклистами открытый кабриолет вождя. Это была его счастливая выдумка, по сей день вызывавшая восторженный трепет. На тротуарах негде было повернуться. За спинами рослых эсэсовцев стояли сбитые в плотные отряды бойцы трудового фронта, трамвайные кондукторы, немецкие девушки и прочие представители корпораций. Неорганизованная публика, заполнив промежутки, была отжата к стенам домов. Прорваться на Вильгельмштрассе, Унтер ден Линден или ведущую к опере аллею за Бранденбургскими воротами почитали за счастье. Только бы увидеть его , хоть одним глазком! Бросить букет, выкрикнуть здравицу. Находились и простаки, чаявшие вручить прошение. Бывали случаи, когда какой-нибудь истеричке с цветочками удавалось пролезть через оцепление. Один старик даже выскочил на дорогу и сунул– таки письмо бдительному адъютанту. Эпизод попал в кинохронику. Весь рейх пришел в умиление, хотя кое– кому крепко надавали по шее. Словом, незапланированные инциденты были нежелательны. Агенты в штатском нервно поглядывали по сторонам.
«Каждому свое». Старый девиз прусского ордена Черного Орла незримо витал и над бывшим Королевским театром. Проверка документов следовала на каждом шагу. Режимный порядок включал в себя неукоснительную регламентацию.
За полчаса до начала действа театральный зал заполнили депутаты и гости. Видные промышленники, чиновники министерств и партийные функционеры заняли кресла в партере. Правое крыло первого яруса заполнили генералы и адмиралы. Все явились в парадной форме и при полных регалиях. Депутаты в подавляющем большинстве тоже были в мундирах различных ведомств. Преобладали коричневые рубашки штурмовиков и черные с серебром френчи эсэсовцев. С выборами было покончено. Нынешние законодатели империи назначались приказом фюрера и получали жалованье из партийной кассы.
Дипломатический корпус расположился в ложах бельэтажа. В верхние ярусы пропускали по гостевым билетам. Там же находилась и иностранная пресса. Почти все места, отведенные дипломатам, были заняты. Отсутствие послов Франции, Англии, Советского Союза и Польши сразу бросалось в глаза. Чехословацкий посланник Войтех Мастный, однако, на обструкцию не решился.
На сцене, где распластала длинные крылья птица с крючковатым крестом, возвышались правительственные скамьи.
Предгрозовое затишье пронзил визгливый возглас: «Фюрер!» Из оркестровой ямы грянул марш. Грохот откидных сидений и стук каблуков слились с барабанным боем. Рейхстаг приветствовал Гитлера громом Вотана. Под рев троекратного «хайль!» сопровождаемый Гессом и Герингом, он пересек сцену; повернувшись к залу, вскинул руку к плечу. На нем были сапоги, подпоясанную солдатским ремнем блузу штурмовика скромно украшал «Железный крест».
Когда зал несколько приутих, фюрер, раскланиваясь и пожимая руки, деликатно опустился на крайнее место в первом ряду.
Тучный Геринг молодцевато взбежал на самый верх и плюхнулся в тронное кресло.
Справа от фюрера сидел президент национал-социалистской ассоциации правоведов Франк, за ним – Нейрат, министр юстиции Гюртнер и Геббельс. Стиснув виски, министр пропаганды вчитывался в речь фюрера. Шахт и прочие члены кабинета расположились в следующем ряду, а у подножья трибуны изготовились к записи стенографистки и референты во главе с Дитрихом. Перед ним тоже лежала машинописная копия речи. В его задачу входило следить за возможными изменениями. Ни одно слово, ни единая пауза не должны были пропасть втуне.
Из зала жадно следили за малейшими перипетиями пантомимы. Взгляды, кивки, движения губ – все вызывало жгучий интерес. Словно приоткрывались таинственные покровы, и можно было что-то угадать, вычислить, прочитать по лицу. Завораживало ощущение приобщенности к непостижимой магии власти.
Угадав момент кульминации, Геринг спустился с Олимпа и открыл внеочередное заседание рейхстага.
– Мой фюрер! Я приветствую вас в этих священных стенах от имени германского народа! – провозгласил он, вызвав новый прилив восторга.
Речь началась сравнительно спокойно. Поправив галстук, заколотый партийным значком, Гитлер скучающим тоном повторил уже известный всем меморандум. Несмотря на хорошую акустику, его скрежещущий голос то возвышался, то падал до едва различимого шепота. Все развивалось по отработанному сценарию. Гортанный скрежет постепенно усилился, окреп, движения обрели порывистость. Бурно жестикулируя правой рукой, оратор принялся загибать пальцы. Их явно не хватало для подсчета чужих прегрешений и собственных обид. Пришлось пустить в дело другую руку. Теперь он хватался за голову, горестно раскачиваясь на трибуне, словно на палубе тонущего корабля. Судорожно сжав кулаки, метал угрозы, пока неопределенные.
Первые упоминания западных демократий, еврейства и международного коммунизма высекли искры праведного негодования. Срываясь на крик и впадая в неистовство, фюрер буквально гипнотизировал замерших слушателей. Казалось, между ним и аудиторией натянуты токопроводные жилы. Посылая будирующий сигнал, он как бы заранее предугадывал отклик. Резкие переходы вызывали внезапный хаос, приостановку дыхания, когда обескровленный мозг, не понимая слов, дрожит от заряда ненависти. В нужный момент, как на арене с хищниками, изготовившимися к прыжку, следовал громкий хлопок бича. Враг назван по имени, эпохальные задачи определены. Лозунг, ставший неотъемлемой субстанцией естества, воспринимался как откровение. Перекрывая шквал оваций, оратор давал полный выход эмоциям. Он гримасничал, буйствовал, топал, сотрясая микрофоны, и брызгал слюной. Словно шаман или медиум, которым завладели злобные духи. Казалось, вот-вот начнется припадок падучей с пеной и закатыванием глаз.
Артистически дирижируя настроением публики, Гитлер пускал в ход тщательно отработанные приемы. Даже импровизируя, не терял над собой контроля. Он увлекался, упоенно фантазировал, искренне наслаждаясь вдохновенной игрой, но не отступал от партитуры. Выдав незапланированный пассаж, он наклонялся к референтскому столику и давал указания насчет стенограммы. Справившись по тексту, Дитрих тут же вносил соответствующую поправку. Иностранные корреспонденты понимающе ухмылялись, дипломаты сидели с каменными лицами.
Маскируя вынужденные перерывы глотком воды, фюрер отбрасывал упавшую на лоб косую челку. Иногда он улыбался, приводя курьезное, по его мнению, высказывание зарубежной печати. Оскал разгоряченного, издерганного гримасой лица выглядел жутковато.
Угрозы в адрес Москвы прозвучали в один из таких моментов «просветления». Выбрасывая обвинение за обвинением, рейхсканцлер долго не мог остановиться, наверное, и сам не знал, как закончить длинный период, где концы никак не вязались с началом. Возможно, поэтому его обличения приобретали все более грубый характер.
Артобстрел франко-советского договора – Гнедин засек время – продолжался пятнадцать минут. Заметив, что на него поглядывают, Евгений Александрович поднялся и с обдуманной медлительностью покинул ложу.
Примерно в это самое время возвращались на базу самолеты, демонстрировавшие над Кельном.
Оратор между тем, не затрудняя себя риторическими согласованиями, с места в карьер обрушился на Чехословакию. На сакраментальных словах о «жертвах, приносимых немецким народом на алтарь отечества», он прослезился и впал в меланхолию. Полуторачасовую речь увенчал маловразумительный мистический бред. С трибуны сошел обессиленной сомнамбулой, кусая посеревшие губы.
– Как вам представление, сэр? – остановил своего посла Ширер на выходе из зала.– Я так понял, что следующая на очереди Прага?
– Больно было смотреть на Мастного. Всякому ясно, что маленькая страна, которая насчитывает всего четырнадцать миллионов населения, не нападет на Германию... Абсурд! А это неуемное восхваление нацистской культуры? Неужели канцлер настолько фанатичен, чтобы считать культурой нацизм?
Когда они вышли наружу, Гитлер уже уехал. Солдаты весело разбегались по своим грузовикам.
– Вот это охрана! – покачал головой Ширер.– Всего хорошего, сэр.
К Додду подошел голландский посланник Лимбур– Стирул.
– Господин Понсе, кажется, выедет сегодня для доклада в Париж, а русскому и чехословацкому представителям, возможно, придется просить отставки.– Голландский аристократ все еще мыслил категориями старой Европы.
– Нападки Гитлера, несомненно, отличались крайней воинственностью,– согласился американец. «Но до отставки не дойдет,– решил он.– Не те времена».
22
Вдоль и поперек Витезлав Незвал исходил древний мистический город, где каждая улочка, каждый помеченный терезианским знаком фасад читались как главы зашифрованной книги.
Дом «У Солнца», дом «У Луны», дом «У Звезды», дом «У Трех Скрипок» – астрологическая симфония, музыка сфер, запечатленная в стенах. Дремотные грезы былой имперской столицы, заброшенной в непонятный двадцатый век.
Хладом и сыростью тянет из сумрачных подворотен. Лязгают подковы по мостовой. Колбасники выгружают дымящийся зельц. Пекари таскают плетеные корзины с подсоленными рогаликами. Катятся бочки по наклонной доске. Грохочет, нещадно пыля, брикет в железных бункерах.
Нет, этого ничто не объяснит!
Ни красота, ни стиль своеобразный,
Ни Прашна Брана, ни площадь Староместская,
ни Карлов мост,
Ни древняя, ни молодая Прага —
Ничто – что можно осязать, что можно строить
или разрушать руками.
Нет, этого не объяснят преданья старины и красота
неповторимой Праги.
Такой на свете не было и нет, разрушив даже, ты ее
не уничтожишь.
Поэзия ее сложна, но при стараньи ее всегда
угадываю я,
Так мы угадываем мысли женщин, которых любим.
Нарисовать иль описать тебя никто не сможет,
И зеркала к тебе не поднесешь,
Я не узнал бы в зеркале тебя, и ты б сама себя
в нем не узнала.
В многоголосом верлибре проступает прерывистый центростремительный ритм. Дребезжат голубые трамваи, спускаясь с Виноград к музею, тяжелые фургоны ползут по Нерудовой и Лобковицкой, трещат моторы, изрыгая сизую гарь, на подъездах к Чернинскому дворцу.
Глядя на чешую двушпильных башен, на кресты колоколен и купола, видя их и не видя, поэт ощущает город в целом от Петршина до Градчан.
В автомате «У Короны», близ остановки автобуса, холодный «Праздрой» и нарезанная тончайшими ломтиками ветчина. Свиные ножки с влашским салатом в кафе «У Гусыни». В Кобылисах, где конечная остановка трамвая, горячие сосиски вкусно припахивают дымком. Обособленные миры. Не сливаясь друг с другом, они сосуществуют под одним небом, где весело кувыркается одинокий биплан. И у каждого своя тайна, свой особый язык, своя мелодия, свой неповторимый размер.
Незвал давно сбился с излюбленного маршрута от площади Короля Иржи до Фохова проспекта (через Жижков и Карлову улицу, мимо суровой Прашна Враны, к Вацлавской площади). Поигрывая тростью, заглядывал в каждый укромный уголок, присаживался на скамейки, прижимаясь щекой к шершавой известке, вслушивался в смутный лепет заплутавших столетий.
По зову чужой памяти, по капризу нетерпеливого сердца, стремившегося разом объять все, он сворачивал в темные переулки, узкими лазами забредал во внутренние дворы и кружил в лабиринте брандмауэров и подворотен, пока не подворачивалась спасительная пивная, где можно было перевести дух, набросав на картонной подставке примерещившийся шаманский бред.
Часть представляла целое. В полете над временем и пространством перемещались века и кварталы. Старо– Новая синагога придвигалась к ограде костела Святого Штефана, Злата улочка непостижимо втекала в Кампу, и белый восьмиконечный крест на брусчатке у Клементинума, как роза ветров, осенял любые пути. И размыкались стены, и наплывали башни, словно под каждым камнем, как у Голема под языком, таился чудодейственный шем рабби Лёва. Вот и хрустальный магический шар на черном блюде в витрине книжного магазина. С мечтательной улыбкой на круглом лице, сохранившем удивление детства, поэт долго вглядывался в глубины литого стекла и, шевеля губами, беззвучно беседовал с толпой обступивших его теней.
Репетиция в театрике «На Слуни», где они с Ярмилой Гораковой готовили «Депешу на колесах», назначена на четыре. Значит, вся Прага и все время вселенной принадлежит ему одному.
Прыснув, проскочила мимо чудаковатого толстяка тройка либеньских модисточек, седоусый пан в котелке, узнав знаменитость, почтительно обогнул тротуар. И только художник Иозеф Чапек не преминул остановиться рядом, отсалютовав точно такой же тростью.
– Сервус!
– Над чем работаете? – вежливо поинтересовался Незвал, возвращаясь на землю.
– Все валится из рук,– вздохнул Иозеф.– Карел считает, что через год-другой Гитлер начнет войну. Быть может, это последняя наша весна.
– Не все так мрачно. Мы не одни в этом волчьем мире. С нами Советский Союз.
– Саламандры беспощаднее волков,– художник отрицательно покачал головой.– Они уже кромсают сушу и мечут, мечут свою поганую икру,– и пошел своей дорогой, глянув мельком на кружащий над крышами самолет.
Роман брата «Война с саламандрами» он прочитал еще в рукописи и твердо знал, что все будет именно так: недомыслие и беспечность одних, трусость других и предательство третьих.
На подходе к Народному дому Незвал купил свежий выпуск «Право лиду». На первой полосе красовался Конрад Гейнлейн в открытом автомобиле, окруженный беснующейся толпой: оскаленные физиономии, вздернутые в нацистском приветствии руки. Рядом выразительные заголовки: «Итальянские бомбардировщики над Эритреей», «Военный парад в Кельне», «Нападение эсэсовцев на полицейский участок в Вене» – одно к одному. Что и говорить, новости неутешительные. Фашистская мразь обосновалась в собственном доме. Республика в смертельном капкане.
Но есть на земле Москва! Есть Сталин. Рабочий Париж и рабочий Мадрид. Международная пролетарская солидарность.
Часы на площади у ратуши отчетливо и протяжно пробили двенадцать. И показались апостолы в окошках, осеняя Солнце, Луну и зверей зодиака, и смерть трясла колокольчиком над завороженной толпой зевак.
На излюбленной Платнержской улице, где раз в сто лет просыпается спящий рыцарь и молит прощения у загубленной им девицы, Незвал постоял перед железной фигурой безутешного латника и, следуя закруглению мостовой, сам того не желая, очутился возле «Зеленой Лягушки». В тесном просвете домов приоткрывалась усеченная перспектива Майзловой и виднелась утопающая в тени Капрова улица. Красная лавка старьевщика, дом времен Марии-Терезии и, замкнув заколдованное кольцо, угрюмая Новая ратуша. И не видно трамваев, и редкая машина вспугнет задавленным всхлипом клаксона шелестящую тишину. Она отстаивается в замкнутом пространстве, как вино, набирая терпкость и аромат. Покрытая изумрудной глазурью лягушка висит головой вниз на шершавой стене.
После того как обезглавили чешских панов на Белой горе, трактир перешел в собственность Яна Мыдларжа – палача, и кончились бесшабашные ночные пирушки. А прежде, говорят, тут было куда как весело. И король Вацлав Четвертый засиживался за кубком мальвазии до первых петухов.
Пройдя вдоль еще ненакрытых столиков к стойке, поэт почувствовал на себе взгляд солидного господина, расположившегося возле забранного решеткой окна.
– Не узнаете? – тот привстал, сделав приглашающий жест.– Карел Новак.
– Добрый день, пан доктор,– Незвал не без труда вспомнил соседа по столу на прошлогоднем обеде в президентском дворце.– Я-то вас сразу узнал, но когда имеешь дело с политической полицией, то не знаешь, что лучше: раскланяться или сделать вид, что не заметил.
– Ценю вашу деликатность, метр.– Новак благодушно фыркнул в усы.– Но, право, она совершенно лишняя. Все-таки я министриальдиректор и в ресторанах, так сказать, не работаю... Окажете честь присесть? Вина, рома?
– Рюмочку «Бехеровки» с вашего позволения.
– Читаете социал-демократические газеты?
– Все, что под руку попадет.
– А как же партийная дисциплина?
– У вас превратное мнение о коммунистах.
– Простите, я просто пошутил, и видимо неудачно... А скажите, пан Незвал, сюрреализм укладывается в рамки партийной программы? Я так слышал, что в Москве в ходу только социалистический реализм... Кстати, не растолкуете, что это такое? Сюр – это я еще понимаю. Аполлинера так даже люблю. «Сосцы Тиресия» не без интереса смотрел, а вашу «С богом и платочек» чуть ли не наизусть помню. Как это?.. «Некто выражает всю правду тем, что ловко ее замалчивает». Здорово сказано. В Москве за такое по головке бы не погладили.
– Эх, пан доктор! Вместо того чтобы как следует прижать доморощенных фашистов, вы только и делаете, что клепаете на Москву. А Советский Союз, между прочим, главная наша опора.
—«– Хотелось бы верить,– Новак вздохнул с непритворной печалью.– Вы и в самом деле думаете, что Советы смогут защитить нас от Гитлера?..
– Не я один, пан доктор. Иначе бы президент республики не подписал тот договор. Это, если желаете, реализм эпохи. Не их социалистический, не ваш буржуазный, не мой революционный сюрреализм. Просто реализм, одинаково понятный всем здравомыслящим людям. Иного не дано.
– Тогда да здравствует Москва!.. Кстати, Клемент Готвальд недавно оттуда. Он, я знаю, очень вас ценит. Вероятно, вам больше, чем мне известно, как там нынче обстановка, в Москве?..
– Не совсем понимаю вас, доктор Новак,– настороженно нахмурился Незвал.– О чем вы?
– Скажите мне только одно, как чех чеху: в Кремле не ожидается резких... как бы это точнее выразиться... перемен? Вроде того, что случилось в Смольном?
– Извините, но ваш вопрос я считаю провокационным! – Незвал побагровел и, бросив на блюдечко крону, встал, чуть было не опрокинув стул.
– Я вовсе не хотел обидеть вас, метр! – Поморщившись, как от боли, Новак сделал попытку удержать его, но лишь бессильно уронил руки.– Да я свечку готов поставить за здравие Иосифа Сталина! Лишь бы... Словом, простите, я вел себя, как последний идиот. И это единственное доказательство моей искренности.
– Прошу извинения, но у меня дела,– поэт рванулся к лестнице, негодующе взмахнув тростью.
Доктор Новак остался сидеть над тарелкой остывающего гуляша. Нехотя ковырнув вилкой размокший в красной подливке кнедлик, спросил еще одну рюмку ямайского рома.
Вечером он нанес визит Хуберту Рипке – доверенному лицу президента.
– У меня сегодня выдался прелюбопытный день,– взяв предложенную сигару, Новак поудобнее расположился в глубоком кожаном кресле.– Из кругов русской эмиграции стало известно, что в Москве намечается нешуточная заварушка. Как бы нам не пролететь с этим договором.
– Что ты имеешь в виду? – насторожился Рипка.
– Есть серьезные указания на подготовку государственного переворота. Во главе заговора стоят, надо полагать, крупные военачальники. Возможно, маршал Тухачевский или даже сам Ворошилов. Их основной целью является военная диктатура и последующий союз с Германией. Это, как ты понимаешь, предполагает устранение Сталина, Литвинова и других деятелей нерусской национальности.
– Звучит фантастически, не находишь?
– Отнюдь. Положение в СССР крайне нестабильно.
Не случайно же они до крайности ужесточили наказания за террор, саботаж и прочие прелести! Смертные приговоры выносятся пачками и тут же приводятся в исполнение. Не от хорошей жизни, я полагаю... Ты ведь получаешь обзоры прессы? Сообщения о раскрытии очередного широкомасштабного заговора следуют чуть ли не год за годом. Политические убийства, диверсии, разоблачение шпионов – все это неотъемлемые черты коммунистической яви. К сожалению, должен добавить, ибо, положа руку на сердце, на Францию надежда плоха... Одним словом, я не нахожу ничего фантастического в том, что на сей раз мы действительно можем столкнуться с фактом смертельной борьбы за власть.
– Допустим, ты прав,– Рипка швырнул недокуренную сигару в камин и прошелся по кабинету.– Но при чем тут национальное происхождение? Насколько я знаю, это никак не совместимо с принципами Коминтерна. У них этот вопрос вообще не стоит.
– Все переменчиво под луной, старина... Впрочем, я не настаиваю на подобной интерпретации. Это всего лишь версия, притом не моя.
– В том-то и дело, что почерк слишком явно выдает автора. Об умонастроении белой эмиграции ты знаешь лучше меня. Не кажется ли тебе, Карел, что твои источники выдают желаемое за действительное?.. Если, конечно, не хуже.
– Ты имеешь в виду...
– Именно,– Рипка гадливо поежился,– грубую политическую провокацию, причем инспирированную Берлином. Мне трудно поверить в возможность сближения между нацизмом и большевизмом.
– Национал-большевизм! Существенное уточнение, между прочим... Национал-большевизм, с одной стороны, и национал-социализм – с другой. Здесь могут обнаружиться самые неожиданные точки соприкосновения. История любит крутые повороты. Вспомни хотя бы Рапалло... Для всех это было, как снег на голову. А почему, спрашивается?.. Потому что идиоты. Никогда не надо считать других глупее себя. И немцы, и русские чувствовали себя изгоями, париями, что и толкнуло их в объятия друг другу. К полной взаимовыгоде, заметь. Генштабы обеих армий научились превосходно сотрудничать. Русские предоставили рейхсверу прекрасные полигоны внутри страны и помогли Веймарской республике воссоздать военную мощь в обход Версальского договора. С другой стороны, красные командиры получили должную подготовку в немецких военных школах. Так что почва для флирта есть, и достаточно прочная. До конца тридцать второго года в Россию шли через Польшу составы с военным снаряжением, включая боеприпасы для стрелкового оружия. Учти, что люди остались на своих местах как в Москве, так и в Берлине, разве что получили очередное повышение. Лично я не удивился бы, узнав, что они возобновили контакты.
– Ты хочешь сказать, что переворот в кремлевских верхах может быть поддержан из Берлина?
– Мой информатор выдвинул именно такую версию. Более того, не исключена и ответная любезность: содействие военной разведки Красной Армии в устранении Адольфа Гитлера. Иначе говоря, речь идет об установлении режимов военной диктатуры, которые незамедлительно вступят в тесный союз. Если хищники объединятся, то европейские демократии окажутся в еще более трудном положении... Говоря объективно, своим пактом с Москвой мы подталкиваем события именно в таком направлении.
– У тебя слишком пылкая фантазия, Карел... Признавайся честно, зачем ты пришел ко мне?
– Посоветоваться, если хочешь, просто облегчить душу... Мне страшно, Хуба. Понимаешь?.. Страшно за нас с тобой, за наших детей, за республику. Поступили сигналы, причем достаточно серьезные, но я не могу, не имея достаточных фактов, обратиться к нему.
– А я могу? Президент размажет меня по стенке и будет прав... Если хочешь знать мое мнение, то я не верю фантасмагориям. Они хороши для бульварных романов, но не для серьезной политики. Политика так не делается.
– Может, скажешь тогда, как делается политика?.. В одну прекрасную ночь поджигают рейхстаг, в другую, не менее романтическую,– вырезают политических оппонентов. Это не для бульварного романа?.. В Москве тоже кое-что наводит на размышления. Взять хотя бы полную смену караула в Коминтерне. Троцкий кочует в поисках пристанища по Европе, Зиновьев и Каменев сидят за решеткой. Не слишком ли много для одного выстрела в Смольном?
– Ты валишь все в одну кучу. Троцкого выслали значительно раньше. Идеологические разногласия в чистом виде.
– Пусть так, хоть я и плохо разбираюсь в тонкостях большевистской идеологии. Однако уверяю тебя, перемены и здесь не за горами. Раз меняются люди, значит, меняется курс. Идея построения социализма в отдельно взятой стране уже знаменует определенный отход от вселенской церкви, поворот в национальное русло. Почему бы не повернуть штурвал еще более резко? В подобной обстановке всегда находится некто, готовый подтолкнуть процесс в желаемом для себя направлении... Кстати, возвращаясь из Парижа, Тухачевский пытался во время кратковременной остановки в Берлине связаться с высшим немецким руководством.
– Сведения из того же источника?
– Нет, по другим каналам. Геринг в доверительной форме сообщил это заместителю министра иностранных дел Польши.
– Ах, Геринг! – почти весело воскликнул Рипка, ударив себя по колену.– Тогда все ясно! Гестапо ведет игру против России, причем топорную, коль скоро тут замешан этот господин. Мой тебе добрый совет, Карел, выкинь это из головы, если не хочешь попасть в глупое положение.
– Без всякой проверки? Нигде ничего не фиксируя?
– Насколько я тебя знаю, так вопрос не стоит. Выкладывай, что там у тебя еще есть.
– Пока только след, ведущий опять-таки в Варшаву, к бывшему посланнику Украины в Веймарской республике. Если бы можно было, минуя промежуточные инстанции, поручить нашим послам в Москве и Берлине немножечко прояснить обстановку, я был бы крайне признателен.
– Интересно, как ты себе это представляешь: прояснить обстановку? – сцепив на затылке пальцы, Рипка задумчиво уставился в потолок.– Непростая задача. Причем без малейшей надежды на успех. Но я все же подумаю.
– Эх, если бы удалось вот так же, по душам, как чех с чехом, поговорить с Готвальдом! Чертовски важно знать, что там у них в Коминтерне, в Кремле, насколько крепко держится Сталин... Президент не мог бы его спросить?
– Готвальда? Клемент —тяжелый, но прямой человек, только едва ли он настолько осведомлен... А если и знает, то не скажет.
– Коммунисты трудный народ,– согласно кивнул
Новак.– Москва для них – все, что твоя Мекка для мусульманина... «Весь мир насилья мы разрушим»... Все их помыслы направлены только на это. Толстовская идея в интерпретации НКВД... Я тут разговорился с одним,– ухмыльнулся министриальдиректор,– так он брякнул, что сюрреализм тоже революционное искусство... На все готовы, лишь бы разнести нас в пух и прах. Вот увидишь, они договорятся-таки с нацистами!
– Крепко засела в тебе эта заноза.
– Не веришь?
– Веришь – не веришь... Не для нас эта детская песенка. Не вижу оснований. Меня ты не убедил, скорее напротив.
– Тем хуже, Хуба, тем хуже... Дай бог, чтобы я ошибся. Без русских нам против немца не устоять.
– Наконец-то я слышу разумные речи.








