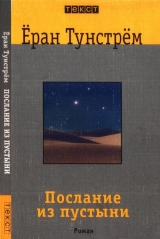
Текст книги "Послание из пустыни"
Автор книги: Ёран Тунстрём
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
– Я просто хотел посмотреть, как ты живешь. Я никогда у вас не был. Где Мария?
– Она у колодца. Моет голову. Если б ты знал, Иоанн…
– А где колодец?
Иоанн говорил отрывисто и словно не замечая меня. Я показал в дальний конец улицы:
– Вон там, под деревом…
Я встал, чтобы пойти с Иоанном, но он уже тронулся прочь – и не подумал ждать меня.
Я встревожился.
Мария подставила голову под текущую воду и, зажмурившись, неторопливо промывала свисавшие вперед длинные черные волосы. Рядом были еще женщины. Некоторые ожидали своей очереди, другие уже помылись и теперь надевали чистое платье, причесывались, стирали на камнях одежду. Поодаль я увидел Иоанна. Мария его пока не углядела. Вода текла у нее по волосам, омывала обнаженные плечи, лилась по груди, забрызгивала юбку.
– Мария… Это я, Иоанн, – выступил вперед он. – Можно я тебя помою?
Мария вздрогнула. Прикрыв руками грудь, она откинула волосы и увидела рядом других женщин. Иоанн смутился тем, что испугал ее.
– Я сын Елисаветы. Она всегда давала себя мыть…
Но было уже поздно. Протянутые к Марии руки вдруг показались ему огромными. Они мешались. Они вполне могли напугать. А женщины тем временем обступили Марию, загородили ее.
Возможно, она не расслышала, что он сказал. Возможно, не сразу сообразила, о какой Елисавете речь, о каком Иоанне.
Не ожидавший ничего подобного Иоанн ринулся прочь. Побежал, перепрыгивая через отдыхавших у колодца овец и коз. Он пронесся мимо Бен-Юссефа, который катал на закорках своего младшенького. Пронесся мимо всего, что было моей жизнью, чтобы опять погрузиться в неизбывное одиночество…
И мне подумалось: он до сих пор бежит, хотя теперь, наверное, сидит где-нибудь в пустыне и слушает стрекот цикад. А Мария до сих пор стоит испуганная, прикрывая груди, хотя теперь, возможно, готовит обед Иосифу. А я по-прежнему смотрю вслед Иоанну, хотя теперь разговариваю с Киром… который вдруг кричит:
– Эй ты, Мессия… Поди сюда!
Я очнулся:
– Не надо глумиться.
– Я не глумлюсь. Просто устал ждать. И мне обидно, что этот тоже оказался не…
Савватей поднялся на ноги и забормотал:
– Признаю, что верую в императора…
– Ладно-ладно, успокойся. Что ты намерен делать дальше?
– Что прикажешь, господин.
Савватей неуклюже поклонился. Взгляд его блуждал по сторонам.
– Иди отыщи своего пророка! И обрети веру, за которую ты в другой раз держался бы крепче. Если удастся, собери опять в кучу единомышленников. Или пускай этим займется пророк. Но запомни: когда попадешь сюда в следующий раз, ты должен стоять насмерть, а не заявлять о своей преданности мне и кесарю. Чтобы в следующий раз мне было кого судить. И судить по всей строгости!
Кир закрыл глаза. Вид у него был крайне измученный. Савватей меж тем скрылся за воротами.
– До чего мне осточертели эти мнимые Мессии! – после долгого молчания признался Кир. – Живешь, словно в призрачном мире.
Вскоре мне тоже показалось, что я живу в призрачном мире: наместник пригласил меня погостить у него. Вроде как ради ребенка.
* * *
Под пронизывающим северным ветром, который едва ли не всегда дул за стенами сада, по барханам плелись две фигуры. Молодой человек и пожилая женщина. Женщина шла согнувшись, ее иссиня-черное одеяние развевалось на ветру, тянуло назад. Ветер рвал кроны немногочисленных деревьев, и я тоже нагнулся – к яблокам, которые в это время собирал в саду.
Мне не нравилось видеть за стенами людей. Вечно эти бедняки куда-то брели, безнадежно и бесцельно, а мне, понятное дело, было стыдно оттого, что я, еврей, живу у Кира. Я знал, что уже пошли дурные слухи.
Когда я снова поднял взгляд, странники стояли за стеной напротив меня. Это были мой брат Иаков и Мария в закрывавшем рот головном платке.
Я давно старался не думать о них.
Не вспоминать скрягу Иакова! Он любил сидеть со сложенными на коленях ручками и, изображая взрослого, хулить все, что было хорошего на свете. Он готов был отсечь эти свои ручки, только бы не доставить себе никакого удовольствия, не иметь ничего общего с женщинами, не заводить детей; он воспринимал мир как одно сплошное искушение. Его тонкие губы дрожали от возбуждения, стоило кому-нибудь завести речь о мирском. Иаков рано загнал себя в истовую религиозность – можно сказать, пригвоздил себя к самым строгим текстам, которые безотрадно, с детской ненавистью, твердил. Его все не любили. Он знал об этом, и его ненависть только росла.
Как же он ненавидел меня, когда я уезжал в монастырь!
Он вечно всего боялся, этот Иаков, вечно дул на воду. Если я играл в день отдохновения, или смеялся над тем, как гнусаво раввин читает текст, или называл Осию глупцом, Иаков бросался на меня с кулаками: «Как ты смеешь!..»
А теперь он стоял внизу и держал под руку Марию.
Лицо ее постарело, губы ввалились, торс отяжелел.
Мои родные – бедняки и живут в своем узком мирке. Зачем они пришли беспокоить меня?
Тут, за стенами, все было иначе: у женщин, собиравших яблоки, были изящные руки и ноги, а ткань на груди при малейшем напряжении колыхалась. Маняще, многообещающе…
Мария тоже увидела их: ее глаза не были сокрыты покрывалом. Она подняла на меня эти испуганные, обиженные глаза и сказала:
– Может, тебе правильнее быть рядом с отцом?
Наш дом в Назарете. Простое ложе, на котором она ночь за ночью лежала без сна! Я отчетливо видел каждую соломинку в стенах, видел лунный луч на ее лице, видел, как глаза ее наливаются слезами. Слышал тишину и сопение в углу комнаты, где спали мои братья и сестры, видел, как ворочается от неведомых мне снов Иосиф. Видел холодные, зябкие утра, когда Мария молча готовила завтрак, видел ее робость перед людьми, слышал шепоток, повергавший ее в еще большее смущение: Иисус работает на римлян.
Много дней и ночей шла она сюда, чтобы сказать одну-единственную фразу. А потом – махнуть развевающимся платьем и идти назад.
В этих словах была суть ее ночных терзаний. В них звучало обвинение! Звучала мольба.
Если бы дело кончилось этим… Если бы она ушла, оставив меня в моем смятении… Тогда бы я скоро нагнал ее и с умирающим ребенком на руках вернулся домой. Но рядом стоял Иаков.
Между мной и Марией происходило что-то простое и важное, а этого он стерпеть не мог.
Губы его задрожали.
– Как ты смеешь?! Ты опозорил нас перед всем Назаретом!
И долгие раздумья, заложенные в словах Марии, вмиг улетучились.
Слова утратили силу.
– Иосиф болен. Ты должен взять на себя мастерскую.
– Что?! Ты хочешь сказать, мастерская перейдет к этому?.. – злобно посмотрел на меня Иаков.
И задохнулся от возмущения. С трудом прибавил:
– Ему всегда было плевать на тебя, матушка.
– Только, пожалуйста, без ссор, дети, – встала между нами Мария.
Как ей должно быть тяжко! Если бы не Иаков, я бы спустился к ней и попросил извинения, но само собой вырвалось другое:
– Можешь не беспокоиться, Иаков.
Кто-то взбирался ко мне на лестницу. Оказалось, снизу к нашему разговору прислушивался Кир.
– Это твоя мать, назарянин?
Я подвинулся, уступая ему место. Мария с Иаковом стояли на песке между пиниями и их синими тенями. Мария спрятала лицо за покрывалом и отвернулась, словно предпочитая смотреть на барханы, привычный пейзаж бедняков. Кир сверкнул золотыми запястьями.
– Позвольте угостить вас фруктами…
Иаков перестал держать Марию под руку и поклонился. Когда Кир бросил ему яблоко, он поймал его и отвесил еще несколько поклонов.
– Надеюсь, я не помешал? – осведомился Кир.
– Ни в коем случае, – заверил Иаков с той стороны стены.
И снова поклонился.
Кир сорвал с ветки еще одно яблоко и кинул Марии. Она не отняла руку от покрывала. Яблоко скользнуло по ее телу и, запутавшись было в мягких складках одежды, шлепнулось на землю. Прокатилось меж торчавших из песка пиниевых корней и застыло на солнцепеке.
Иаков испуганно толкнул Марию в бок, но она лишь потуже запахнула одежду, повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Иаков смутился и попятился, отвешивая поклон за поклоном. Яблоко осталось валяться на песке. Из треснувшей кожуры сочилась прозрачная красноватая жидкость.
– А ты? – обратился ко мне Кир. – Ты можешь сравниться в дерзости с матерью? Решишься отказаться от дара, предложенного твоим римским господином?
– Да, – сказал я, но яблоко из его руки принял.
* * *
Я пробыл у Кира слишком долго. Рядом с власть имущими легко забыть себя.
Когда я наконец ушел оттуда, толкая тележку с умирающим ребенком, мне нечего было сказать Господу, я онемел. А когда малыш возвратился в небытие – ранним утром, у северной реки – и я похоронил его на берегу, мир утратил для меня всякую вразумительность. Я сидел, неотрывно глядя на камни, под которыми прятались глаза ребенка. Он едва успел дотянуться до жизни. Он пытался нащупать ее своими слабенькими пальцами, пытался заглянуть в нее, но жизнь не приняла его к себе. И я, гораздо тверже закрепившийся в этом мире, не сумел завлечь малыша к нам. Он лежал в могиле, а мне чудилось, будто его пальцы перебирают мою одежду, ищут что-то в траве, колышущейся на ветру, в птицах, ныряющих за кормом в бурную реку, в женщинах, моющих белье и свои тела на том берегу.
Я и так онемел, а тут еще рядом ходит смерть!
И вдруг мне в глаза бросилась забытая в кустах, грубовато сделанная тележка. Я смастерил ее сам. И она исполнила свое предназначение. Кое-как преодолевая камни или катясь по ровной дороге, колеса довезли младенца сюда. Не знаю, кто меня обучил этому нехитрому ремеслу. Доски, скрепленные ивовыми прутьями, еще не разошлись, деревянные втулки в ступицах держались крепко, рукоятка была сделана под стать руке. Я заметил блеснувшие на солнце капельки смолы. И, прежде чем встать, дотянулся до капельки и положил ее себе на язык.
Вкус у живицы был в точности такой, как я помнил.
* * *
Увы, я не успел в срок добраться до дому и на утренней заре, у назаретского колодца, узнал от водочерпия о смерти Иосифа.
Человек не несет в себе тайны, а несет лишь разные бремена. Он – кладовая для грез и разочарований других людей, для их речей и мыслей; зрячий заимствует из этой кладовой, слепой оставляет вещи лежать втуне.
То, что недавно было Иосифом, а теперь – обтянутым кожей скелетом, лежало перед домом; пока исхудалое лицо впитывало свет и передавало его остальному телу, Иосиф раздавал нам, обступившим его носилки, самого себя – даровал последние дары. Оставалось лишь взять их.
Он лежал навзничь, со сложенными на груди руками. Я всегда любил его и теперь водил пальцем по шишковатому лбу, по обветренным щекам, по короткой редкой бороде. Потрогал я и руки – и спрятал в свою кладовую его чувство дерева, его умение чисто выстругать доску. Я взял и его безграничное терпение, его снисходительность. Мой брат Иаков взял себе суровость и упрямство. Никто из нас не взял Смех… просто потому, что его у Иосифа не было.
И вот церемония подошла к концу: мы разобрали всё. Ветер снова принялся лохматить гранатовое дерево, во двор налетели воробьи, на веревке заколыхалось сохнувшее платье.
Вскоре, однако, я перестал слышать чириканье воробьев – за причитаниями плакальщиц, перестал видеть трепыхание листьев – за всем, что творилось вокруг: люди рвали на себе волосы, раздирали одежду и воздевали руки ввысь, загораживая сияние небес.
Это была своеобразная пляска одиночества. Пляска зависти к тому, кто ушел, оставив их на земле. Пляска покинутости – ведь знак с того света опять подали не им.
Жалкие людишки! Иосиф умер без боли, без мучений. Они же далеко не так высоко ценили его живым, чтобы оправдать эти потоки слез. Сколько раз он сам чувствовал себя бесконечно одиноким! А теперь… теперь они, блюдя обычай, накинулись на него, чтобы вымолить себе кусочек его опыта, его жизни.
Жизнь продолжалась, а они стояли у нее на пути. Обвивая пеленами его голову, руки и ноги, они своими сетованиями, своими ахами, охами и вздохами нарушали границу, отделяющую нас от смерти.
И одна женщина сказала:
– Почему ты не плачешь, Иисус? Почему не рвешь на себе волосы, если умер твой отец?
Видимо, ей казалось, что я буду снисходительнее относиться к их покупным слезам, если дам себе волю и сам ударюсь в плач.
– Мои слезы не воскресят его, – ответил я.
А потом встал и вышел к деревьям. Эти деревья Иосиф всегда любил. Но пока я сидел под ними, глядя на колеблющуюся листву и слушая ее непрестанный шелест, который охватывал будущее и уходил далеко в прошлое – во времена Давида, Авраама и далее, в доавраамову эпоху, – несколько соседей, подойдя ко мне, тоже полезло с упреками.
И хотя я намеревался лишь передохнуть наедине с собой, а затем вернуться в дом и помогать нести Иосифа к могиле, я разозлился от их слов: «Думаешь, кто-нибудь захочет нести к могиле тебя?»
– В самом деле, – отозвался я, – кто-нибудь захочет нести к могиле меня?
Они оставили меня под оливковым деревом. Между тем наступил вечер; из дома, который теперь по праву принадлежал мне, доносились горестные выкрики. Я видел, как старики, затеявшие ссору со мной, присоединились к Иакову и Марии.
Там собралась целая толпа. Возможно, слух о моем упрямстве уже разлетелся по всей округе, и люди хотели рассказывать о том, как побывали в оскандалившемся семействе, хотели обратить его посещение себе на пользу, найдя человека, на которого можно будет валить всякую вину.
В городе, где почти ничего не происходило, нужно было искать виноватого, чтобы вытолкнуть вину за городские стены. Это пригождалось, когда случался неурожай или засуха. Это пригождалось, когда страх и подозрительность заставляли жителей держать двери на запоре друг от друга. Когда сосед не знал, о чем думает сосед. Когда родители не знали, чем заняты дети. Судит ведь всегда тот, кто не решается оборотить взгляд на себя.
Я остыл довольно быстро. И все-таки упустил момент вернуться в дом и отнести Иосифа к могиле.
Процессия тронулась и уже шла под звездным небом.
Чего бы я только не дал, чтобы нести его носилки! Но старцы били своими посохами в скалу, и били там, где было тонко, и скала треснула, и оттуда хлынул поток мыслей, который отравил землю вокруг меня. А что я такого сказал? Просто дал им понять, что не такой, как все. Отмежевался от них.
Я нарушил Закон. Великий и тягостный Закон.
Но меня отделил от прочей паствы не только разлад со старцами. Все началось гораздо раньше.
Похоронная процессия теперь двигалась в лощине подо мной. Я видел ослепшие от слез глаза Иакова и Марии, видел согбенные спины соседей. Сияла луна, белела Иосифова плащаница.
Как мало у меня общего с этими хмурыми и добродушными назарянами! На миг я даже позавидовал им. В их жизни дело никогда не доходило до настоящей ссоры, до серьезного противостояния, в котором их вынуждали уступить. Они следовали Закону, слушались стариков и никогда не приходили в отчаяние от препон, которые им ставили обстоятельства.
Теперь они провожали в последний путь усопшего. Что было, то и будет… Не умолкнул ни шелест деревьев, ни свист плеток в руках римских легионеров. Что делалось, то и будет делаться…
Эти люди нравились мне, и я хотел быть одним из них, трудиться рядом с ними. Я хотел сидеть на Иосифовом месте в мастерской и, вдыхая запах живицы, под нестройный гул голосов обрабатывать плуг. Пускай другие расхлебывают все, что происходит вне Назарета. Сейчас я пойду и встану рядом с ними, думал я.
Увы, ноги отказывались повиноваться.
Мне вспомнились смиренные слова пророка: «Я – не пророк и не сын пророка; я был пастух, и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: „иди, пророчествуй…“»[14]14
Книга Пророка Амоса, 7:14–15.
[Закрыть]
Он же сказал: «Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а этот народ – дровами, и этот огонь пожрет их»[15]15
Книга Пророка Иеремии, 5:14.
[Закрыть]. И тут со стороны пустыни повеяло теплом. Я обернулся и приветствовал ночь. Приветствовал пустыню. Приветствовал ветер. Я нес носилки, на которых покоилось Ничто.
Точно лев, крадущийся по пустыне, подкралось из-за горизонта солнце и с оглушительным рыком выпрыгнуло на небосвод.
И тогда я покинул свое ночное пристанище между каменными глыбами и спустился к могиле. Иосиф теперь стал земляным возвышением. Пригорком под смоковницей. Над миром только-только воцарялся свет. В небе, озирая это царство света, парил одинокий гриф. К мертвой песчанке слетелись крапивницы, облепили ее со всех сторон.
Господи, с каждым днем я все дальше ухожу от дарованной Тобой жизни. Помоги вновь раскрыть глаза и уши, чтобы доносились до меня крики с нивы земной. Разбей перегородку, отделяющую меня от них. Научи, как помочь самому себе, дабы существовать на радость Тебе и стать пламенем, которое делает Тебя видимым.
Мария подоспела к моему «Аминь». Она пришла одна и застыла на месте при виде меня.
– Ты остался мне сыном?
– Я же здесь.
– Если ты в самом деле мой сын, дом принадлежит тебе.
Она не отрывала взгляда от земли.
– У меня нет дома. Пускай им займется Иаков.
– Ты опять уходишь?
Мария произнесла эти слова отрешенным тоном. Даже с некоторой робостью. Я взял ее за руку.
Рука была мозолистая, с большими венами и печеночными пятнами. Я попросил Марию сесть, я повернул ее руку ладонью кверху и стал струйкой сыпать на нее песок. Мария испугалась. Она думала, это что-нибудь значит, думала, это заклинание.
– Что ты делаешь?
– Держу тебя за руку.
И Мария не отдернула ее. Только потуже замотала покрывало и долго не продолжала разговор.
– Когда снова в путь?
– Сегодня.
– Сегодня с площади не уходит караванов.
– Какой-нибудь караван всегда нагонит пешего.
Вопросы и ответы объединяли нас, а молчание разъединяло. Мы отвыкли друг от друга. И обратили взоры к окружающему миру. На пустыре стоял, оглядывая колючие кусты, верблюд; на левом боку, под самым горбом, играл солнечный зайчик. Вот появилась женщина с горшком навоза. Она присела перед верблюдом, так что его ноги образовали вверху арку. Над одним из дворов поднимался дымок. Откуда-то доносился шорох метлы. Ты его слышала, Мария? Вот по песку прошагал павлин; верблюд повернул за ним голову, в глазах его мелькнул слабый интерес.
Вот из деревни разошлись по полям мужчины – и пропали в ослепительном свете. Ты видела их, Мария?
Она жевала гвоздику – видимо, от зубной боли.
– Иисус…
– Да?..
– Я знаю, это очень глупо, но мне надо тебе кое-что сказать.
– Скажи.
В утренней тиши кто-то подметал. Шорох метлы казался шепотом, обычно не замечаемым шепотом.
– Я тебя боюсь.
Глаза ее покраснели от слез. Они расширились и казались огромными.
– Ты… ты меня не очень любишь… А я… я боюсь даже прикоснуться к тебе.
– Знаю.
– Перед твоим рождением…
Она долго не решалась продолжить.
– Говори же, говори…
– Рано утром ко мне явился ангел. А мне тогда было тошно жить, прямо хоть ложись и помирай. Сам знаешь, как бывает. Он явился и сказал… в общем, велел мне радоваться. Он прервал мой плач. И сказал: радуйся! А потом родился ты. Но я оказалась как бы ни при чем. И начали твориться всякие странности. К тебе приходили люди из дальних краев. А мне об эту пору надо было побыть с тобой наедине, в тишине и спокойствии. Мне даже покормить тебя толком не давали. Я чувствовала себя лишней. И ты как будто принадлежал не мне, а… а целому свету. И все говорили, ты какой-то особенный.
Она вдруг положила руку мне на колено. Я задрожал от этого нежданно-негаданного прикосновения.
– Ты, конечно, и есть особенный, я ничего плохого не хочу сказать. Просто я мало что соображаю. И все-таки… ты не должен на меня сердиться.
Я покачал головой, погладил Марию по руке.
– А когда пошли слухи, что ты живешь у римлян!.. Нам рассказал один работник из тех мест, он тебя видел. Когда ты выкидываешь такие фокусы на похоронах… Когда ты сбежал из монастыря, в котором тебе было хорошо… Тебе ведь было там хорошо, правда? Что все это значит? Может, тут есть какой-нибудь высший смысл?.. Однажды к нам пришли искать тебя римские солдаты. Сказали, ты стал зилотом и истребляешь римлян… А потом ты нанялся к ним работать. Как прикажешь все это понимать? При том, что сам ты всегда ходишь молчком… Мне страшно, очень страшно.
Она вскочила и побежала вниз, к полям.
– Мне тоже, – ответил я мелькавшим вдали пяткам. – Безумно страшно.
И все-таки я рад…
______________________
_____________
Вечернее освещение позволяет мне поднять взор и оглядеться по сторонам. Песок чуть остыл, так что можно безболезненно выйти из пальмовой рощицы.
Целый день я лежал в относительной прохладе под ее прикрытием. Недавно поел фиников и выпил воды.
Днем мне показалось, будто я слышу вдали верблюжьи колокольчики. Теперь кругом тишина. Я люблю тишину и боюсь ее. Она вроде колодца. Но звуки раздаются и в ней: сначала в ушах звенит колокольчик, затем воспоминание о нем, затем, совсем слабенькое, воспоминание о воспоминании. На каком-то этапе звук начинает переходить в образ. В образе вещи утрачивают имя, яркость, присущий им голос. Это, так сказать, тишина в развитии. Она ужасна: безмолвнее такой тиши нет ничего на свете.
Время от времени удается обратить все свое внимание внутрь, к собственной сердцевине. Там у меня обретается отец.
По прошествии стольких лет я часто говорю себе: не важно, кто он был такой. Долго живя без отца, человек творит его сам… из твердейшего камня, из сильнейшего духа, из ледяной воды. Я говорю себе, что мой отец – я. Он придает мне силы двигаться вперед. Он находится во мне и бьет родником, как только я захочу пить. И все же я предпочитаю вещи с именами. Конечно, мы живем безымянностью и тишиной, но стремиться должны к тому, что наделено именем. Я должен жить ради того, чтобы низвергнуть Рим, чтобы облегчить гнет бедняков. Жить ради жизни.
Я поселился здесь некоторое время назад, в полном одиночестве. В первый же день устроил себе стан. Теперь много сижу неподвижно и смотрю на горизонт, на синеющие подле Иерихона вершины. Я почти не ем, стараясь изгладить всякие воспоминания о теле, дабы разобраться, есть ли в нас что-нибудь помимо тела. Пульс у меня бьется гораздо медленнее прежнего, я уже могу подолгу сидеть так, что не дрогнет и мускул. Имею ли я право предаваться упражнениям, когда моих друзей истязают в темницах? Имею ли я право на это, когда народ голодает, подвергается притеснениям и пыткам?
Имею.
Живя в миру, очень легко быть поглощенным этим миром. Без уходов в пустыню, без ночей под звездами (правильно Иоанн еще в детстве сказал, что мне предстоит подолгу бывать в пустынях) я бы ни за что не вышел на свой путь. В окружающей меня тиши все помехи убраны: только тут можно наметить себе правильную стезю. Моя стезя ведет прямо к смерти. Слишком многие не идут таким путем, а прячутся в воспоминаниях, пытаются отменить время. Считают себя вечными. Они – малые дети.
Я не презираю их. Я знаю, что наделен талантом (его можно воспринимать как дар или как бремя) и что его нужно использовать до конца. Положение требует моего вмешательства. Мой талант следует употребить во благо моих соплеменников, во благо всех бедных и угнетенных. Сам я не волен распоряжаться своим даром, а потому мне остается посреди этой тиши молиться о том, чтобы его не употребили во зло.
Я уже давно пребываю в пустыне. Мне хотелось понять, могу ли я совершенно погрузиться в одиночество. Я бродил под сверкающим звездным дождем, вдали от пламени, которое призван поддерживать. Песок под ногами совсем остыл. Я взбирался на барханы и уходил все дальше. Мое время еще не пришло, так что умереть я пока не могу. Меня ожидает иная кончина, хотя и ее не назовешь смертию, венчающей победу.
Разумеется, подлинное одиночество для меня невероятно. По сравнению с другими теперешнее мое одиночество – баловство, испытание. Но тот, кто по доброй воле отказывается от каких-либо сношений, учится видеть.
Одиночество предоставляет замечательные возможности для отстранения, для понимания и вживания. Я не раз наблюдал людей, которые могут сидеть в компании изолированно от других. Настоящее одиночество я испытаю посреди огромной толпы, в миг, когда буду умирать.
Я лег на землю и принялся молиться.
Молитвенные коридоры были чисты и пусты. Ничто не заслоняло обзора, тогда как я знал: наступит день, когда своды этих коридоров рухнут, когда на пути глаза и мысли встанут завалы из щебенки и камня.
Я не мог заблудиться, потому что знаю расположение звезд. Меня выводило из пустыни знание, и мои шансы выбраться оттуда были велики: листочки собирали влагу и посверкивали, отражая свет звезд, надо было только перебегать от капли к капле и склоняться к ним губами. Прикосновение чрева к земле, к этой бесплодной, безлюдной земле давало ощущение уязвимости… и домашнего уюта: я чувствовал, что живу. Подобная радость охватывала меня и когда я трудился над плугом в мастерской Иосифа. Человек, который делает плуг, не может быть безумным, от его рук исходит спокойствие, он испытывает радость гармонии и цельности.
А сколько бродит вокруг безумных пророков, предвещающих всякое разное… Они отталкивают народ своими речами, нескладными жестами, разбросанными познаниями, которые служат лишь их собственным целям. Они говорят о Царстве Божием, не принимая во внимание экономические обстоятельства. Говорят о богатых урожаях, не учитывая смены времен года и поступления на поля воды. Они выдвигают требования, взятые из легенд. Я ведь изучал пророков, поскольку в моей жизни много знамений. Обо мне уже тоже начали слагать легенды.
Я признал знамения, взял на себя ответственность. Это могут подтвердить бедняки и страждущие, поэтому я не могу уклониться. Они возлагают на меня надежды. Надо исполнить их чаяния.
Однажды я отдыхал на берегу Иордана под кипарисами и скипидарными деревьями. Слушал пение птиц. Как вдруг с той стороны реки донесся голос:
– Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие[16]16
Евангелие от Луки, 3:4–6, далее см. стихи 7–14.
[Закрыть].
Это был Иоанн, и голос его пылал жаром, как ветр пустыни.
– Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
И того больше возвысился глас над гулом народным:
– Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
И кто-то в отчаянии спросил:
– Что же нам делать?
И сказал Иоанн в ответ:
– У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же.
И уже кто-то другой задал прежний вопрос:
– Что нам делать?
– Ничего не требуйте более определенного вам.
Это он сказал мытарям. А воинам:
– Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем.
И тут на Иоанна нашел приступ кашля. А когда голос вернулся к нему, то был хрипл и немощен и дрожал, как стеклянная ваза на мраморном столе, и я не мог более разобрать ни слова.
Расти и развиваться – значит облачаться в неотъемлемое.
Иоанн постоянно пребывал в будущем, то есть в неотъемлемом. Поскольку всякое «ныне» уже состоялось для него в будущем, его не могли сломить предпринимавшиеся миром таранные атаки на его тело.
Жизнь его была предопределена: каждый его шаг вел к неотъемлемому. Иоанн никогда не щадил себя. Теперь ему пора объявить себя Мессией. И делам его есть свидетельства, и время уже пришло, и я готов стать рядом с ним – при всех своих грехах, при всем несовершенстве.
Сколько же Иоанн носил в себе эту мечту, свою и своих современников: да приидет Мессия.
Мысль эта репейником засела в его сердце.
Иоанн был одновременно силен и слаб, но теперь я знал, что это не важно. Мы необходимы Господу, кого-то же Он должен сделать светильниками Своими (не сам ли Иоанн однажды произнес такие слова?). И не Иоанн ли сказал, что не надо слишком торопиться, понукать Господа, ускорять пришествие Его? Он явится, когда сочтет нужным, в назначенный Им день и час… Нет, кажется, это сказал не Иоанн, а я сам. И он еще разозлился на меня! Дескать, Его пришествие не будет как молния, которая даст нам знать: пришел час. Мы должны сами возжелать: здесь и теперь. Всякий миг нашего бездействия есть обман и коварство. Или это уже говорил не он, а я? Кто-то из нас говорил, другой ему отвечал, спорил. Такие мы с ним вели разговоры. Такими мы с ним были – такими и остались. Помню, как я перепугался, когда Иоанн назвал Мессией меня! Это было в пустыне, и мы были еще малыми ребятами.
Теперь он наконец понял, что ждать более нельзя. И не ошибся: каждый человек имеет право наречься высшим именем, объявить себя самым великим и могущественным на свете. Я есмь Сын Божий. Я есмь Мессия, светильник Господень на земле, свет огня Его – мерцающий или горящий ровным пламенем. И теперь я скажу Иоанну: да, ты есть Мессия, и я счастлив, что ты имеешь смелость наречься им, что ты решился признать право твое. Я поднимусь и скажу ему: наконец-то…
Грядущее царство – в нас самих…
Но Иоанну придется нелегко. Освобождение никогда не дается просто. Человек, обретший свободу, неизменно одинок. Свободного всегда будут преследовать, ибо свободный отвратителен для раба. Так заведено издавна, и этого не изменишь.
И вдруг меня бросило в удивительный жар. А впрямь ли близок Его час? Неужели подходит к концу тысячелетнее ожидание? Неужели действительно соберется в одной точке вся история? И из этой точки на берегу тихой реки, посреди желтой пустыни, проклюнется в хаосе новое семя и взойдет новый росток?
Я в странном оцепенении упал наземь, потому как тело мое не могло более воспринимать впечатлений, и, пока я падал, передо мной словно открывался засов за засовом. Я увидел на гребне песчаного бархана Мессию, и кругом сидели люди, и Мессия, лицо которого было сокрыто тенью, переходил от одного к другому. Он прикладывал палец к их челу и говорил: «Ты… и ты… и ты…» И когда он указал на двенадцать человек, я понял, что он выбрал двенадцать характеров и теперь с ним будут ходить его страх, его сомнения, его сила, его терпение, и вместе они образуют гигантскую звезду, которая распространится по всей пустыне… И вот они тронулись в путь, и под ногами у них захрустело: каждая песчинка разламывалась на части, образуя кристаллы, и эти кристаллы уносились в небо.
Вокруг собралось множество народа. Люди с сияющими глазами рвали на себе волосы, у всех был душевный подъем, как будто они взобрались на отвесную скалу. И какая-то женщина зашла в воду, намочила подол и отерла мне лоб. И я встал и оглядел собравшихся.
– Кто ты? – тихо спросила женщина.
– Иисус из Назарета. Я пришел встретиться с Иоанном.
И тут началось… Меня взяли за руку и повели вверх по склону, и через заросли кустарника вывели на желтый песок, и там я увидел Иоанна. Глаза его пылали, как два закатных солнца, сам он был грязный и истощенный, но я только улыбнулся: понятно, так и должно быть, человек готовится к самопожертвованию. И когда он пал передо мной на колени, я опять подумал: это в порядке вещей, при его величии он может позволить себе подобное смирение. И я увидел, что он весь горит.








