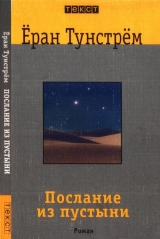
Текст книги "Послание из пустыни"
Автор книги: Ёран Тунстрём
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Ёран Тунстрём

Ёран Тунстрём (1937–2000) – самая яркая фигура в шведской литературе последних десятилетий.
После его романов «Сияние» и «Рождественская оратория» издательство «Текст» вновь обращается к творчеству этого автора.
«Послание из пустыни» – роман о юности Иисуса Христа, времени, когда он только начинает ощущать в себе великое предназначение.
Книга издана при поддержке Шведского Института.
* * *
«Послание из пустыни» – шедевр, по прочтении которого становишься другим человеком. Этот роман обращается к самым потаенным уголкам нашей души.
«Гётеборгс-постен»
ПОСЛАНИЕ ИЗ ПУСТЫНИ
Я в пустыне.
Ночь напролет я стучусь в тонкую перегородку, отделяющую меня от божественного. С той стороны вроде бы доносится ответ, но стоит мне прекратить стук, как там тоже воцаряется тишина.
Действие и бездействие. Сон и явь. По моему обращенному к небу липу струится звездный свет.
Когда-то оно было обращено книзу.
Я был еще дитем. Однажды, играя подле запретного колодезя, я углядел в самой его глубине белых рыбок. Никто мне не верил. «Не болтай глупостей, – отмахивались все. – Этот колодезь питается подземными водами». Но в одно прекрасное утро я проснулся ни свет ни заря и потихоньку выбрался наружу. Из молочного сумрака выплыл водочерпий со своими буйволами, который пришел запасти нам воды. «Там внизу рыбки», – сказал я. Он долго не сводил с меня пристального взгляда и только потом кивнул. «Достань хоть одну! А то мне не верят». Водочерпий улыбнулся и покачал головой: «Они никогда не попадают в мех». – «Тогда спусти в колодезь меня», – попросил я. Он снова покачал седовласой главой: опасно. «Ты можешь завязать меня в мехе. Тогда я точно не вывалюсь». И водочерпий послушался. Он посадил меня с поджатыми ногами в кожаный мех и накрепко завязал его, и буйвол стал неторопливо опускать мех вниз.
Колодезь был глубокий, в сто локтей. Летом вода из него была ледяная, а зимой – теплая. Так распорядился Господь.
Мех мягко покачивался от стенки к стенке. Скоро я перестал различать звезды вверху. Вокруг стояли мрак и тишина, в гулком пространстве раздавалось лишь биение моего сердца. Бум, бум, бум. Я был один в недрах земли, один в целом свете. Может быть, водочерпий уже накрыл колодезь крышкой, запечатал меня в нем, ушел, состарился и умер? Может быть, ветер шелестит уже другими деревами, веет в других городах, у других берегов?.. Бум, бум, бум – стучало сердце.
Наконец я добрался до воды, к которой давно стремился. Я выпростал руку из меха, опустил ее в воду, и туда тотчас заплыла рыбешка – ослепительно сиявшая во тьме серебристо-белая рыбешка. «Поймал, поймал!» – закричал я, и голос мой вознесся ввысь, как возносятся ввысь искры от костра…
И земля, оказывается, не обезлюдела. На поверхности кто-то остался, и этот кто-то услышал меня, между нами была связь.
Вскоре у меня над головой начал все яснее очерчиваться световой круг – небо словно озарила комета. В мире занимался рассвет. Меня вытаскивали наверх. Красное солнце уже простерло первые лучи над песчаной равниной за селением, подумал я.
И вдруг – почти на самом верху – я разглядел склонившиеся над колодезем лица родителей. Побледневшие, оцепеневшие от страха. Я выронил рыбку, и она, кружась, полетела вниз-вниз-вниз, а я закричал… и в тот же миг перевалился через край колодезя.
Крик и страх слились воедино, став моим самым ранним воспоминанием о них. А рыбку – серебристую колодезную рыбку – так никто и не увидел.
Я склоняюсь над светом своего прошлого, над искушениями и испытаниями тех ночей и дней. Свет этот мерцает глубоко внутри меня, то угасая, то разгораясь. Я вижу встречи и города, вижу испуг и радость, любовь и любопытство, вижу поражение за поражением.
Ночной воздух прозрачен и чист, и мои мысли видны как на ладони. Они кругом – в песке и воздухе пустыни. Они – шуршащие змеи, что уползают в темноту, они – цикады, что своим стрекотом распиливают ночь на части, но они же – и далекие огни земного Иерихона, и костер, брошенный догорать на том берегу Иордана Иоанном, который уже выполнил через меня свое обещание Господу.
Мысли эти охватывают не только мое прошлое, ибо никто и ничто не начинается с себя, с собственного рождения; они простираются вглубь и вдаль, в эпоху доавраамову и доадамову, когда не было еще формы и цвета, когда не было душ, а было собрание вод, в котором и воплощалось все сущее.
Мир ждет меня – как ждал всегда, даже когда я считал себя свободным от обязательств и твердил, что пуповина порвана. Даже тогда я был лишь одним из телец в кровеносной системе человечества… мечтой о лучшей жизни, воплощением эллинистической любознательности и страсти к открытиям. Я был кем и каким угодно, только не свободным.
Я подозревал об этом и во время своих странствий по свету: ходя кругами, я неизменно двигался в будущее. Я шел к нему через одного человека за другим, проникая сквозь фасад лиц в самую их глубь. Я воображал, что брожу среди извилин и потаенных уголков других людей, хотя на самом деле шел к обретению собственного лица.
У меня за плечами много пройденного, много встреченного, много несвершенного.
Я хотел сократить мир до пятачка и объять его целиком.
По крайней мере, мне довелось увидеть море. Я видел волны, лениво набегающие на берег. Видел горы со снежными вершинами, сверкающими на фоне ясного неба, видел хлебные поля с полновесными, тучными колосьями. Я видел мир и знал, что все это – творение Господа, даже горбатый из Тира или безногий из окрестностей Иерусалима. Я видел десницу Божию в траве и в глазу коршуна.
______________________
_____________
Они наведывались по утрам, каждый со своим тазиком для бритья, так что от восточной стены дома, где они выстраивались на песке, исходило золотое сияние. Закутавшись в свои плащи-милоти, они ждали восхода солнца. Не знаю, почему Бен-Юссеф, Гавриил Любитель Огурцов, хромой Бен-Шем и многие другие собирались к нам бриться и подстригать бороды, ухаживать за ногтями и умащивать головы зеленым елеем. Я с восторгом вспоминаю эти утра, когда павлины во всем своем великолепии клевали вылезшие за ночь ростки и далеко окрест разносилась песнь водочерпия:
Услышьте же наш мех с водой,
Услышьте, как он полон
И как свежа прохладная вода.
Сюда, сюда, все женщины округи…
И Бен-Юссеф, который, скрестив ноги, сидел на тростниковой подстилке, всплескивал руками и добродушным старушечьим голосом восклицал:
– Много же я отправил на тот свет римских воинов! Ох-ох-охоньки как много… – И довольно улыбался.
– Давненько это было! – вторил ему хромой Бен-Шем.
После такого напоминания о былых победах они умолкали, оставляя победы в прошлом. Теперь никто более не побеждал. Теперь наступила пора сетований, а главным плакальщиком был у нас Гавриил Любитель Огурцов.
– Что нам делать с этой засухой? – заводил он. – А виноваты в ней, между прочим, римляне. Не успели они сюда пожаловать, как стали опустошать наши колодези. У них и лошади, и верблюды, и бани. На эти бани вся вода и уходит. А нам, бывает, даже уста омочить нечем.
– Что правда, то правда.
– Слыхать, в Кесарии уже шесть бань понастроили! Когда воду надо беречь как зеницу ока, они в ней, вишь ли, купаются…
И опять тишина и ожидание. Старики потягивали горячее молоко, которым их угощала Мария, а потом читали тексты. Один из этих текстов я помню еще с первых лет в Назарете, когда над Римом взошло черное солнце по имени Тиверий и он правил через своих вассалов, а в народе лелеяли мечты о скором освобождении.
«Слово Господне, которое было к Осúи, сыну Беерúину, во дни Озúи, Иоафáма, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского.
Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: „иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа“.
И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына»[1]1
Книга Пророка Осии, 1:1–3. (Здесь и далее примеч. переводчика).
[Закрыть].
И Бен-Юссеф, этот старый разбойник пустыни, который сражался и предавал людей смерти, но после женитьбы уже только растил детей, со вздохом всплеснул руками:
– Не вышло из меня Осии, хоть и взял я за себя блудницу и детей беззаконных. Не стала жизнь моя указанием и предзнаменованием от Господа.
– Но ведь не Он велел тебе брать ее в жены…
– А я было решил, что Он, – отвечал Бен-Юссеф.
Старики явно благоволили друг к другу, поскольку каждый Божий день влачились сюда. Любо-дорого было смотреть на Бен-Юссефа, как он сидит со скрещенными ногами на подстилке и выстригает волоски из носа и ушей.
Умастив власа зеленым елеем, он снова вздохнул:
– Приими нас всех, день субботний.
И Бен-Юссеф поднял кроху сына навстречу солнцу, положил его перед собой навзничь и белой льняной тряпицей обмыл с пят до головы, растирая нежные икры, колени, ягодицы. Он намазал ему спину и плечики чистейшим маслом и произнес: «А теперь дай мне руки».
И когда малыш вытянул ручонки, отец заключил их в свои большие ладони, приговаривая: «Елей для пальчиков – бальзам для носа и для сердца!» А вокруг резвились козы, наскакивая на огромную корову, и тени были еще длинные, хотя солнце торопилось подняться ввысь.
– Пророков я на своем веку повидал множество, – молвил Бен-Юссеф, продолжая умащивать тело сынишки. – Когда-то пустыня ими кишмя кишела. Пророки бывают всякого разбора. Только ничего особенного в них нет.
– Они имеют общение с Господом! – сердито покачал головой Гавриил и плотнее запахнул плащ, как бы отмежевываясь от речей Бен-Юссефа.
– Подумаешь! – фыркнул тот. – Ходят голые и питаются полевою травою, дабы на них снизошло слово Божие. Подождите до вечера, и я вам тоже напророчу с три короба.
– К тому времени ты напьешься допьяна.
Гавриил с отвращением вперил взгляд в песок.
– Вот именно! – подхватили остальные. – Путь к Господу открыт всякому! А пророки издавна лишь путались у нас под ногами. От них не было никакого толку.
– Они хотя бы служили Божьим знамением для вас, разбойников.
– Как же, как же.
Это молоко по утрам замечательно согревало меня. Мария сидела у очага спиной к нам, подкладывая в огонь тростник: иногда напоить надо было скопище народу.
– Слишком много от тебя пустословия, – заметил Гавриил.
– От тебя было бы не меньше, если б тебе было о чем говорить. Но что ты делал всю свою жизнь? Ничего. А из ничего не рождается ни пустых слов, ни золотых.
Мне нравился запах Бен-Юссефа и его детей, до сих пор помню необычный аромат их тел. Этот елей он раздобыл давно, поведал Бен-Юссеф, – в караване, предназначенном для самой царицы Клеопатры. Он рассказывал много подобных небылиц – о благовониях и драгоценностях, о тонких блестящих тканях и мешках золота. Речи же Гавриила никогда не отличались блеском:
– Я хотя бы не делал ничего дурного.
– Но и доброго тоже. Все годы нашего знакомства ты только жаловался на несправедливость мира. Уши вянут от тебя.
– Радуйся, что нашелся человек вроде меня. Кто бы еще столько лет слушал твои враки?
Оставив Гаврииловы слова без внимания, Бен-Юссеф поднял сына с подстилки.
– Вот я и умастил тебя, сокровище ты мое ненаглядное от беглой матери, да пребудет с нею Господь.
Чуть погодя Бен-Юссефу захотелось продолжить перепалку: эти утренние стычки доставляли ему удовольствие.
– Да, я нечестив. Зато я даю Богу повод вмешаться, которому Он наверняка только рад, Гавриил! Ведь что Ему делать с тобой? Утром, когда Он простирает десницу Свою над землей и будит нас, ты уже проснулся и в гордом одиночестве сидишь на постели. «Ай-яй-яй! – вздыхает Спаситель. – Видать, не надеется Гавриил на Меня, коли хочет обойтись собственными силами. Зато этого презренного разбойника Бен-Юссефа вечно не добудишься. Крепок сон его от вина выпитого». Вот и приходится Богу встряхнуть меня, все какая-никакая забота… Мы с Ним досконально изучили друг друга. «Вставай и принимайся за дело, жалкий лентяй!» – повелевает Господь. А я Ему в ответ, тихонечко, чтобы не донеслось до твоего слуха: развяжи путы у Гаврииловых верблюдов, тогда он пошлет меня искать их в пустыне и появятся деньги на вино… и на еду моему сокровищу, да не оставит тебя Господь, малыш. Тебя же, Гавриил, Ему нечем соблазнить и не в чем упрекнуть. Должно быть, Он изнывает от скуки, когда Его лучи проникают в твое убогое жилище.
– Нет для тебя ничего святого, – сказал Гавриил, поднимаясь на ноги.
– Бояться всех и вся не значит почитать святыни. Да не уподобишься ты Гавриилу, о Нарцисс моего семени! Слышишь, малыш? – Он ткнул сына в живот, и тот заулыбался.
День за днем они обменивались по утрам дружескими уколами. День за днем перепалка кончалась тем, что Гавриил вставал и уходил по нужде в чисто поле; скоро он исчезал из виду, растворясь в потоке света, и никто не жалел о его уходе. И все же Гавриил был нашим соседом. Он жил с нами в Назарете, а мы там все бедняки и привыкли помогать друг другу.
– Несчастный, – сказал Бен-Юссеф. – У него даже нет жены.
– У тебя тоже, – отозвался Бен-Шем. – Хотя, может, оно и к лучшему… для нее.
– У меня есть мое сокровище, мой сынишка.
И он зарылся лицом в малыша, а тот принялся лохматить его седую голову.
– Откуда нам знать, что ниспослано Господом, а что нет? Как ты думаешь, Иосиф?
И все обернулись к Иосифу, который сидел на своей подстилке и остужал горячее молоко. Иосиф же, не зная, куда девать взгляд, только ниже склонил голову. Ответа от него так и не последовало.
* * *
А все потому, что Иосифу нелегко было говорить при посторонних.
Немногие слова, которым удавалось пробиться из его безмолвия, должны были пройти долгий путь от рук к устам… да еще убедиться, что попадут не куда-нибудь, а на простор. Иосиф жил трудом своих рук. И с окружающими вещами – деревом, стружкой, инструментом – разговаривали прежде всего его пальцы.
Суровым и согбенным шел он по жизни, высказывал лишь наболевшее, откликался на обращения, однако сам заводил беседу редко. Неудивительно, что он едва поднимал голову, если его о чем-то спрашивали, неудивительно, что он чаще всего уходил от прямого ответа, ограничиваясь привычной фразой:
– Да, это уж точно.
Выговаривался Иосиф лишь в пятницу, за вечерней трапезой накануне дня отдохновения, которой и начиналась Суббота. Когда зажигали светильник и ставили угощение – рыбу, хлеб и смоквы, когда Гавриил и Бен-Юссеф и прочие соседи уже возлежали за столом и Иосиф провозглашал неизменное: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам святую Субботу…», когда он позволял себе лишний стакан вина и отворялись все запоры и затворы его уст… Так происходило каждую неделю. И слушатели перемигивались друг с другом и, поудобнее устроившись на подушках, давали Иосифу облегчить душу. Речи его были хлебом бедствия, который наши праотцы ели еще в земле Египетской. И звучал в них стыд за то, что сам Иосиф ничего не предпринял, когда сравнивали с землей город Сепфорис.
У всякого из нас есть в памяти пустые покои.
Когда легат Вар сжег Сепфорис, мне было два года, поэтому увидеть перед собой это событие я могу только благодаря рассказу Иосифа. Таких пустых покоев множество, и они обнаруживаются во сне и наяву, в грезах или на прогулке. Они открываются перед тобой, когда ты переступаешь порог дома или когда тебе на руку села бабочка-крапивница. Они возникают, когда ты утоляешь жажду, оборачиваешься на улице или произносишь чье-то имя. Пустое помещение, прохлада, тишина. И ты знаешь, что там таится нечто недоступное взгляду.
Вероятно, в тот день, о котором рассказывал Иосиф, такой покой выстроился и во мне. У него были крепкие стены – из ничего, надежная кровля – из ничего и пол – тоже из ничего, однако материал этот прочнее любого другого. Когда попадаешь туда, по твоему «я» словно проходит безжалостный смерч. Рука с бабочкой вздрагивает, ты оступаешься на пороге – и снова все спокойно. Никто даже не заметил происшедшего. Оно вне времени, оно из разряда хаоса и вечности. Перед нами и в нас самих расцветают и переживают упадок целые государства, а под смоковницею – тишь да гладь.
Мария рассказывала, что, играя с младшими братьями и сестрами, я мог посреди самой что ни на есть бурной игры схватить их за руки, заглянуть «словно бы в самое нутро» – и заплакать. А все потому, что я любил и люблю этот мир.
– Однажды вечером, – так всегда заводил свою историю Иосиф, – когда был, как сегодня, день приготовлений и зажгли светильник, к нам вдруг приполз пастух Гамаль. Он поднялся с карачек и что-то заверещал. Гамаль был человек особенный. Он пас овечьи стада на севере, в горах под Сепфорисом, ибо отец его, кожевник Симон, не желал видеть в Назарете одержимого. Гамаль жил скотом среди скотов, ползал на четвереньках промеж овец, серым ликом и платьем мало от них отличный. Речью он не владел, поскольку разговаривать ему ни с кем не доводилось. Он носился вкруг своих овец на манер собаки, и они всегда держались гуртом. Ходили слухи, будто он прикончил не одного рыскающего около гурта льва: сам кидался на хищника и перекусывал ему глотку. Не знаю, была ли в этих слухах доля истины, только ни одной овцы Гамаль не потерял, что правда, то правда. При встрече со случайным прохожим Гамаль всегда поднимался с карачек и, поворотившись к нему задом, щурил глаза на солнце или звезды, изображая нас, человеков; а когда прохожий уходил своей дорогою, снова опускался на четвереньки. Ребятишки, бывало, радостно глазели на него, дразнились и швырялись каменьями, сам же он никого не трогал. Гамаль прожил в горах много лет, не решаясь приблизиться ни к Назарету, ни к Сепфорису. В тот вечер он сделал это впервые на людской памяти.
По городским улицам за ним бежала стайка ребятни, так что о его приближении нас известили крики и смех. Не знаю, почему Гамаль выбрал не чей-нибудь дом, а наш с Марией. Как бы то ни было, он внезапно очутился у нас во дворе. Ноги его дрожали, язык свешивался на плечо, а глаза… эти почти не различимые на чумазом лице глаза сверкали яростью. Гамаль не прошел очищения, поэтому, когда он, прервав мой кидуш, хотел схватить меня за руку, я уклонился, а когда он стал гоняться за мной по двору, преследовавшие его сорванцы пробовали ставить ему подножку. Видимо, Гамаль уловил наш страх: он застыл в дальнем углу и у него из глаз покатились слезы. Он раскачивался из стороны в сторону и издавал нечленораздельные звуки, готовый снова упасть на четвереньки. И тут ему в глаза бросился светильник. Гамаль неуклюже схватил его и замахал руками, указывая на север.
– Ты совсем ополоумел, Гамаль, – сказал один из гостей.
Пастух покачал головой и опять принялся указывать на север. Мы были в растерянности. Помнится, я даже взял тебя за руку, Мария.
– Да, мы ведь ничего не знали.
– Верно, мы тогда ничего не знали. И все же я начал догадываться, в чем дело. Гамаль мычал так встревоженно, что я сообразил спросить, не случилось ли чего. Он закивал и стал жестами призывать нас идти с ним. Стояла кромешная тьма, и Гамаль описывал подле нас круги, словно теперь мы были его стадом. Мы вышли за городские ворота и двинулись в сторону виноградников и помидорного поля. Не было видно ни зги, мы тащились вдоль стены, сбивая ноги в кровь. В одном месте лежал павший осел… Помнишь, Мария?.. Ты споткнулась о него и выронила Иисуса… осел был еще теплый… ты вскрикнула, и Гамаль подхватил мальчика с земли и подал тебе.
– Было очень темно, – сказала Мария.
– Да, было очень темно. И мы шли долго-предолго…
– Ты забыл про шакалов…
– Я ничего не забыл. А ты помолчи, не мешай мне рассказывать. И мы залезли на гору и увидели полымя великое. «Это Сепфорис, Гамаль?» – спросил я. Он кивнул и развел руки в стороны, изображая распятого. «Там убивали?» Он снова кивнул. «Много?» Да, много народу погибло сразу, а многих распяли позднее, потому как было это вскоре после смерти Ирода, когда Иуда Галилеянин со своими отрядами разорил оружейный склад и имел намерение пройти по всей Галилее. Прознали о восстании и мы, и были у нас на Иуду большие надежды. Только легат Вар спуску никому не дал.
На этом месте рассказа Иосиф пригубливал вино, безуспешно пытаясь скрыть от нас волнение.
– К утру на горе собрался весь Назарет. За зрячими туда потянулись слепые, за слышащими – глухие, за здоровыми – прокаженные со своими колокольчиками. Все мы стояли безмолвно, потупив взоры в песок. Увы, Тот, Кого мы ждали, пока не явился. Иуда Галилеянин тоже оказался не Мессией. «Нам бы следовало…» – заговорил кто-то, когда солнце стало припекать. И опять воцарилось молчание. Я предложил было вернуться к работе, но вспомнил про Субботу. Женщины стали поить мужей водой, словно вдохновляя нас на какое-то предприятие; они чуть ли не силком вливали в нас эту воду, мы же едва осмеливались утирать бороды.
Я многажды слушал в тишине пятничной вечери это единственное Иосифово связное и пространное повествование. Теперь мне трудно отличить его рассказ от собственных воспоминаний. Да это и не важно. У меня перед глазами картина: мы стоим у Дороги и смотрим. Мы не стали избранными Его.
Прокаженные, хромые, увечные, многие грязные. Все были еле видны из-за ограды большой дороги.
Ближе к полудню на дороге появились уцелевшие жители Сепфориса. Целый караван, многие тысячи. Пустыня содрогнулась от их криков, от их кровоточащих уст. Скованные друг с другом, подгоняемые плетками легионеров, они тащились к рабству на галерах и в рудниках, а кое-кто и к смерти на кресте. Старики и дети.
– Как бы ужасающи ни были истории о муках, которым подвергают народ в дальних краях, они всегда касались чужих, безымянных людей, – продолжал Иосиф. – Теперь же многие узнавали друзей и знакомых, слышали голоса, более привычные в иной обстановке. Закованные в кандалы руки совсем недавно делились с тобой куском хлеба, милые губы – улыбались детским забавам.
Прежде Иосиф не уставал повторять, что во всем виновата тяга к свободе. Он говорил это сурово и жестко, подразумевая: занимайся хлебопашеством или кожевенным делом, не требуй большего – и будешь счастлив. Но когда он увидел безвинно страдающих по воле властителей друзей, ремесленников из Сепфориса, он понял, как был не прав. И отворотил голову, не в силах долее смотреть.
Мы стояли в тени смоковницы и наблюдали за происходящим из-за каменной ограды. И как только Иосиф отвернулся, я нашел в ограде дыру и вылез на ту сторону, к дороге.
– Первым заметил мальчика Гамаль. И тотчас пополз следом. Назаряне застыли от ужаса. Никто из нас, в том числе я сам, – говорил Иосиф, – не попытался ничего сделать…
И после слов «я сам» у него всегда появлялись на глазах слезы и он всегда тянул мозолистую руку вверх… прикрыть их, спрятать лицо.
– И тут проклятые легионеры – впрочем, клясть нужно не их, а самого себя – углядели, что Гамаль пытается добраться до Иисуса раньше, чем его заметят с дороги. Пастух, однако же, успел схватить малыша в охапку и доковылять до ограды, а мы успели втащить тебя, Иисус, обратно в тот миг, когда Гамаля пронзили сзади копьем… Он покатился по склону и остался лежать на обочине. Наплевав на него, солдаты погнали наших друзей дальше. А мы… мы так ничего и не предприняли. Не пошевелили и пальцем.
С этого рассказа неделю за неделей начиналась для нас Суббота.
* * *
Неисчислимы требования, предъявляемые человеком к человеку.
Теперь мне пора поведать об Иоанне, сыне Захарии и Елисаветы и моем двоюродном брате, которого называют Крестителем. Он стал суров и мрачен.
Но могло ли быть иначе?
Не знаю, да это и не важно: мы знакомы с младых ногтей и нераздельны, как ветер и парус, как топор и удар топора.
И все же – а может быть, именно поэтому – между нами постоянно происходила борьба, и в этой борьбе не могло быть ни победителя, ни побежденного. Служение его скоро свершится, сказал Иоанн в нашу последнюю встречу на том берегу Иордана. Недостает только смерти. Ему предстоит отдать лишь этот последний долг, сказал он… ибо наступило его время. Однако тут, в пустыне, где я склоняюсь над своим прошлым, которое есть мои искушения, время – понятие бессмысленное. Какое-нибудь сиюминутное событие вполне может отражать случившееся давным-давно… И наоборот. Я как будто попал внутрь призмы (не зря же я родился под искрящейся кометой!). Все заключено в нас самих. Время всадило тебе в душу свой топор – и он еще дрожит от удара.
Мое первое воспоминание об Иоанне: мы с Иосифом добирались туда на ослах, мимо персиковых рощ, о ту пору, когда деревья стоят в розовом цвету, а склоны по берегам Геннисаретского озера покрыты красным ковром анемонов. Иосиф прихватил меня в одну из своих поездок за материалом для плотницкого дела; Мария, по обыкновению, устала и была рада отослать меня.
– Да и тебе полезно будет провести несколько дней вдали от дома, – привычно находя оправдание, сказала она. – Пока Иосиф договаривается с друзьями, за тобой присмотрят Елисавета с Захарией. Только веди себя прилично: сам знаешь, они уже старенькие.
И все же я не думал, что они окажутся такими старыми. Мы свернули к их дому, и, как сейчас помню, мой осел скакнул вбок и уперся в персиковое дерево, и оно обсыпало нас цветом, он пристал к ослиной морде и к моим волосам. Мы застряли среди ветвей. Во дворе склонился над корзиной Иоанн, а в корзине сидела старушка Елисавета: она была легкая как перышко, вся седая и с такой прозрачной кожей, что боязно было дотронуться. Корзина стояла на скамье, с которой Иоанн и намеревался взвалить ее себе на спину. Он присел, завязал на голове повязку, со стоном напрягся и резко встал. Тут взгляд его обратился к нам.
– Смотри, отец, кто-то приехал.
Теперь я заметил и Захарию, высокого седобородого старца в лиловом плаще. Он сидел в лучах утреннего солнца на камне и намазывал елеем лепешки; отец с сыном явно собирались в путь.
Иосиф спешился и подошел к Захарии.
– Приветствую тебя, – смущенно произнес Иосиф.
Они были очень разные: низенький, сухощавый Иосиф, никогда не уверенный в том, какое производит впечатление, норовящий спрятаться за делами и поступками, – и Захария, даже в преклонных годах величественный и могучий, не утративший естественности, которая читалась и в живости взора, и в открытости характера.
– Погоди, Иоанн, поставь Елисавету обратно, – сказал Захария, неторопливо поднимаясь навстречу. – У нас гости.
– Неужто Иисус?! – обрадовалась Елисавета. – Сделай милость, сынок, подойди ближе, дай на тебя взглянуть. Совсем плоха я стала глазами.
Я подошел к ней, и она принялась гладить меня по лбу, по щекам, отчего я испытал мучительную боль во всем теле и отвернул голову в сторону, хотел даже вырваться и убежать… Елисавета сидела в своей корзине такая изящная, такая красивая с трепещущими на ветру жиденькими волосами, а когда она повернулась к Захарии и Иоанну и они обменялись взглядами, я прочел в этих взглядах что-то дотоле мне неведомое. Иоанн стоял, не зная, куда девать руки, и смотрел на меня. По виду я дал бы ему гораздо больше лет, чем себе; во всяком случае, он точно был сильнее.
– Здравствуй, – сказал он.
– Здравствуй, – отозвался я.
– Сходите-ка за молоком, ребятки! – попросила Елисавета. – Заодно и познакомитесь.
– Мы не хотели бы вам мешать, – сказал Иосиф. – Вы куда-то собирались…
– Всего-навсего прогуляться, – пояснила Елисавета. – Мои мужчины хотели показать мне горы. Они чувствуют, что я скоро умру.
Елисавета улыбнулась с такой нежностью, что мне опять пришлось отвернуться.
– А как там Мария?..
Спустя час Иосиф распрощался с нами и отбыл на север, в леса. Когда он исчез в висевшей над озером дымке, мы тоже тронулись в путь, на отложенную прогулку. Иоанн нес Елисавету в ивовой корзине. В гору он взбирался быстрым шагом, по-стариковски согбенный, с врезающейся в лоб повязкой. Лицо у него было напряженное, зубы стиснуты, взор устремлен в землю – только бы не поскользнуться.
Елисавета сияла от счастья. Мы с Захарией шли сзади, и она улыбалась нам. Чем выше над озером мы всходили, тем более она оживлялась.
– Я-то сижу, а бедный Иоанн надрывается. – Она помахала нам рукой. – Какой же у меня хороший сын!.. Посмотри, Захария, кто там рыбачит? А тут, посмотри, вроде бы детские одежки развешаны, не иначе как у Гавриила прибавление семейства. Вот и чудесно! – радостно выдохнула Елисавета.
Вверх по кручам, между обломками скал и благоухающими кустами шалфея, между яркими анемонами и колючей гаригой[2]2
Заросли низкорослых кустарников и многолетних трав на каменистых участках гор в Средиземноморье.
[Закрыть]. За Иоанном только сыпался щебень.
– Не надрывайся, сынок, – сказала Елисавета. – Если притомился, давай встанем здесь.
– Нет, пойдем дальше, – упорствовал Иоанн, хотя по щекам у него крупными каплями катился пот.
– А Мария не огорчилась, что ты уехал к нам? – прокричала Елисавета.
Голос ее звучал далеко вверху, Иоанн поднимался очень резво.
Я промолчал. Во мне нарастал поток слез. Сегодня все было слишком необычно, слишком красиво и… как бы это сказать?.. слишком откровенно. Между этими тремя людьми существовала близость. Они были искренни и естественны друг с другом. У нас в семье все обстояло иначе.
Я думал: как это, чувствовать так близко, спина к спине, собственную матерь? Наверное, Иоанну тепло и уютно? Я вспомнил ласковые руки, гладившие меня по лбу. Дома ни у кого не было таких рук.
Да и прогулок таких тоже не бывало. Мария с Иосифом никогда не кричали: «Гляди, какая красивая птица!»
В подобных случаях они просто затаивали дух. Они не могли прошептать, остановившись перед паутиной: «Тссс! Смотри, как плетет. Вот это красота!..»
Они не могли устроить привал на траве, как теперь Захария с Елисаветой и Иоанном.
И мне вдруг захотелось, чтобы Марии тоже было сто лет, чтобы она была легкой как перышко, а волосы ее блестели сединой, чтобы я мог посадить ее в корзину и носить к дальним виноградникам, а там – совать в рот спелые ягоды, приговаривая: «Ешь, матушка, ешь!» Но у меня ничего подобного не было.
Тем временем мы сели на лугу по-над Геннисаретским озером и преломили хлебы. Вокруг носились меж дерев ослы, с горчичных полей веяло медом, а вверху лазоревым солнышком кружил зимородок, самая прекрасная из всех тварей небесных.
– Эта птица – Божия посланница нам, – сказал Захария. – Вот почему она такая пугливая и держится на порядочном расстоянии. Видишь ее, Елисавета?
– Нет. Господь считает, я уже повидала все мне положенное.
В голосе ее, однако, звучала печаль. Тогда я встал и протянул руки к небу.
И птица села мне на палец, ухватилась коготками. Я поднес ее к Елисавете и, опустившись на корточки, сказал:
– Смотри, какие у нее перышки, и белая полоска на крыльях, и белая грудка… А клюв, ты только посмотри, какой у нее длинный красный клюв!
– И все-таки она красивее в полете.
Тогда я с вытянутым вперед пальцем побежал к обрыву и выпустил птицу над озером. Она взмыла ввысь, пронзительно щебеча и брильянтом сверкая на солнце. Когда я обернулся, все молчали.








