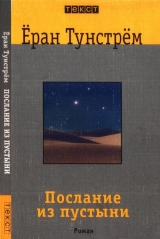
Текст книги "Послание из пустыни"
Автор книги: Ёран Тунстрём
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Я что, слишком рано отпустил ее? Позвать обратно?
Ответом мне было молчание.
* * *
Иоанн нес корзину с Елисаветой, но делал это стиснув зубы. Словно желая доказать родителям, что они не зря столько лет напрасно ждали сына. Словно считая своим долгом вырасти как можно скорей, дабы они успели по-настоящему увидеть его.
Он слишком остро воспринимал требования к себе и изнемогал под их тяжестью.
Я сразу отметил, что нас объединяет необычное рождение: и в том, и в другом случае оно вызвало переполох. Но Иоанн был Божьим даром престарелым супругам, поэтому над ним тряслись, ему уделяли особое внимание. Он рос в окружении заботы, а пожилые соседки с раннего детства нашептывали ему: «Помни, что у тебя старая матерь. Помни, что тебе надо печься о родителях. Докажи им, что ты уже большой!»
Сам не знаю, нравился ли мне Иоанн. Во всяком случае, он был рядом. Жизнь то и дело сталкивала нас, и бывали мгновения (увы, слишком краткие), когда мы вместе познавали мир и ничто не могло испортить этих впечатлений…
Однажды мы с ним сидели на берегу озера.
– Когда я стану большой, то обязательно поеду в Индию, – мечтательно произнес Иоанн. – Слыхал про нее? Слыхал про корабли, что ходят туда из Египта?
Я кивнул.
– У нас в деревне есть один купец оттуда. Можем как-нибудь зайти к нему. Он прожил в Индии чуть не всю жизнь, только умирать вернулся на родину. Говорит, там очень красиво. У него был огромный дворец со множеством слуг. И стоял этот дворец у тихой-претихой реки. Вечерами купец сидел на берегу и пил вино из серебряного кубка… А еще у него были слоны и три ручных леопарда – Сим, Хам и Иафет. Они следовали за ним по пятам, и он заслужил большое уважение. Представь себе: расхаживать в белых одеждах, под зонтом, чтобы кругом были источники и журчала вода…
– Как у римлян, да?
– Гм… – Иоанн вдруг помрачнел. – Я не их имел в виду. Уж будь уверен.
Он дотронулся до моей руки, словно прося извинения.
– Хорошо, можно жить и проще. В любом случае я пригласил бы тебя в гости. У нас был бы домик на берегу реки, в тени раскидистых деревьев. По крайней мере, у этого купца дом стоял на реке. Может, он и не был богат. Может, он все так расписывает, чтобы заинтересовать меня. Но вот прибывает твой корабль, и я встречаю тебя в порту, и мы идем на реку ловить рыбу. Рыбы там видимо-невидимо. Всех цветов радуги. А еще там есть крокодилы. Очень хочется походить по морю, побывать в дальних краях. Я обязательно уйду в море. Можно наняться писарем к какому-нибудь купцу. Заодно повидаешь свет… и выучишь разные языки…
Он смолк, устремив взгляд на воду. И с еще большим напором продолжил:
– Я выучу все языки, Иисус. Все, какие только бывают. Сколько их, по-твоему?
– Тебя определили в Храм, Иоанн, – сказал я. – Ты не сможешь уйти в море. Всё это пустые фантазии.
– Да, фантазии, – согласился он.
Наступила тишина. Гробовая тишина.
Иоанн подобрал камень и швырнул его в озеро.
– А что было… после твоего рождения?
Он задал этот вопрос с таким натянуто-безразличным видом, что я лишь пожал плечами. Тогда он оборотился ко мне.
– Что было после твоего рождения?! – сурово и жестко повторил он.
Я рассмеялся:
– Не помню, я был маленький.
Иоанн швырнул в озеро новый камень и долго смотрел на расходящиеся по воде круги.
– Отец говорит, ты родился под звездой…
– Мало ли что говорят, – отозвался я.
– А еще он говорит, посмотреть на тебя пришли издалека богачи. И он говорит, что Мария…
– Зачем ты меня пытаешь? Почему мы не можем быть просто друзьями?
– Мы вроде не враги.
Врагами мы действительно не были, но его расспросы вызывали досаду. Возможно, потому, что до меня доходили слухи, будто… Ну да ладно, не важно, какие слухи… во всяком случае, мне они не нравились.
Иоанн, однако, не унимался.
Когда мы, заигравшись, очутились под цветущими вишнями, где выстроились в ряд Захариевы улья, и я лег на траву посмотреть, как вьются у очка пчелы, Иоанн схватил охапку травы, которую мы нарвали для кроликов, но про которую забыли, и навис надо мной.
– Сотвори Чудо, – велел он. – Иначе брошу.
– И не подумаю.
Тогда он выпустил охапку из рук, и она упала мне прямо на лицо. Я лежал не шевелясь, вдыхая запах травы.
Сначала я чувствовал себя прекрасно. Потом оказалось, что до меня не доносится голос Иоанна, не доносится никаких звуков извне… и настроение мое переменилось. Я словно попал в отдельный мир. Оставшееся снаружи словно подчинялось иным законам, жило в ином времени. Я тут лежу неподвижно, а снаружи продолжает расти трава. Вот она уже выросла высокая, вот она увядает. Теперь там осень. Я представил себе, что Иоанн тоже вырос, состарился и умер. Умерли все, кого я знал. Селение пришло в упадок и разрушилось, на его месте выстроили новое. А я лежу. Лежу, неподвластный времени.
И все потому, что Иоанну взбрело в голову потребовать от меня Чуда. Единственное Чудо, о котором мечтал я сам, была способность летать. А летал я только во сне. До боли стиснув кулаки и напрягши все внимание, я в конце концов отрывался от земли. Приподнимался над ней, пусть даже невысоко. И тут мне обязательно хотелось показать другим, что я воспарил. Для этого надо было повернуть голову, но тогда внимание рассеивалось и я падал. Всегда, стоило кому-нибудь посмотреть на меня, как я уже снова стоял на земле. Это был неприятный сон, который к тому же снился мне довольно часто.
Я не хотел жить в отдельном мире. Меня и так смущали все эти толки обо мне, взгляды, которыми меня провожали на улицах, Иоанн с его неотвязностью.
– Что ты там делаешь? – прокричал он.
Я был далеко. Голос мешал мне.
– Думаю.
– О чем?
– О том, как мне замечательно.
Некоторое время Иоанн молчал, потом закричал снова:
– Теперь я лежу рядом!
– И тоже засыпан травой и ничего не видишь?
– Совсем ничего. Я хотел спросить…
– Что?
– Как по-твоему, когда придет спасение, на земле по-прежнему будут ночи?
– Да-а-а. Почему бы и нет?
– Уж очень бывает темно.
– Ты что, боишься темноты?
– Ночью неуютно. Днем куда лучше.
– А я люблю лежать в темноте и думать. В темноте заключено больше, чем в свете. Там скрываются наши желания… хотя можно повстречать и то, чего совсем не хочешь.
– Предположим, ты был бы Мессией. Я говорю «предположим». Что бы ты сделал?
– Во всяком случае, ночь я бы убирать не стал. Я бы вообще ничего не убирал. Впрочем… с людскими бедами пора кончать. И с голодом тоже.
– А с римлянами?
– Да. Римлян я бы убрал. Ну почему тебе обязательно надо болтать?
Теперь мне хотелось полежать в тишине и одиночестве. Но Иоанн уже выбрался из-под травы, и в следующий миг я почувствовал упершуюся мне в живот палку. Я тоже стряхнул с себя траву.
– Что ты затеял?
– Мессии положено сражаться, – сказал он. – Вот твой меч.
Кинув мне палку, Иоанн пошел в атаку.
Он воспринимал наш бой весьма серьезно, а у меня от лежания в темноте кружилась голова. Я пробовал смеяться, дабы умерить его пыл, однако ничего не добился.
Не знаю, долго ли продолжалось наше сражение, когда я заметил подле ульев Захарию. В привычном лиловом плаще, с бородой белее вишневого цвета. Захария помахал мне рукой, тогда как Иоанн, обернувшись и признав отца, вдруг напрягся.
– Мы просто играем, отец, – словно извиняясь, молвил он.
Извиняться было нечего. Кто-кто, а Захария был вовсе не строг. Он был добрый и веселый, хотя ноги его одряхлели, а лицо покрылось морщинами.
– Вижу, вижу. И во что вы играете?
– Сражаемся с сынами тьмы.
– Кто ж из вас тьма, а кто свет?
– Сыны тьмы – это я, отец.
Как он выпалил эти слова!
– В таком случае я – отец тьмы, – отозвался Захария.
– Нет-нет, я вовсе не это имел в виду…
– Разумеется. Время покажет, кто из нас кто. Вообще-то я хотел попросить вас сбегать за оливковым маслом. Скоро обедать.
И мы скрылись меж дерев. Но рядом с нами шло Время. Огромное, черное, холодное. Оно разделяло нас с Иоанном. Оно обламывало ветки вишен, топтало маки и лютики, рассекало надвое червей земных.
* * *
Мне хорошо жилось у стариков, да пребудет с ними Господь.
А когда Иосиф вернулся из северных лесов, Захария спросил у него, нельзя ли мне погостить у них еще чуток:
– Они с Иоанном замечательно играют. Обоим только полезно. Я вижу, им нравится вместе.
– Да пожалуйста, – сказал Иосиф. – Мария еще не отошла от последних родов. Если, конечно, Иисус вам не в тягость.
– С двумя не труднее, чем с одним.
– Во всяком случае, в их возрасте, – подтвердил Иосиф.
Елисавета выставила угощение – вино, сыр, хлеб.
– Как житье-бытье на севере?
– Не лучше нашего, – отвечал Иосиф. – Голодают. Уж больно налоги везде высокие.
За вином старики засиделись допоздна. Они сидели у костра под звездами и беседовали о римлянах. Вскоре Иосиф набрался достаточно для излюбленной истории про Сепфорис. Он говорил о своем грехе бездействия, грехе, в котором можно упрекнуть всех иудеев. «Мы слишком бездеятельны», – сказал он. Захария терпеливо слушал, но мнения придерживался иного:
– Кое-кто все же действует… или намерен действовать. Как сказано у Иезекииля: «А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от Меня постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог»[3]3
Книга Пророка Иезекииля, 44:15.
[Закрыть].
И Захария поведал о chassidim risonim – людях действия, что живут в пещерах в пустыне Иудейской.
– Ибо спасение придет из пустыни. Там явит себя Спаситель наш. Я всегда испытывал тягу к этим людям, но остался жить в Иерусалиме ради Елисаветы… и ради себя. Иначе я бы поселился в Хирбет-Кумране.
– Значит, это я тебе помешала, Захария? – переспросила со своего ложа убеленная сединами Елисавета.
Он покачал головой:
– Я сам себе помешал. Все-таки в их учении много такого, чего я не принимал. Они казались мне слишком строгими. Если человек в субботний день упал в воду, его, видите ли, нельзя спасать… Еще чего… Они называют меня отступником. Ну и пусть. Они что-то делают, и да благословит Господь их труды.
У Захарии был красивый голос, отчего каждое его слово запечатлевалось в памяти. Рядом с этим человеком ты чувствовал себя в полной безопасности. Мне всегда хотелось, чтобы у Иосифа было много дел, чтобы его переговоры о покупке материалов затягивались и я оставался в гостях как можно дольше. Захария обучал нас не только священным текстам, но и писать на песке. И тогда на вздуваемом ветром песке, по которому шастали куры с петухами, появлялись крупные детские каракули. Он был хорошим наставником и во время этих уроков на берегу, под старой смоковницей, закладывал в наши потаенные уголки крупицы своего опыта. Мы с Иоанном не только подражали речам Захарии, но стремились к ответственности, которой, как нам казалось, было проникнуто его учение.
Однажды мы притворились молодыми людьми, задумавшими поступить в монастырь на берегу Мертвого моря. С посохами в руках, с котомками за плечами мы степенно взбирались на холм позади дома.
Будучи старшим, Иоанн взял на себя роль монастырского служителя.
– Шалом, милый юноша, и да пребудет с тобой Господь.
Он встал передо мной, широко расставив ноги и меряя меня суровым взглядом.
– Что понудило тебя проделать столь неблизкий путь, сын мой?
– Хочу присоединиться к вашей братии, – отвечал я, еле сдерживая смех от непривычных слов.
– И как ты это понимаешь?
– Пришли последние времена, отче, и я не могу долее терпеть греховный Иерусалим, хочу вступить в вашу покаянную общину и, пребывая среди избранных, сражаться с сынами тьмы.
– Достойные речи, сын мой. Но сначала тебе придется провести здесь год без вступления в монашеский орден, только исполняя заведенные у нас правила… Если ты докажешь, что поддаешься воспитанию, настоятель допустит тебя в общину. Имение свое ты должен передать нам.
Я подобрал с земли несколько камней, и Иоанн торжественно принял их от меня.
– Деньги пойдут в общую кассу. На них мы будем ковать оружие для окончательной победы над сынами тьмы. А теперь – на колени!
Я упал ниц. И тут налетел вихрь.
– Пойдем домой, Иоанн, – взмолился я. Мне не нравилось, что глаза засыпает песком.
– Ты смеешь обращаться ко мне на «ты», отступник? Напротив, мы удалимся в пустыню, дабы нас не смущали искушения мира.
Мне стало боязно, ведь он даже не улыбался.
– Ты говоришь, словно взаправдашний монах. Давай лучше кто дальше кинет камень, а? С трех попыток…
Он неспешно повернулся лицом к пустыне.
– Ты будешь кидать первый, – продолжал я. И испуганно прибавил: – Если, конечно, хочешь…
В ту пору я всегда старался держаться в виду деревьев. Теперь же мы настолько углубились в пустыню, что они казались совсем крохотными.
– Пожалуйста, давай не пойдем дальше.
– Никто не имеет права прерывать брата своего посередине речи.
– Иоанн!
Он лишь прибавил шагу, отчего мне не было видно его лица.
– Там львы!
– Они с нами не справятся.
– Постой, Иоанн! Куда мы?
– Искать уединения и приготавливать путь Господу!
Может быть, он шутил? Может быть, он любил играть еще больше моего? Тогда почему он ни разу не обернулся ко мне? Я едва ли не бегом бежал за ним и все же подобрал камень – на случай, если окажется, что Иоанн это понарошку. Чуть погодя камень сам собой выпал из руки. Ветер между тем крепчал. Я замотал лицо полой плаща, чтобы уберечь глаза от песка.
Через некоторое время я набрался храбрости спросить:
– Ты когда-нибудь заходил так далеко?
Нас окружали сплошные барханы. Нигде ни деревца, ни проблеска озера вдали.
– Всякий шаг бывает новым. Ты ведь хочешь стать своим среди людей действия, сын мой?
– Да, Иоанн, – пролепетал я, стараясь не отставать. Ноги мои оскальзывались, из носа текло, в глаза набился песок и принесенный ветром мусор, один я ни за что на свете не нашел бы дороги назад. Я получал истинное удовольствие на берегу озера, когда мы учились у Захарии, безмерно гордился тем, что не обманул его ожиданий. А теперь… Под этим меркнущим небосводом. С этим загадочным Иоанном. Ведь что я, собственно, знал о нем? Какие движения души, какие мысли разделял?
Мы заблудились и уже никогда не попадем домой.
И тут… посреди пустыни, неумолимо простиравшейся во все стороны до самого горизонта… Иоанн вдруг оборотился и предстал передо мной таким, каким я его еще не видывал.
– На колени! – строго приказал он. – Ты – новый Мессия!
Во мне что-то оборвалось.
Почему он так сказал? Я насупился, пытаясь уразуметь, что Иоанн имеет в виду. Мессия – это ведь не я! Мессия еще должен явиться. Из другой страны или с небес.
Какая глупая игра! Иоанн несет бред, лишь бы распоряжаться другими. Теперь я тебя раскусил, подумал я. Теперь мне не страшно.
Однако что за чудные он произнес слова… Словно Мессия может прийти изнутри. Вырасти, наподобие зародыша, в живом человеке.
Словно я был женщиной и мог выносить в своем чреве кого-то еще. Но я был мужчиной и без колебаний отмел эту мысль.
И вдруг на меня напал страх. Такого страха я не испытывал никогда прежде. Смерть. Это похоже на смерть. Смерть всегда касается других, а не тебя, пока…
Трепеща, я взглянул наверх и встретился с непримиримым взором Иоанна. В его глазах не было и тени игры.
– Пожалуйста, Иоанн…
– Тебе предстоит долгий и трудный путь. Вот почему тебе надо удаляться в пустыню и подолгу пребывать там…
– Иоанн…
– Клянись! – продолжал он, вешая мне на плечо свою котомку с провизией. – Клянись всегда почитать Господа и исполнять обязанности свои пред человечеством, клянись ненавидеть и обличать нечестивых. Клянись никогда не похваляться властью твоею…
Тут я разозлился и кинулся на Иоанна. Я повалил его на землю, сдавил ему шею, уселся на него верхом и диким голосом заорал:
– А ты, Иоанн, клянись никогда в жизни не заводить таких разговоров! Если я услышу от тебя еще хоть слово, я не знаю, что я с тобой сделаю!
– Но птица…
– Ты что, глухой?!
Вокруг завывала песчаная буря. Когда мы поднялись на ноги, то оба дрожали. Иоанн пришел в себя первым, хотя тоже не сразу, а так, как приходят в себя после дальнего путешествия.
– Ты здорово испугался, – сказал он. Глядя на меня, он словно смотрелся в зеркало.
В такое же зеркало смотрелся и я.
* * *
Однажды Иоанн разбудил меня спозаранку и предложил сходить на озеро.
Был час вожделенной прохлады и покоя, солнце подсвечивало гигантские паутины, раскинутые там и сям между кустами майорана. В одной из них сидел паук, и мне показалось, что он подмигнул мне, когда мы, дабы не порвать паутину, обошли ее стороной, по гадючьей траве. Уже выискивали червяков ибисы, а вдалеке можно было различить идущих к лодкам старых рыбаков. В зарослях тростника ныряла утка-поганка, и стоило задеть какое-нибудь растение, как нас обдавало раннеутренним благоуханием.
Тут проходили стези Иоанновы. Тут он все знал и во всем разбирался. Я хотел тоже познать внешний мир, столь прекрасный и обильный, научиться проникать в него, чтобы можно было покончить с опасной игрой. Более того, мне мнилось, будто я преуспел в этом; поначалу я даже не заметил, как стал делить мир на внутренний и внешний.
Один ли я разделяю его на части?
Или мир действительно двуедин?
В то утро, однако, я шагал по высокой траве следом за Иоанном, вдыхая терпкий запах фиговых листьев и видя в своем сверстнике то, что было насущно для меня. Я видел, как естественно он ведет себя с людьми, как по-взрослому говорит с ними (его манера была куда взрослее моей). Видел, как он бросается на помощь. Потому что это доставляет ему удовольствие. Потому что таким образом он познает мир.
Чтобы вскоре оставить его?
Мы вошли в воду и закинули сети. У меня без привычки не получалось, но Иоанн показал, как надо. Мягкий, расслабленный замах, бросок – и сеть полетит далеко и аккуратно опустится на воду. Я раз за разом промахивался, однако Иоанн не подчеркивал своего превосходства, а снова и снова повторял движения, пока и у меня наконец не вышло.
И все же крупную рыбину поймал сам Иоанн.
В его бредне вдруг что-то забилось, забултыхалось, и он спокойно, с улыбкой потянул сеть на себя. Когда он извлек рыбу на поверхность, перед нами словно засверкали тысячи крохотных солнц.
– Не будем жадничать и брать больше, чем сумеем съесть, – сказал он, и, хотя мне обидно было уходить ни с чем, мы вытащили сети и разложили их на берегу, отерли с ног налипшие водоросли и побрели к дому.
Рыбу Иоанн нес на руках, как младенца.
Он хотел сделать Елисавете сюрприз.
Счастливые и довольные, мы молча крались по траве. Вокруг был подлинный рай! Вот где я мечтал бы жить. Поставить на берегу мастерскую. Завести лодку, сети… Посадить смоковницу и сидеть под ней вечерами; сложить очаг, чтобы можно было разогревать молоко…
Все так же крадучись, мы приблизились к дому, где жили старики, и я приложил палец к губам.
– Тссс! – сказал я петуху на навозной куче.
– Тссс! – сказал я ослу в поле.
– Тссс! – сказал я воробьям, клевавшим зерно среди кур.
И они примолкли.
Елисавета еще спала. Она лежала на спине с полуоткрытым ртом, по лицу ее ползали мухи. Захария трудился в огороде за домом.
Она была очень красивая в своих преклонных летах, и, когда Иоанн нагнулся, чтобы положить ей на грудь рыбину, по мне пробежала дрожь: я вдруг представил себе, что эта рыба – я, а Елисавета – Мария.
Иоанн отвернул одеяло. Но стоило ему приложить рыбину к обнаженной груди матери, как та закричала, вскочила на постели и, в ужасе замахав руками, сбросила трепещущую рыбу на пол.
Елисавета дико озиралась по сторонам. Рыба билась на полу между бочкой с водой и масляным светильником, который тоже упал и разлетелся на куски. Елисавета пыталась что-то сказать, ворочала во рту языком, но не могла издать ни звука. Она все еще махала руками, и мы с Иоанном жались к стене.
– Прости, матушка, – наконец выговорил он. – Пожалуйста, прости. Я вовсе не хотел тебя испугать.
Когда Иоанн попробовал подойти к постели, Елисавета обрушилась на него с кулаками. Он уворачивался, пытаясь поймать ее взгляд.
Снова, и снова, и снова.
Елисавета не узнавала его. Она не видела в комнате никого, кроме рыбы. Словно сама родила не живого человека, а эту рыбину.
Словно ее жизнь прошла напрасно и Елисавета только что пробудилась от чудесного сна. И лишь там, во сне, сумела родить человека.
Достучаться до нее было невозможно.
– Матушка, милая! – взывал Иоанн. – Что я наделал?! Пожалуйста, откликнись!
Но она не откликалась.
Когда вернулся Захария, мы все еще стояли у стены. Он посмотрел сначала на сына, потом на меня. Увидел затихшую рыбину, к блестящей чешуе которой прилипли песок и пыль.
– Что случилось?
– Это я виноват, отец. Я ее напугал. Теперь она не узнаёт меня…
Тогда Захария подошел к постели и рухнул на колени, хотел погладить Елисавету по лбу. Она оттолкнула и его. Он взял жену за руки и крепко прижал к груди.
– Благодарю Тебя, Боже, что отпустил нам столь долгий срок вместе. Жизнь наша была исполнена радости. Забери и меня поскорее в пределы Твои, Господи.
Положив ладонь на голову Иоанна, Захария благословил его и вышел из комнаты.
Мы молчали. В дверь, бия крылами, забежала курица, однако тут же унеслась прочь.
– Елисавета скоро поправится, Иоанн, – сказал я, но он покачал головой:
– Нет, ей уже не выздороветь. Слышал, что сказал отец? Он в таких делах разбирается. А теперь пойдем отсюда, я больше не могу.
После комнатного мрака свет ослепил нас. Перед глазами запрыгали черные пятна. Иоанн шел, потупив взгляд в землю.
– Ты напрасно упрекаешь себя, Иоанн.
– Почему отец не захотел слушать? Это я виноват. Мой грех. Я… я убил ее.
– Ну что ты. Она жива.
– Жива. Разве это жизнь, Иисус? Сидит и никого не узнаёт. Может, даже ненавидит, а? Надо же, испугал человека до смерти. Как я это перенесу? Она забыла прошлое, забыла все, что придавало смысл ее жизни… она сама так говорила.
У меня на языке вертелись фразы, которыми принято утешать в подобных случаях. Она поправится. Она все вспомнит. Это чистая случайность. Но кому легче от таких фраз? И не мешают ли они истинной близости друг с другом?
– Почему отец не захотел наказать меня?
– Отец? Наказать? К наказаниям прибегают только трусы.
– Может, ты и прав. Захария не трус. Все равно это будет преследовать меня до конца моих дней.
Я не сказал, что это будет преследовать и меня. Ведь я был рыбой, сброшенной с ее груди.
У нас с Иоанном появилась общая тайна, которая повлияла на нас обоих. В то утро мы распростились со многим из своего детства. Нашим играм словно подрезали крылья. Мы более не пытались тянуться вовне, а обращали взор в землю или вовнутрь себя. Хотя тела наши проявляли законное желание высунуться наружу, мы не давали им воли. Мы были захвачены водоворотом мыслей, выразить которые нам не хватало слов. Над Геннисаретским озером тучей нависло чувство вины. Ветер, трепавший кроны деревьев, напоминал о ней же. Мы не замечали ползавших по ногам муравьев, не слышали доносившихся издали рыбацких разговоров; все, что прежде радовало нас, теперь представало в самом мрачном свете.
* * *
Мне было удивительно, что Елисавета никак не умирает.
Когда я появился у них спустя несколько месяцев, она по-прежнему сидела безучастная, с бессильно опущенными руками и застывшей на губах чудаковатой усмешкой.
– Сам видишь, она и не думает поправляться, – угрюмо глядя на меня, сказал от дверей Иоанн.
Захария стоял возле ложа и кормил жену, успокаивая ее помрачившийся рассудок ласковыми словами. Затем он подхватил Елисавету на руки и вынес в поле, помог справить нужду. Он вымыл ее, расчесал серебристые волосы, украсил поздними осенними цветами.
Иоанн даже не осмеливался подходить к матери.
Мне стало больно, когда я это заметил, но что я мог поделать?
Мы с Иоанном были схожи фигурой. Форма головы тоже совпадала, только волосы у него были жестче моих.
Однажды я намазал себе волосы салом, втер в них песок с хвоей и расчесал.
Иоанн и Захария пошли вечером в синагогу, а я остался дома. С наступлением сумерек я прокрался к Елисавете. Она спала. И лежала точно в такой позе, как в тот злосчастный день. Я долго колебался.
Наконец медленным шагом подошел к ее постели и осторожно положил голову Елисавете на грудь. Я затаил дыхание, но она словно не чувствовала тяжести и продолжала дышать, пусть даже едва слышно, ведь жизнь в Елисавете еле теплилась, хотя и умирать ей, видно, срок не пришел.
Чуть погодя я нащупал ее руку и провел ею по своей голове. Рука застыла на том месте, где я ее отпустил, – будто мертвая.
Не знаю, сколько времени это продолжалось – несколько мгновений или часов. Меня почему-то растревожило биение ее сердца, доходившее до моего слуха сквозь тонкие грудные оболочки. Внезапная мысль: я никогда не лежал так у материнской груди. И вообще ни с кем не был так близок. Бывает, достаточно одного мига, чтобы запомнить ощущение навсегда. Мы ведь живем от искры к искре, которые зачастую стоят многих дней и лет. Такой миг равноценен долгим странствиям по свету.
Наверное, я почти заснул, когда Елисавета вдруг дернулась… и погладила меня по голове. Потом замерла… и снова заворочалась, робко, опасливо.
– Иоанн?.. – прошептала она.
– Да.
– Значит, ты существуешь, Иоанн…
– Спи, матушка. Спи.
Она откинулась обратно на постель, ее руки обнимали меня в темноте.
Не знаю, что было наутро. Когда я увидел Иоанна, он сидел в лодке, болтая ногами и всплескивая воду. Я уже собрался позвать его домой и рассказать, что Елисавета снова признала его, как вдруг он стряхнул с себя привычную мрачность.
– Мы выходим в море.
Дул крепкий северный ветер, озеро было подернуто белыми барашками, над Моавитскими горами нависла туча.
Я понял, что Иоанн хочет бросить вызов северяку. Этому мальчишке вечно надо преодолевать сопротивление, он не ощущает жизнь во всей полноте, если с кем-то не борется. Я кивнул: до вечера далеко, расскажу за ужином.
Старик, которому принадлежала лодка, только посмеялся над Иоанном:
– Конечно, бери, хотя на улов при таком ветре можешь не рассчитывать.
– Это мы еще посмотрим! – прокричал Иоанн, ставя парус. Он словно надеялся силой затащить рыбу в лодку.
На всем озере вышли рыбачить одни мы. Берега стояли безлюдные и безмолвные. Лишь высоко в горах истошно орал ишак. И до нас долетал приторно-сладкий аромат смоковниц.
Я назарянин и не привык к большой воде. Стоило лодке накрениться, как я схватился за мачту; лицо и платье обдало брызгами.
– Мы перевернемся! – завопил я.
Иоанн не отвечал. Он неотрывно следил за волнами и, не обращая внимания на ветер и лезущие в глаза волосы, твердой рукой направлял лодку. Такого Иоанна я не видывал. Это был целеустремленный, движимый глухой решимостью взрослый. Получалось, мне тут нечего делать. Я испугался. Я был в лодке балластом. Иоанн не давал мне ни забрасывать лесу, ни держать крючки. Не давал втягивать улов в лодку, хотя сам вытаскивал одну рыбу за другой. Больших и маленьких, темных и серебристых.
Мне было обидно оставаться не у дел. Ну погоди, если только я выживу, ты у меня узнаешь…
И я представлял себе, как моя голова снова лежит на груди у Елисаветы. В темноте и тиши.
А Иоанн пускай еще денек подождет. Завтра, решил я. Завтра…
– Убедился? – отрывисто бросил он, когда мы уже повернули к берегу и заметили взволнованно машущего нам оттуда владельца лодки.
– Похоже, ты своего всегда добьешься.
Такие слова могут запомниться, могут открыть дорогу к новым отношениям. Впрочем, другие слова могут захлопнуть открывшуюся дверь.
– Возможно.
Пока мы чистили на берегу рыбу, старик бормотал:
– В жизни не видал ничего подобного. Давай я отдам лодку тебе. А улов будем делить пополам.
Иоанн поставил перед стариком полную корзину рыбы.
– Забирай всю себе, – велел тот.
– У нас дома никто ничего не ест, – покачал головой Иоанн.
– А ты должен есть, Иоанн. Чтобы всегда справляться с лодкой, нужно стать большим и сильным.
– Не хочу.
Тогда старик взял Иоанна за подбородок и повернул лицом к себе.
– Послушай, – сказал он. – Я знаю про Елисавету. Знаю, что ты ходишь и мучаешься. Захария мне рассказывал. Ты зря думаешь, что доставляешь удовольствие родителям, нарочно рискуя жизнью.
– Я не рискую.
– Ну, может, сегодня и не рисковал. А целое лето только этим и занимался! У тебя же все мысли на физиономии написаны.
Старик оборотился ко мне:
– Ты его друг! Пригляди, чтоб поел. Похоже, он уже давно этого не делал.
И всучил мне корзину:
– Поручаю Иоанна тебе! Лишнее можете раздать, но рыбу в него впихни… если потребуется, силком. Это ж черт знает что творится! – ворчал он. – Такой большой, крепкий парень – и пропадает ни за грош! А теперь – катитесь своей дорогой!
И все-таки вечером я опять лежал рядом с Елисаветой.
* * *
Прежде слова наши чирикающими воробьиными стайками перелетали с дерева на дерево, клевали все подряд, пугались, ссорились, бросались врассыпную и слетались обратно. Мир был полем, открытым для нашего любопытства, пашней нашего будущего. До сих пор мы, как это принято у мальчишек, делились друг с другом всем. В нас не было ни одного уголка, сокрытого от товарищеского взора.
Теперь у меня появилась темная комната с моим обманом, моим предательством.
Иоанн тоже ушел в себя.
Казалось, что взрослеть – значит осознавать свои тайные комнаты, закрывать их от посторонних.
Я так и не поговорил с ним, не сказал, что теперь он может пойти к матери и положить голову ей на грудь, может избавиться от чувства вины и дать Елисавете спокойно умереть; я перекладывал этот разговор со дня на день, восхищенно наблюдая, как Иоанн преодолевает свое чувство вины и мужает. Я так и не рассказал, что Елисавета обрела покой, а ходил вокруг да около, прислушиваясь к его самобичеванию, которое вело Иоанна от личного опыта вперед, к чему-то большему. С играми было покончено.
Мы лишь разговаривали.
И то иначе, чем прежде: я помалкивал о своей темной комнате. И эта комната словно затягивала в себя каждое словцо из тех, что раньше без запинки отскакивали у меня от зубов. Тайна и предательство. Чем ближе мы подходили к дому, тем упорней становилось мое молчание и колотьба в сердце, потому что в мыслях у меня было одно: как я буду лежать у нее на груди и выдавать себя за него. Я по-прежнему считал, что все зависит от обстоятельств и что я уже в следующий миг или на следующий день расскажу о содеянном, о том, как воспользовался нашим сходством, какой легкой поступью подкрадывался к Елисавете, чтобы не испугать ее.
– Жизнь моя, – шептала Елисавета. – Ты моя жизнь, Иоанн. Теперь я могу спокойно умереть.
Сначала, однако, предстояло умереть Захарии.
При всей несправедливости этого.
Бывают люди, которые распространяют вкруг себя сияние, создают прохладу и тень. К таким людям относился и Захария. Гостя в их доме, я каждый раз с радостью бежал за ним на берег, сидел рядом, пока он чинил неводы, помогал выбирать рыбу из запутанных сетей.








