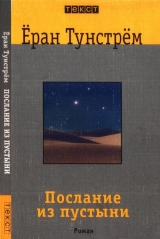
Текст книги "Послание из пустыни"
Автор книги: Ёран Тунстрём
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Можно подумать, я не слышал этих укоров прежде. Можно подумать, я вообще слышал в жизни что-нибудь иное.
– Теперь на будущее работаем мы, – прибавил Товия.
И все же я спросил:
– А как люди берут на себя ответственность?
Он зачерпнул в ведро воды и внезапно окатил меня, одетого, с головы до ног.
– Примерно так, – засмеялся Товия.
Отряхиваясь и протирая глаза, я задал следующий вопрос:
– А что делать потом?
– Потом хорошо бы стереть с губ молоко.
Я машинально вытер губы.
– А потом?
И тут я услышал слово ПОШЛИ.
Оно было новым для меня. Оно протиснулось ко мне, найдя лазейку между прочими слышанными мною словами, между всем, чему я внимал, и всем, что я отрицал. Слово ПОШЛИ указывало новый, неведомый мне путь.
Я никогда себе ничего не запрещал, а тут привычная свобода почему-то вдруг сузила свои рамки. Разумеется, я и прежде делал выбор, говорил «да» или «нет». Но был ли то подлинный выбор?
Теперь мир – внешний мир – приступил ко мне с новым требованием.
Надо было предпринять какие-то шаги, чисто физические шаги. Куда-то идти.
Разве кто-нибудь говорил мне раньше ПОШЛИ? Иосиф всегда бросал: «Следуй за мной!» Мария призывала: «Веди себя прилично!» Иоанн сказал: ТЫ ЕСТЬ. Теперь кто-то говорит: ПОШЛИ.
За словом ПОШЛИ открываются невиданные дали.
Товия обвел меня вокруг холма, у подножия которого бил источник. На той стороне, под другим тамариском, щипали засохшую траву два стреноженных ишака. Тени от них были совсем короткие.
– Встретимся здесь ночью, – сказал Товия. – Смотри, чтоб за тобой не было хвоста.
В ту же ночь, ясную и звездную, мы с ним поскакали оттуда к Иерихону. Я не знал, чего ждать, не знал, для чего мы пустились в путь. Утром мы привезли в монастырь воду, а потом разошлись, не сказав друг другу ни слова, – каждый вернулся к своим обязанностям. Товия даже не посмотрел мне вслед.
Тюрьма располагалась в приземистом здании, затерянном среди барханов, врытом в них. Когда мы привязали ослов под редкими деревьями, Товия дал мне знак хранить молчание. Мы подкрались к решеткам. Внизу я различил застенки с арестантами.
Что это были за арестанты? Я повидал их в своей жизни немало. Они проходили через Назарет по дороге в узилище и обратно, после отбытия срока. Массу арестантов-пленников я видел еще в двухлетнем возрасте, когда их гнали из Сепфориса. Сколько их было? Тысяча, две? И вправе ли я говорить, что видел их, что понял происходящее, если мне было всего два года? Может, я отложил эти воспоминания в глубину, на дно колодезя? Туда, где жили рыбки?
Может, поэтому у меня печальный взгляд? В свое время я стал свидетелем «страшного события». И это событие никуда не делось, оно осталось во мне. Мне ведь некому было передать его. Хуже того, благодаря рассказам Иосифа оно все более укоренялось во мне, все сильнее давило. Иосиф выставлял меня перед слушателями едва ли не соучастником кошмара: дескать, несмышленыш мог выдать римлянам скрывавшихся за оградой назарян, а потому им готовы были пожертвовать ради спасения остальных. Вероятно, так тогда рассуждали все. И если б не Гамаль…
Мы лежали, прижавшись животами к решетке, а там, внизу, пытали узника.
Про пытки я тоже знал достаточно. Со всех концов страны шли слухи о том, что людей пытают – в темных пещерах, в дальних углах, неведомо где, и это были чьи-то друзья или знакомые, чья-то родня. Как будто мы все не родные друг другу! Как будто у нас не один Создатель! Но тут человека пытали у меня на глазах…
Он был преклонных лет, с седой, всклокоченной бородой. Руки у него были связаны, ноги разведены в стороны. Он болтался перед фонарем тюремщика, подвешенный за руки и похожий на распятие. Ему ткнули палкой между ног. Изо рта хлынула кровь.
– Надо что-то предпринять, – шепнул я Товии.
Он посмотрел на меня с невероятным спокойствием. Даже с презрением, от которого меня бросило в дрожь.
Почему я такой наивный?!
Почему не понимаю, что так устроен мир?
Что подобное творится вокруг денно и нощно?
Я всегда считал, что мы живем исключительно внутри себя. Что все прочее, вроде страданий и зла, должно пролетать мимо, как пролетает мимо запах шалфея или тимьяна, если мы ненароком заденем их. Зло… оно ведь не «всамделишное», правда? А что «всамделишное»? Товия не дал мне погрузиться в размышления, извечно заменяющие собой действие. Он потащил меня назад, туда, где мы оставили ишаков…
– Что можно предпринять? – не унимался я, чувствуя всю безнадежность, всю бесполезность моих слов. – В чем провинились эти узники?
Товия вел своего осла чуть впереди.
– Ну вот, ты и посмотрел, – сказал он.
– Но что они сделали?
– Единственно возможное. Это мои друзья. Скорее всего, мне тоже не миновать темницы.
– Они зилоты?
– Да. Как и я.
– Значит, у тебя должен быть кинжал…
Он вытащил из-под полы кинжал и, чуть заметно улыбнувшись, протянул мне.
– И ты… – сглотнул я, – ты кого-нибудь убил?
– Какая тебе разница? Скажи лучше: хочешь быть с нами?
В ту ночь мне преподносили один сюрприз за другим. Навалилось сразу слишком много. Мир изменился до неузнаваемости. Все предстало в ином свете, хотя света, собственно говоря, не было, стояла кромешная тьма. Нет, убивать я бы не смог. С каждым убитым умирала бы и часть меня. Что я и выложил Товии.
– Но разве не умирает часть тебя и тогда, когда люди гибнут от рук римлян и их пособников?
– Все-таки я боюсь. Может, есть другой способ?
Товия пожал плечами:
– Ладно, поехали.
Я старался не отставать. Когда мы удалились в пустыню, я прокричал ему:
– Обязательно должен быть третий путь! Средний между действием и бездействием. Он существует…
– Значит, ты не с нами?
Товия произнес эти слова громко, но довольно равнодушно. Как будто ему не было до этого дела. Как будто он просто разглядел всю мою подноготную.
И так же безразлично добавил:
– Наверное, придется тебя убить. Теперь ты знаешь, кто я такой.
– Я не предатель.
– Ты же предал Иоханана!
– Он доносчик.
– На которого донес ты.
Наконец Товия придержал ишака. Оборотился ко мне. Улыбнулся.
– Пойми, наступит день, когда нам будет не до обсуждения этих вопросов. Мы оба станем старше, и нам будет угрожать реальная опасность. Тогда это будет вопрос жизни и смерти.
И такой день наступил, хотя намного старше мы к тому времени не стали.
Товия терпеливо растолковал мне, что для освобождения узников следует дождаться «подходящего случая». Если бы мы в ту ночь прикончили палача из лука, толку от этого не было бы никакого. Место одного истязателя заняли бы другие. Тюремщиков там хватает. Сами арестанты ослабели. Зилотов поблизости нет.
– А ты… от тебя проку было бы мало.
– Ничего подобного. Я мог бы…
– Довольно, Иисус. Я знаю, намерения у тебя самые благие.
Я вскипел от гнева:
– Ты хочешь сказать, я ни на что не гожусь?
– Тут нужна тренировка. Нужна стратегия. Надо давно и точно знать, чего ты хочешь. Надо зайти по этому пути так далеко, чтобы не думать о возврате.
После таких назиданий он обычно уходил, а они оставались витать в воздухе над полем, где мы трудились.
Словно письмена, которые касались нас всех.
Касались Иоханана. И хромого монаха. Касались тех моих сверстников, что гнули спины под палящим солнцем, и тех, что выходили из монастыря с восходом солнца, пока еще рассеивался ночной туман. Каждого из них слова Товии объясняли по-своему. И я видел, что многие, в том числе я сам, были людьми слабыми, тогда как другие обретали силу. Это было слышно по их разговорам – даже о самых, казалось бы, пустячных вещах. Это было заметно по тому, как они, кланяясь земле, орудовали мотыгой между рядами бобов и масличных всходов.
«Не думать о возврате».
А несколько самых юных послушников, затаившись посреди горчичного поля, шептали:
– Давайте сбежим к морю.
И они, пригибаясь, пытались скрыться с рабочего места, но их обнаруживали и водворяли обратно.
«Не думать о возврате».
А внизу ехал по дороге в Иерихон старик. Вез на продажу ткани, весело переливавшиеся в его тюках желтым и красным. У источника он спешился и зачерпнул испить воды.
«Не думать о возврате».
А в долине ходили меж лачуг женщины с кувшинами – мелькнут на миг и скроются. О чем они вели речь, какие загадывали желания, какие лелеяли мечты, какие их надежды не сбылись? Знали ли они о начертанных в воздухе письменах? Не древних, а самых что ни на есть современных… О словах, что могут прийти издалека или из ближайшего их окружения, словах, побуждающих к действию, словах, которые на следующей неделе или в следующий миг вынудят этих женщин ходить другой дорогой, иначе гнуть спину и воздерживаться от речей, сегодня легко и свободно слетающих с их губ.
– Если ты спросишь меня о насилии, – говорил Товия, – я могу сказать одно: оно есть. Причем совсем рядом, поскольку к нему прибегают везде и всюду. Теперь ты это знаешь. Как знаешь и то, что необходимо защищаться. Все очень просто. Такие вопросы могут задавать лишь наивные люди, идущие по жизни с закрытыми глазами.
Итак, однажды настало время действия. Ночью Товия покинул монастырь, и я последовал за ним. Когда он пришел туда, где стояли ослы, там уже собрались люди, целый караван.
– Возвращайся, – велел мне Товия.
– Нет, я хочу с тобой.
– Я тебе запрещаю.
– А что, собственно, будет такого?
– Мы идем вызволять друзей. Тебе там делать нечего.
Я не послушался. И бежал вдогонку до самого Иерихона. Увы, я опоздал. Зилоты сумели взять приступом темницу, но их ожидала засада. Часть узников удалось освободить, другие погибли.
Погибло и много римлян. Но зилотов кто-то предал. Из груди шедшего мне навстречу Товии текла кровь. Я кинулся к нему, подставил плечо, на которое он оперся.
– Ты что, не слышал? Я велел тебе вернуться.
– Я помогу тебе залезть на осла.
Товия горько рассмеялся:
– От этого будет мало проку. Жить мне осталось недолго. Разве ты не видишь во мне смерть?
Нет, смерти я не видел. Я видел Товию исполненным жизни, видел жизнь, светившуюся в его глазах, и жизнь вокруг него, мрачную, тягостную жизнь, в которую он тем не менее верил и которую избрал для себя. Он осел на землю, и, когда я разорвал на нем рубаху, из нанесенной мечом раны хлынула кровь. Она тут же обагрила мои руки, мое платье. Издали доносились крики и приказы легионеров. Сейчас мы были скрыты от них скалой, однако с рассветом нас непременно обнаружат.
– Уходи, Иисус. Не хочу, чтобы и ты оказался замешан. Скоро римляне будут здесь, и тогда ты попался. Ни к чему втягивать тебя в неудавшееся дело.
– Но я уже втянут.
– Ты еще можешь исчезнуть. И никто не узнает…
– Достаточно того, что знаю я сам. В безмолвной пустыне мне предстоит серьезный разговор с собой. И у меня перед глазами будет стоять твое лицо. Твое и твоего тюремщика.
Лежавший на спине Товия слабо улыбнулся:
– И что ты скажешь тюремщику?
– Я не собираюсь ему ничего говорить. Я отомщу за тебя. Я… Дай мне кинжал, Товия.
– Ну уж нет. Ты хоть знаешь, как его вонзают в живого человека? Знаешь наши самые уязвимые места?
– Подскажи. Я сумею.
– Нет.
Товия не находил себе места от боли. Наконец он перевернулся на бок и продолжал:
– Если тебе понадобится помощь, иди к зилотам. Расскажи им о сегодняшней ночи. Нас постигла неудача, пусть им повезет больше. Только, пожалуйста, когда я умру, не забирай кинжал. Обойдись без него. Если зилоты увидят тебя с кинжалом, а потом догадаются, что ты не умеешь им пользоваться, они заподозрят неладное. Стань их другом, но не пытайся сам стать зилотом. У тебя слишком мягкое сердце. Ой! Помоги!..
– Чем я могу помочь?
– Больно. В бутылке есть вода. Дай напиться.
Я поднес ему бутылку к губам, и он сделал несколько больших глотков.
Я положил его голову себе на колени.
– Боишься умирать, Товия?
– Какой ты все-таки чудак, Иисус! Вечно задаешь странные вопросы.
И, опять чуть приметно улыбнувшись, все-таки ответил:
– Пожалуй, нет. Но мне обидно, что я мало успел совершить. Мир-то страдает. Мне было отпущено двадцать лет жизни, а я сгодился лишь на то, чтобы попасть в засаду. Скверно, очень скверно. Получается, что я напрасно дышал! Напрасно ел и спал! Напрасно столько разговаривал с людьми, напрасно столько читал! Все было напрасно.
Кровь Товии стекала по моим рукам, заливала собой пустыню, доходила до самого горизонта, распространялась по небосводу.
– Дай мне что-нибудь с земли! Хочу подержать в руках…
Я нашарил среди сухой травы стебель, цветок. Подкопавшись, вырыл его из песка с корнем.
Товия взял растение обеими руками и долго разглядывал при свете звезд.
– Замечательный цветок, – наконец сказал он. – Знаешь, как он называется?
– Нет. Я его не раз видел, но…
– Это арника, баранья трава. Она растет повсюду, а названия ее никто не знает. Зимой, когда в горах делается совсем пусто, ее желтый венчик… бросается в глаза издалека… Воды, дай воды!
Вода кончилась.
– Чем я еще могу тебе помочь, Товия?
– Помолись за меня.
– Так ты верующий?
Можно подумать, его ответ имел теперь какое-то значение.
Впрочем, ответа я не дождался.
* * *
Когда умерла та часть меня, что была Товией, я поспешил через равнину обратно в горы, в монастырь, взглянуть на другую мою часть, ту, что была предателем. На берегу мне встретился косоглазый. Ему было худо. Он притащился к морю со своим злым духом. И дух этот поверг монаха на землю. Он рухнул передо мной, изо рта у него текла слюна, свирепы были объятия Мастемы.
Какая, однако, простая у косого жизнь! Плохая или хорошая. Тяжкая или свободная от ответственности. День и ночь даровал ему Мастема. Наземь его опрокидывал Мастема. Мастема распоряжался им и обходился, как с грудой безжизненной материи. Передо мной лежала трясущаяся масса, которая дергала ногами и размахивала во все стороны руками. Это даже не распугало крабью мелюзгу, а уж мух налетело видимо-невидимо, особенно когда я разжал ему зубы, чтоб он не задохнулся от собственного языка.
– Не ходи в обитель, Иисус, – проговорил косоглазый, когда приступ кончился. – Там тебя ждут. У ворот стоят римляне.
– Но почему?
– Ты дружил с Товией. А он ночью погиб в засаде. Кто-то видел вас вместе.
– Кто?
– Иоханан. Вчера вечером он говорил с лазутчиком из римского лагеря. Я сам слышал.
Я уже догадался, кто это был. Теперь мне нужно было посмотреть ему в лицо.
– А ты тоже был другом Товии?
Косоглазый кивнул. Приступ измотал монаха, но взгляд его был ясен и разумен.
– Если б я знал, что ты замешан… – сказал он.
– Я сам толком не знал. Хотя мы с Товией действительно дружили.
– Гм… Оказаться замешанным – дело нехитрое. Ты и сам не замечаешь, когда это происходит… Иди-ка лучше берегом. Обогни монастырь и шагай дальше вдоль моря. Сгинь отсюда… У римлян кругом шпионы. Они будут мстить. Впереди трудные времена.
Но мне обязательно надо было заглянуть в лицо Иоханану. Я спросил у косого, где он может обретаться, не в римском ли лагере.
– Вот уж нет, туда он пойти не отважится. Предатель не иначе как корпит над рукописями.
И тут я увидел лицо Иоханана. Оно заслонило собой всю долину: гладкое, как поверхность озера в безветренную погоду, с холодными глазками – лодками на этом озере. Я увидел его тонкие губы, вкрадчивую улыбку. Увидел его руки на подоконнике: слабые тонкие пальцы барабанили по горам и лугам. Увидел то, что видел он: копошившихся в поле людей, согбенные спины, капли пота, блестевшие по всей долине. Я увидел человеков в поте лица их, такими, какими они виделись Иоханану. И увидел, что он боится встретиться с ними взглядом.
Ему было семнадцать, и он был предателем. Мне тоже было семнадцать, и я был предан. Под одним солнцем, в одних горах, среди одних песков.
Кто ему что посулил? В какое царство он чаял войти? Куда заведут его одиночество и ненависть?
Монах приподнялся и сел.
– Иоанн перед уходом просил за тобой приглядеть. А я, вишь, не справился. Дурной я человек, дурной…
– Ты мне очень помог, старик. Чего же боле?
Мне было неприятно слышать про Иоанна.
– Иоанн сказал, ты сам знаешь, что творишь. Он сказал, тебя кто-то ведет, и ведет правильно. А еще он сказал…
– Да что ты талдычишь про этого Иоанна?! – вскричал я.
Старик умолк. Но я продолжал слышать его внутри себя. На меня опять снизошло озарение, позволявшее проникать в суть вещей, которую я пока не умел выразить словами. Может быть, потому, что во мне скрывалось слишком много слов.
Совсем недавно я был мальчишкой, гордившимся своей невинностью. Теперь с правой стороны наметилось темное пятно – там поселилось насилие, которое терзало меня, пытаясь всеми правдами и неправдами проникнуть на левую сторону, захватить мои мысли…
– Тебя очень мучит бес? – не удержался от вопроса я.
И тут же вспыхнул. Но сказанного не воротишь.
Похоже было, что, крича, я сам взывал о помощи, об избавлении от мук.
Мне хотелось понять, открыта для меня одна дверь или закрыта.
Я не мог уйти просто так, а потому дождался, когда старик обратит ко мне свой косой взгляд и кивнет.
«Я должен это сделать, непременно должен», – подумал я.
И дрожащей рукой осенил монаха крестным знамением.
Потом, сглотнув, сделал шаг назад.
– Изыди, Мастема!
И воздел над стариком окровавленные руки.
– Изыди, сатана! – повторил я.
И… Я не мог провалиться сквозь землю. Не мог взлететь в воздух, отринув свое истерзанное тело.
Понятное дело, ничего не произошло. Совсем ничего. Старик еще долго сидел тихо, приготовившись к чуду. Потом стал скрести руками по песку. Сначала спокойно, неторопливо, затем все более взволнованно. Наконец он откинулся назад (я стоял на прежнем месте) и упал на камень, но упал не свободный от бремени, а непонимающий, и замотал головой, и потянулся рукой к затылку… Я отвернулся и пустился бежать.
* * *
Ночевал я среди мусорных куч. Я не собирался спать там, просто наступившая ночь была темная, беззвездная. Вокруг нестерпимо воняло разлагающимися отбросами, я слышал, как шебаршатся крысы, из пустыни доносился вой шакалов.
И все-таки я спал, хотя сны мне снились страшные. Я видел сон про корабль, который шел в Индию. Я служил на корабле писцом.
Мы везли арестантов.
Они были в трюме, среди крыс, в кромешной тьме. Отпетые мошенники и воры, сказали мне, когда я в белых одеждах сидел на палубе, наблюдая за богатыми искателями приключений, ехавшими на окраину империи, дабы расширить свое дело и приобрести еще большее влияние.
Я подумал: надо познакомиться с жизнью злодеев. Тех, кого не соблазнили Иоанновы идеалы.
Я спустился к Сынам Тьмы со стражником. Вонь там стояла несусветная. Я пробирался вперед, нащупывая путь рукой, хотя мой сопровождающий вовсе не советовал мне туда идти. Возможно, он согласился лишь потому, что решил: я намерен покуражиться над ними, как куражились при отплытии купцы, как куражились лучники, когда на горизонте не было пиратов и можно было, накачавшись винища, разгуливать по всему кораблю, мочиться и отправлять прочую нужду прямо в трюм.
Швырнув узникам несколько кусков сухого хлеба, конвоир сказал:
– Ну вот, покормили. Теперь лезем обратно на свежий воздух.
– Я хочу побыть тут.
– Это будет неразумно. Пошли.
Я чуть не задыхался в трюме, но попросил конвоира выпустить меня оттуда позже.
– Так и знай, писец, тебя прибьют.
Я еще не освоился в полутьме. Наконец я разглядел узников.
– Да они скованы.
– И все-таки с ними надо держать ухо востро. Сильные бугаи.
– Приходи за мной через некоторое время.
Пожав плечами, караульный ушел. Люк наверху захлопнулся, я остался во мраке со звоном цепей: это узники накинулись на сухари.
Но вот звон прекратился. Арестанты наверняка заметили, что я не ушел. Они были привычны к темноте. Они видели меня, а я их не видел. Я слышал их дыхание и знал, что их должно быть четверо, краем глаза углядел это, когда их перед отплытием взводили по трапу. Научите меня, научите жить без идеалов, молил я про себя.
Тишина становилась невыносимой. Кандалы даже не позвякивали: видимо, узники затаили дыхание.
Они точно меня видят, подумал я. Меня выдает белое платье.
Не видеть самому было ужасно. Я протянул в их сторону раскрытую ладонь, показывая, что она пуста, что в ней ничего нет, но арестантов я по-прежнему не видел. Зачем я туда напросился? Мне совершенно нечего там делать, а их, скорее всего, переполошил.
И тут распахнулся верхний люк.
– Выходи! – закричал конвоир.
– Хорошо, – сказал я и вылез.
– Доволен? – ухмыльнулся он.
Я весь провонял трюмом и поспешил сменить платье; вымыв руки, я опять сел под тент. Купец угостил меня вином.
– Ты как-то странно выглядишь, Иисус.
– Я спускался к арестантам.
– Чем бы дитя ни тешилось!
– Но я их так и не увидел. Там было слишком темно.
В ту ночь мне не спалось. Я сидел у борта и любовался звездами, вслушивался в кипение волн. Лучники, сомлев от вина, заснули, со всех сторон меня окружали лишь звуки природы, громкие и чистые. Мне нужно посмотреть на арестантов! – думал я. Вглядеться в их лица! Я хочу опять в трюм, хочу услышать их голоса.
Наутро я ждал возле трюмного люка: сидел, скрестив ноги и закрыв глаза – чтобы скорее привыкнуть к темноте. Когда появился конвоир, я взял у него сухари.
– Дай, я справлюсь сам.
– Невелика премудрость.
Я хотел подойти к ним как можно ближе, а потому сразу двинулся вперед. Я хотел по-настоящему приблизиться к ним, а потому не бросал хлеб, а протягивал к их губам. Я хотел заглянуть им в глаза, а потому опустился на колени, и моя одежда сразу пропиталась мочой и испражнениями.
Тут я увидел, какими короткими цепями скованы узники: такими короткими, что они не всегда могли дотянуться и поднять хлеб с пола. Я покормил их из рук.
– Чего тебе надо? – вдруг спросил один.
– Почему вас везут в трюме? Что вы такого сделали?
– Спроси об этом наверху.
На следующий день я опять пошел туда. Теперь я взял с собой воды… Я хотел разглядеть их лица – и отмыл с них грязь, я хотел услышать их голоса – и дал им напиться.
– Ну что, спросил наверху?
– Нет.
– Кто ты такой?
– Писарь у купца, которому принадлежит судно. А ты?
– Уж и не знаю. Раньше у меня были семья и дети…
Так я завел знакомство с арестантами. И не проходило дня, чтобы я не спускался к ним, потому что хотел послушать их рассказы о том, о чем догадался сам: истинными ворами и мошенниками были люди, чей хлеб я ел и чье вино пил. Купец оказался насильником, в трюме находились его жертвы.
Они ждали меня. Я помогал им смыть грязь, я кормил их, и они тоже знакомились со мной.
А между посещениями трюма я сидел за одним столом с купцом и слушал его истории.
– Представь себе, за прошлый рейс я выручил столько, что хватило построить дом в Александрии. Помнишь мой дом, с красными воротами? Правда, замечательный?
Дом и впрямь был замечательный. Там был сад с фонтанами, там благоухали орхидеи, привезенные купцом из Индии, там царили тишина и покой.
– Будешь умником, тоже внакладе не останешься. При твоих-то способностях…
Но однажды, когда над аравийским побережьем всходило солнце, мы подошли к торчавшему из моря скалистому черному островку. Он был плоский и совершенно голый, без единой травинки, – каменная глыба метров сто в длину и столько же в ширину. У подножия глыбы свирепо бились волны. Когда мы приблизились, лучники открыли трюм и вывели арестантов на палубу. Под угрозой оружия их подогнали к борту.
– Тебе предстоит забавное зрелище, – сказал купец.
Корабль стоял у самой скалы, и одного узника заставили перелезть через планширь, но его освобожденные от цепей ноги настолько ослабли, что он споткнулся и упал между бортом и утесом. Когда судно приподняло волной, мы раздавили несчастного. Сначала из воды еще торчали руки с растопыренными пальцами, которые он тянул к солнцу, однако в следующий миг что-то дернуло тело вниз, мелькнула барракуда, и вода стала краснеть.
– Жаль, – проговорил купец, обнимая меня за плечи.
– Что ты задумал? – спросил я и обернулся к троим оставшимся узникам. Их уже тоже расковали, и теперь они неуклюже ступали по палубе, с мольбой протягивая ко мне руки.
– Сейчас увидишь, – сказал купец… и поворотил мою голову к черной скале.
И я увидел, что она кишмя кишит змеями. Они торопливо сползались со всех сторон, их гладкая кожа отливала на свету то черным, то синим, то зеленым. Змей было не счесть – даже не десятки, а сотни. Арестанты тоже заметили их и, упав передо мной на колени, истошно завопили:
– Спаси нас, спаси! Ты же…
Вокруг стояли красивые девушки в белых, развевающихся на ветру туниках. Они поспешили к борту, только бы не пропустить интересное зрелище. Что я мог поделать?
– Неужто обязательно посылать их на смерть? – спросил я. И содрогнулся, потрясенный безволием своего голоса.
– Для работы они больше не годятся, – пожал плечами купец.
– Но ведь они ни в чем не виноваты. Это просто…
И умолк.
– Мне кажется, ты повредился в уме от своих вылазок в трюм. И подумай: я обещал лучникам сие маленькое удовольствие. Они обожают этот остров. Негоже лишать их такой радости. Они ведь могут и рассердиться. Надо принести кого-то в жертву. А ты едва ли согласишься пожертвовать собой. Не согласишься, верно?
Все мы мечтаем быть безгрешными. Мечтаем забыть о своем «я». Мечтаем отречься от себя ради других.
Мое минутное замешательство положило конец крикам: возможно, сначала арестанты молчали в изумлении, затем – с надеждой, а когда я покачал головой – от ненависти.
Потому что я таки внушил им надежду. Потому что они стали увереннее смотреть в будущее. Зато как же они возненавидели меня!
И по праву. Во мраке их существования я был светлым образом, укреплявшим их силы. Теперь силы оказались им ни к чему… Но ведь эти арестанты никоим образом не близки тебе. Они что, твои братья, твоя родня, твои соплеменники?
Нет, нет и нет. У меня вообще нет на земле близких. И отдавать свою жизнь мне не за кого. Таких людей нет.
– Что ты сказал? – спросил купец.
– Я?
– Мне показалось…
Неужели я говорил с ним? Я не мог вспомнить его голос. Неужели он в самом деле спросил меня, не хочу ли я пожертвовать собой? Я посмотрел на купца: он лузгал семечки и выплевывал шелуху в море. Неужели эти люди умоляли меня спасти их?
Я и сам не знал. Между тем их заставили перелезть через поручни и вытолкали на скалу, они в обнимку стояли с краю, и к ним уже стали подползать змеи… внизу вспенивали воду акулы и барракуды. Арестанты больше не кричали, теперь слышался лишь грохот разгулявшихся волн, которые подбрасывали корабль все выше и выше, и кормчий уже повернул штурвал, и мы стали отходить от острова, и тут змеи ужалили первого и завертелись, закружились на пятачке у их ног, норовя достать каждого, и один арестант откинулся назад и полетел в море – и сгинул там… Я не мог долее смотреть и рухнул на палубу, судно взлетело на гребень волны, и мы на всех парусах понеслись по безмолвному морю, а вокруг стала собираться толпа, жадная, любопытная толпа, дивившаяся на мой смех, который все громче и громче раскатывался в палубной тиши, на знойном попутном ветру… Я смеялся. А купец крепко держал мою голову, пытаясь сквозь сжатые губы влить в меня прохладное вино, прохладное белое вино, прохладное белое…
– Сам видишь, Иоанн. Придется тебе поискать другого Мессию.
Наконец-то я стал человеком. Наконец-то почувствовал, как это тяжко.
* * *
Ночные видения не оставили меня в покое и наутро. Безгрешная жизнь! Обязанность жить чистой, незапятнанной жизнью. Тогда как всякий день несет с собой прегрешения, без которых невозможно расти и развиваться! Да велика ль беда? – спросил я себя, проснувшись. Это Иоанн научил меня вечно думать о безгрешии. Это из-за него я поверил в свое предназначение, в свою роль чистого и незапятнанного.
Теперь с этим было кончено.
Поднявшись, я вспомнил о Товии, и мне захотелось стать достойным его борьбы, достойным всех, кто взял на себя ответственность за нашу страну и погиб в засаде. Я встану на сторону зилотов. Буду кочевать с ними из пещеры в пещеру, из пустыни в пустыню – и сражаться, сражаться везде, где только потребуется.
Я чуял внутреннюю свободу.
У Иоанна нет больше власти надо мной. Я потерпел неудачу, и благодаря этому идея мессианства умерла.
Не о том ли я просил и молил?
Чтобы мне позволили стать человеком среди человеков. Позволили говорить их языком, жить без помех в виде обязательств, знамений, образов. Вот почему я хотел еще раз встретиться с Иохананом: надо было запечатлеть в себе реальность зла.
Я сделал крюк около обители и зашел к ней сзади, со стороны скал. И почти сразу заметил у оконца Иоханана. Лицо его скрывалось в тени. Однако на повелителя мира он похож не был.
Я заухал, изображая сову, случайно вылетевшую из укрытия средь бела дня. Ух, ух, ух! Иоханан поднял голову… и вздрогнул. Не ожидал увидеть меня живым? Кто знает? Я знаю только одно: что вытянул руку и указал на него – словно мой палец был стрелой со смертельным ядом. Я отомщу за смерть Товии, сказал мой палец. И Иоханан расслышал эти слова.
Он встал… неуверенно, озираясь по сторонам, точно ища защиты. У ворот было полно легионеров, так что он мог позвать их с собой, чтобы схватить меня. Мог шепнуть: обождите. Как он поступил, не знаю. Во всяком случае, он вышел из монастыря и полез на скалы.
У Иоханана не было привычки лазить по горам. Он не умел подстраиваться под природу, сливаясь с ней в единое целое. Каждым своим шагом он подчеркивал, что не имеет с ней ничего общего. Сначала он даже демонстративно сцепил руки за спиной, но тропа делалась все круче, и ему приходилось то опираться на камень, то подтягиваться за куст.
Я стоял намного выше его. На моей скале был уступ, до которого в конце концов добрался и Иоханан. У него за спиной зияла пропасть – открытая с запада котловина, служившая монастырю свалкой, долиной мертвых. Там тлела зола, в которую и должен был угодить Иоханан.
Его тело никто не найдет. Оно будет погребено в тлеющей куче отбросов. Ночью же он станет добычей сначала шакалов, потом грифов.
Иоханан остановился и увидел то, что видел я.
– У тебя вся одежда в крови! – сказал он.
– И ты знаешь отчего?
– Нет.
Взгляд его рыскал по земле. Иоханан прикидывал свои шансы.
– Врешь. Я обещал Товии отомстить… не столько за него, сколько за всех погибших.
– А что я такого сделал?
– Ты предатель.
– Нет-нет.
И он, массивный и жирный, плюхнулся на колени.
– Клянусь!
– Кем ты можешь клясться?
Совсем недавно он причислял себя к сильным мира сего и был уверен, что неплохо устроился в жизни. Теперь он оказался между жизнью и смертью, заглянул во мрак, познал, что значит питать ложные надежды.
То же самое, однако, можно было сказать и про меня! Я бывал в сходном положении, поскольку сплошь и рядом искал опору не там, где следует. Случалось, и я подвергал себя опасности, разве нет?
Впрочем, теперь я выступал не от своего имени, а от имени Товии. Он просил меня…








