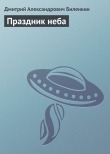Текст книги "Сияние"
Автор книги: Ёран Тунстрём
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Президент был информирован и дал согласие.
По просьбе начальника протокольного отдела он послал приглашение французскому послу. «Семейный прием в Хёвди в присутствии президента Исландии и его супруги».
– Жаль, нет у нас настоящей наградной системы, – сказал президент, едва войдя, – а то можно бы понавешать друг на друга побрякушек или титулы раздать. Вид у нас у всех – будто прямиком со скотного двора явились.
Кстати, сам он прибыл именно оттуда. Между ним и его женой Йенсиной существовала негласная договоренность хотя бы раз в две недели проводить один день дома, на ферме, доить коров, чистить хлев, ремонтировать и убирать.
Ради Исландии он не стал возражать тем, кто лучше знал могущество одежды, и облачился в темный костюм, галстук и рубашку. Но спустя много лет сказал мне, что в тот день, когда Йенсина сделалась первой леди страны и поневоле отправилась к портнихе, она горько рыдала: «Неужто я никогда больше не надену фартук?!» А когда портниха сняла с нее платье, она почувствовала себя так, будто ее лишили девственности, – сразу стали заметны седые пряди и щербатый зуб наверху. Ее вертели и так, и этак, набрасывали на плечи разные ткани, а изредка велели посмотреться в зеркало. Всю ночь Йенсина плакала: «Ну зачем ты стал президентом? Разве нам было плохо? А туда я не гожусь». Сперва я посмеивался над тем, как плохо она владеет языком, но в конце концов не мог не согласиться: быть президентом – значит прописаться «там». Н-да, она положила голову на мое плечо и смотрела на меня, как ребенок смотрит на взрослого. «Я просто не узнаю тебя, когда ты там. – И, помолчав: – Да и себя, поди, скоро перестану узнавать». Вот тогда-то в темноте спальни впервые вспыхнули на стене слова: «Власть уродует». Уверяю тебя, Пьетюр, до того дня я наивно полагал, что как политик, а теперь как первое лицо в государстве – независимо от моих реальных властных полномочий – я еще и первый слуга государства. Что политика есть труд служения, независимо от правизны или левизны идеологической позиции.
Но вернемся к детскому празднику.
Как самозваный детский министр без портфеля я был в белой рубашке и при бабочке; скобки на зубах и приглаженные с помощью воды волосы довершали маскарад; другим мальчикам я велел одеться так же. И по этому поводу нахалюга Бенедихт, отпрыск министра юстиции, наговорил кучу гадостей.
Узнает ли меня посол?
Маловероятно. В тот достопамятный час в саду он стоял к нам боком, недвижно глядя во тьму и откровенно презирая нас, туземцев.
Начальник протокольного отдела отрепетировал со мной определенные церемонии. Когда посол пожмет мне руку, я, представитель детворы должен непроизвольно воскликнуть: «Comment allez-vous, Monsieur l’Ambassadeur?» [37]37
Как вы поживаете, господин посол? ( фр.)
[Закрыть]
Я так и сделал, после чего распахнул дверь и широко улыбнулся, демонстрируя ему нержавеющую сталь скобок.
Нет ничего более уродливого, чем скобки на зубах у вполне симпатичного молодого человека.
Или у девочки. Хотя, пожалуй, тут есть и кое-что положительное: обладатель скобок получает передышку, наподобие карантина, чтобы затем раскрыться во всей красе. Носить скобки – значит быть на стадии куколки, на самом пороге жизни. Лишь бы угри не высыпали, ведь это сущий кошмар. Посол брезгливо отвернулся от меня. Однако ж я был не единственный, кто, так сказать, вооружился до зубов. Не спрашиваясь у Оулавюра, я проследил, чтобы поголовно все дети обзавелись этим оружием.
Рядом с послом семенила малютка Жюльетта, которая не преминула показать мне язык, в отместку я зажал рукой нос и тихонько сказал:
– От тебя рыбой воняет.
Подобно тому как Клемансо смутился, когда генерал Фош попытался вручить ему собственный его бюст из имитации терракоты, так смутился и наш президент, когда посол, откашливаясь и извергая потоки слов, передал ему бюст французского коллеги. А бюсты политиков уродуют общественные помещения ничуть не меньше, чем зубные скобки. Вдобавок, не в пример скобкам, они не приносят совершенно никакой пользы.
В соответствии с протоколом президенту надлежало подмигнуть мне, чтобы я «с восторженным возгласом» на чистейшем французском языке восхитился драгоценностями супруги посла, но теперь он вместо этого был вынужден второпях импровизировать благодарственную речь за четвертый бюст в своей коллекции. Оулавюр стоял с ним рядом.
– Неужели мне придется заказать собственные бюсты и отдариваться ими? – негромко ужаснулся президент.
– Un travail d’art excellent [38]38
Изумительная работа ( фр.).
[Закрыть]. У нас в Исландии тоже есть скульпторы. Вы, наверное, побывали в музее Эйнара Йоунссона? [39]39
Йоунссон Эйнар (1875–1954) – исландский скульптор.
[Закрыть]– вставил Оулавюр.
– Увы, нет. Но я наслышан о нем, – соврал француз. – Как бишь его имя?
– Самуэль Йоунссон [40]40
Оулавюр нарочито произносит на исландский лад имя знаменитого английского просветителя Сэмюэла Джонсона (1709–1784), подчеркивая невежество француза.
[Закрыть].
– Совершенно верно. Весьма крупный скульптор.
– Он был большой поклонник Кришнамурти [41]41
Кришнамурти Джидду (1895/1897—1986) – индийский религиозный мыслитель и поэт, в 1910–1929 гг. был близок к теософам.
[Закрыть]и Безант [42]42
Безант Анни (1847–1933) – англичанка, участница индийского национально-освободительного движения; теософка.
[Закрыть], и я угадываю те же источники вдохновения в подаренной вами скульптуре, то же стремление к диалогу меж духовным и… астральным, без чего мы, люди, просто плоть и кровь. Carne et sangre.
– Кончай городить чепуху, Оулавюр, – оборвал президент. – Вот уж не знал, что ты так увлекаешься теософией.
– Да я и не увлекаюсь, наоборот. Однако, Monsieur, разрешите представить вам мою niece [43]43
Племянницу ( фр.).
[Закрыть]Леонору, – сказал Оулавюр, вытаскивая из-за печи девочку. Единственным козырем Леоноры были косы – длинные, до колен.
– J’éspère que vous aimez bien notre pays? [44]44
Надеюсь, вам нравится наша страна? ( фр.)
[Закрыть]
– Ah, Mademoiselle, vous aussi parlez français? [45]45
Ах, мадемуазель, вы тоже говорите по-французски? ( фр.)
[Закрыть]
Вместо ответа Леонора только застенчиво улыбнулась. Других реплик у нас в запасе не было, не успели отрепетировать.
Подали чай и тартинки, в том числе с креветками и майонезом, чтобы дать Оулавюру возможность развлечь почетных гостей рассказом об инциденте в посольстве одной из центральноафриканских республик, когда якобы только дипломатический иммунитет спас его от расправы.
– Я не хочу сказать ничего плохого об африканской национальной одежде, – начал Оулавюр, – но рукава у нее непомерно широкие. Я стоял и разговаривал со швейцарским атташе, который упорно не выпускал мою протянутую руку, а в другой руке я умудрялся держать тарелку и рюмку хереса. И вот к нам подошел один из этих сингалезских поэтов, которые пишут такие длиннущие строки, как бишь его звали, и затеял со мной разговор про Арне Сакнуссема, мол, насколько он реальное лицо. Поэт искренне обрадовался, когда я сообщил, что летний домик моей родни расположен неподалеку от того места, где, как писал Жюль Верн, можно спуститься к центру Земли, и обнял он меня с б о льшим пылом, нежели мог стерпеть мой майонезный бутерброд, каковой стартовал с тарелки прямым курсом к огромному портрету Бокассы над диваном у нас за спиной, угодил ему в глаз и потек, будто слеза – майонез наверняка был легкий, – по его морщинистой щеке; в салоне воцарилась гробовая тишина, посол рухнул на ковер и несколько раз стукнул лбом об пол, бормоча уверения в своей преданности.
– Осталось пятно? – полюбопытствовал французский посол.
Затем Оулавюр решил, что настало время нам, детям, спеть песню-другую – все равно что, лишь бы посол почувствовал себя как дома. Министр юстиции разучил с нами «Sur le pont d’Avignon» [46]46
«В Авиньоне на мосту» ( фр.).
[Закрыть]вкупе с исландским его соответствием «Илуалило», и мы, к всеобщему удовольствию, пропели то и другое. То есть посол и его супруга неотрывно смотрели в окно, а малютка Жюльетта при каждом удобном случае показывала мне язык.
Все словно бы думали о своем: наш президент, не терпевший дантистов, ковырял в больном зубе; министр иностранных дел мечтал забраться под свое мексиканское одеяло, с ужастиком и с женой, которая сама по себе тот еще ужастик, и слушать, как по крыше барабанит дождь, – таково было высшее счастье, вспомнившееся сейчас нашему министру.
Но не забудем о нас, детях.
Нам теперь нужно было шагнуть вспять. То бишь попытаться вспомнить, как мы вели себя несколько лет назад, и оживить эти воспоминания. Иначе говоря, нам предстояло играть. Вообще-то небольшое удовольствие – играть перед абсолютно равнодушным семейством французского посла. Дождь за окнами казался ему куда полезнее, чем всякие там прятки да жмурки, и, когда я принес в комнату футбольный мяч, он даже бровью не повел, пока я не устроил дриблинг прямо перед ним и его остроносой дочкой Жюльеттой.
Он подвинулся в сторону, ища взглядом кого-нибудь из сановников взрослой компании, но взрослые смотрели на мои ноги и тоже как бы несколько окаменели, а я подумал, что Оулавюр, который ненароком отлучился в туалет, попросту их не предупредил.
Позвольте добавить только одно: теперь, в зрелом возрасте, я могу отличить минскую вазу от подделки, но я в жизни не слыхал, чтобы такое умение требовалось от двенадцатилетнего мальчишки. И повторяю еще раз: Оулавюр кивнул, поддержав мою идею насчет замены подлинных ваз. Однако Оулавюр не имел своих детей и, наверно, толком меня не слушал. Кстати, бил вазы не я один. Две штуки расколотил Бенедихт.
~~~
Неделю спустя французского посла объявили персоной нон грата и выслали из страны, в двадцать четыре часа. День выдался ветреный, клубы тумана наплывали с юго-запада, когда служебный автомобиль выехал из ворот. Надо полагать, он сидел за дымчатыми стеклами, сжимая в руках мой мяч. По какой-то необъяснимой причине отец узнал час отъезда и сообщил мне, хотя было это во время уроков. Но начальник протокольного отдела тоже присутствовал при сем и мертвой хваткой держал нас обоих. Кучка полицейских и наш ПОЭТ довершали эскорт.
– Этот отъезд не сулит ничего хорошего, – сказал Оулавюр. – Вы поставили всю нацию в прескверное положенние. Официально обвинить посла в краже мы возможности не имеем, даром что он оказался круглым дураком. О чем я и молил всех богов. Интересно вот только, какой монетой отплатит Франция.
Автомобиль подпрыгнул, съезжая с тротуара, и через заднее стекло я увидел Жюльетту: она показывала мне язык и, приставив большие пальцы к ушам, махала руками. Прижатый к стеклу, мерзкий красный язык увеличился вдвое.
Охранник закрыл ворота, автомобиль покатил в сторону Хрингбрёйт и исчез из виду.
Отец бессильно воскликнул:
– Я напишу письмо французскому президенту и добьюсь, чтобы этот человек предстал перед парижским судом по гражданским делам!
– Халлдоур, дорогой, ты уже и так зашел слишком далеко. Кончай, а? Футбольный мяч не настолько важная штука…
Я вообще не знал, что и думать. В этот мяч отец вдохнул свою душу, в нем было мое будущее. «Ювентус», «Рома», «Арсенал» – только выбирай.
Но, как уже сказано, история эта затянулась и всем надоела. В школе ко мне стали относиться иначе, посмеивались за спиной. И отец ожесточился: должно быть, внутрь мяча перешла изрядная толика его тепла и заботливости; мне было больно день за днем видеть его непримиримость.
Какой монетой отплатила Франция, мы скоро узнали: наш посол в Париже вернулся домой. Бедняга пробыл во Франции недолго, но ему очень там понравилось, дети учились во французской школе, а здешние доброжелатели не преминули известить его, кто затеял весь этот конфликт.
~~~
В результате – «ради моего же блага», как звучала коварная формулировка, – отцы города предали анафеме и меня. Сразу по окончании учебного года мне предстояло отправиться в ссылку. Подальше в глубь страны. Где же находилось исландское Ex Ponto? [47]47
Здесь: место ссылки; намек на римского поэта Овидия, сосланного в далекие черноморские Томы, где он написал свои знаменитые «Письма с Понта» («Epistulae ex Ponto»).
[Закрыть]
Дядя Торстейдн, возвратившийся то ли из Куала-Лумпура, то ли из Джибути, загружал свой большой «лендровер» на высокой подвеске.
– Могу взять парня с собой. Я задумал в этом году объехать церкви между Брейдавиком и Сайбоулем, и мне нужен помощник, чтобы качать мехи. Потом могу оставить его у наших двоюродных братьев, им наверняка пригодятся лишние руки на ферме.
Дело в том, что дядя Торстейдн, находясь в Африке и в Азии, сражаясь с тропическими жуками, цикадами и прочей нечистью, мечтал опробовать каждый орга́н и фисгармонию, какие есть в Исландии. Ежегодно он осматривал десятков пять, проверял, выставлял оценку и терзал отца рассказами об их состоянии и качестве.
– Халлдоур, для чего человек предназначен в жизни? Одни пьют чай и едят пирожные, другие тренируют тело, пока в гроб не лягут, третьи читают романы, плохие либо хорошие. И на смертном одре вспоминают, стало быть, пирожные, тренировки да романы. Так почему не орга́ны и не фисгармонии? У меня хорошая музыкальная память – лежу, ворочаюсь, а в голове струятся звуки, слышанные за всю мою жизнь, – что же в этом плохого, а?
– А сам ты музыку не сочиняешь?
– Я толкователь, интерпретатор. Мне легче восхищаться, чем критиковать, может, это слабость такая в моем характере. Моя любовь к искусству, если угодно, коренится в ощущении, что я способен близко-близко подобраться к помыслам Великих. Иной раз, хочешь верь, хочешь нет, я чувствую себя кошкой, которая совершенно беззвучно ступает по клавишам, чтобы не шуметь вместе со мной.
– Ты? Кошка?! – фыркнул отец.
– Да, а что? Натура интерпретатора – смирение. Тут как в любви: каждая ласка – ради нее, ради той, что эту ласку приемлет, это она владеет своим телом и должна ощущать его как совершенство.
– Какое отношение Бах имеет к твоим любовницам?
Торстейдн пренебрежительно взглянул на отца:
– А ты сам никогда не сползаешь в ассоциации?
Наконец учебный год кончился, и на следующий же день Торстейдн заехал за мной. Настроение у меня было паршивое, о кузенах я знать ничего не знал, о дядиных разглагольствованиях насчет орга́нов думал без удовольствия, родного отца просто не узнавал.
«Лендровер» Торстейдн припарковал на Скальдастигюр. Вошел в дом, обозрел мой багаж, но, по-моему, вряд ли видел его. В большой комнате извлек из папиросной бумаги два яблока, протянул нам:
– Ешьте. Лучшие яблоки на свете.
Мы оба дрожали, но откусили и стали жевать.
– Н-да-а.
– А что, совсем недурственно, – сказал отец.
Этого оказалось достаточно, чтобы Торстейдн разразился тирадой, которая явно была ему необходима для хорошего самочувствия:
– Недурственно! Ничего вы не смыслите в яблоках. «Филиппа» вызревает зимой, но хранится до весны, яблок лучше этих просто не бывает.
Помрачнев, он обиженно сел в кресло, вытянул длинные ноги, меж тем как я складывал в рюкзак кой-какие книги.
– Я простой исландец, Торстейдн, – сказал отец. – Яблоки, конечно, необычные, ничего другого я сказать не могу. Ты всегда рассуждаешь так, будто в мире существует некая абсолютная иерархия. Будто, к примеру, Бетховен более велик, чем Моцарт.
– Так оно и есть.
– Ладно, ладно, Торстейдн, Бетховен более велик, чем Моцарт, раз тебе так хочется. Кофе выпьешь на дорожку?
– Ты сам не знаешь, о чем говоришь. Ведь не имеешь в виду ни то ни другое. Завтра, чего доброго, возьмешь да и скажешь, что Шуберт более велик, чем Бах. Шуберт!
– Я его имя не называл.
– Но хотел назвать. Я тебе вот что скажу, Халлдоур: Шуберт был человеком одной идеи. Одной! Полифонией он так и не овладел. Вкрадчивые мелодии… салонный музыкант… богемный…
– Вот как. Но ведь Шуман писал…
– Шуман был душевнобольной. Этот кофе я пить не могу, в нем нет крепости.
– Пьетюр, ступай свари дяде Торстейдну кофе покрепче.
– Я не хочу кофе.
– Пьетюр, делай, как я сказал.
– Я же говорю: не надо мне кофе. Удивительно, ты никогда не слушаешь, что я говорю. Шуберт! Да-да, не о таком возвращении домой человек мечтает. Ни тебе радости, ни уважения. Шуберт! Всё, пора ехать, парень.
– Меня зовут Пьетюр.
– Да-да, Пьетюр, – сказал он, будто это имя принадлежало совершенно постороннему человеку.
~~~
Я ненавижу фуги. На них требуется чересчур много воздуха, а толку чуть. Да и мехи я качал далеко не виртуозу, хотя по его разговорам можно было подумать, будто он именно таков:
– Я вот что тебе скажу, парень: когда люди начали жаждать в музыке чувства и страсти, идеалом звучания стал оркестр, а орган, этот король музыкальных инструментов, с его целомудренным, беспристрастным звуком, отошел в тень. Но он вернется, верно, парень?
– Меня зовут Пьетюр.
Нетопленые придорожные часовенки. Запинающийся, возбужденный, занудливый голос:
– Эпоха величия органа. Орган, за который мы ратуем, необходимо путем перестройки звучания освободить от оков оркестровых звуков. Он должен стать инструментом, ценность которого заключена вовсе не в массовом скоплении голосов.
– Да уж.
– Всякому понятно, что никакой мощи не добьешься, если просто добавишь к несчетным оттенкам средней громкости несколько голосов большого напора, а затем попытаешься создать органу мнимое великолепие с помощью звонких наименований вроде «ликующая радость» или «tuba mirabilis» [48]48
Дивная труба ( лат.) – один из органных регистров.
[Закрыть]. Орга́н – он не от мира сего. Он отрешен от человеческого, от субъективных влияний. Бесчувствен, если угодно.
– Ясное дело. Понятно всякому, кто хоть раз бывал на албанской кондитерской фабрике при полном солнечном затмении.
Торстейдн даже ухом не повел. Объехал несколько упавших на дорогу камней, очутился в опасной близости от обрыва к фьорду, но комментировать такое было ему глубоко чуждо.
– Ты, наверное, знаешь, что́ Ламаше писал об эгоцентрической религиозной музыке старшего поколения и о драматургии «Dies irae» [49]49
«День гнева» ( лат.) – одна из частей «Реквиема», католической заупокойной мессы.
[Закрыть]для исполинского оркестра. В «Послании к холерической атональности» он отмечает, что искусством слишком долго пользовались не по назначению, как своеобразным клапаном для выпуска всяческого душевного чада. Вышвырните из церквей все эти резные орга́ны, которые пыжатся, и стонут, и привлекают внимание. Если вы утомлены вещами, чересчур близкими плоти, тогда ступайте к исповеднику или кричите об этом у кромки морского прибоя, но не впутывайте в церковную музыку. – И без всякого перехода: – Твой отец ни капельки не разбирается в орга́нах.
С кем же Торстейдн постоянно ссорился? С отцом, конечно, хотя были и другие персонажи; его челюсти работали без передышки, внутри у него разыгрывался спектакль, причем отнюдь не комедийный. Когда возле Брейдамеркюрсандюр мы вылезли из машины пописать, он продолжал тарахтеть про какого-то Альберта Швейцера, который мечтал вернуться от современного фабричного орга́на, одержимого бесом изобретательства, к орга́ну подлинному, звучному.
И все же в этих краях побывало некое божество и зачаровало их: перед нами, мерцая зеленью недвижимой поверхности, были они – айсберги, ледяные горы. Инсталляция, возникшая за многие тысячелетия. Розовые, холодно-синие, огромные. То похожие на башни, то на людей, то плоские. Чего ждут ледяные горы? Что они делают с тем, кто на них смотрит?
– Ну чем не сказка, Торстейдн?
Он застегнул «молнию» и устремил взгляд вдаль, в сторону ледника Ватнайёкюдль:
– Красиво? А как же, ясное дело, потрясающе.
~~~
Там, далеко на Ватнайёкюдле, стоит Лаура. Высокая – до неба, черные волосы на фоне синевы, золотисто-коричневые оттенки виолончели на снежной белизне. Сейсмологические приборы на леднике. Она – заземленный контакт Вселенной, через нее струится музыка, хотя она стоит подле своего инструмента и всматривается в меня поверх ледяных гор и недвижных вод.
– Ты слышишь их? – говорит она. – Подземные звуки? Земля никогда не молчит.
Я качаю головой.
– Наверно, у тебя не такой слух, как у меня. Это звуки на грани безмолвия, едва внятные шепоты бытия – я пытаюсь сыграть их, они – моя ночная серенада.
– Почему тебе пришлось умереть?
– Потому что я хочу слышать больше. Все больше и больше подземных шепотов.
– Но ты умираешь, уходишь от меня.
– Чтобы ты никогда меня не забыл.
– Ты склонялась надо мной, когда я спал, так, как склонялись другие женщины?
– Да, склонялась.
Торстейдн обрывает наш разговор, из автомобиля. Всегда ужасно больно, когда тебя зовут обратно, в чужую реальность. От его зова Лаура тает, остается только ледник, облако в вышине да безмолвие ледяных гор.
– Ты знал мою маму, Торстейдн?
– Да. – Он поворачивает ключ зажигания и задним ходом выезжает на дорогу. – Я был женат на ней.
– Что ты сказал?
– Всего год. Не будем говорить об этом.
Я смотрел на него во все глаза, но он не обернулся. Заперся изнутри на ключ.
~~~
В понедельник, во второй половине дня, Торстейдн столкнулся с Марелией Аурнадоухтир. Произошло это в Марбакки, у алтаря деревянной церквушки. По понедельникам Марелия всегда появлялась у этого алтаря, ведь она прибирала церковь после воскресного богослужения – не важно, проводилось оно или нет, – меняла букеты (если сезон был подходящий) и выводила винные пятна с сюртука пастора Йоуна.
Забавно представлять себе, что поголовно все твои знакомцы состоят из плоти и крови. Ведь многие из близких друзей представляют собой всего лишь цитату, мимолетную мысль; другие обладают убогим телом, но подобно пчеловодам окружены тысячами летучих, жужжащих мыслей. Пастор Йоун до поры до времени только сюртук в руках Марелии – только сюртук в то судьбоносное мгновение, когда дядя Торстейдн в самом прямом смысле сталкивается с нею.
А столкновение нешуточное. Бампер ударяет ее точно под левое колено; ранка невелика, однако новые нейлоновые чулки, разумеется, порваны. В свете фар дядя Торстейдн, подняв голову от баранки, увидел широко открытый рот с невероятно белыми зубами, и из этого рта в полнейшее безмолвие церкви – мотор заглох – исторгся вопль.
В следующую минуту Христос на кресте капитулирует: радиатор, проломивший алтарь ровно посередине, врезался в подножие распятия и Христос, глядя Торстейдну в глаза, рухнул прямо на ветровое стекло.
В результате Торстейдн будет снова и снова задаваться вопросом, нет ли у наших жизней какого-то изначального предназначения, или есть лишь назначение, создаваемое нами самими.
– Ну почему я, который сотни раз, – (генетическая семейная тяга к преувеличениям!!), – в любую погоду, в глубочайшей депрессии колесил по стране, именно здесь забыл про поворот?
– Туман был, Торстейдн. Самый густой туман в твоей жизни.
– Это верно, но что-то мне воспрепятствовало.
Позднее «что-то» превратится в «посланца темных альвов [50]50
Альвы – в скандинавской мифологии природные духи; различались светлые, добрые альвы и альвы темные, подобно карликам, живущие под землей.
[Закрыть]», а Марелия будет кивать и поддакивать: «Я еще утром, когда проснулась, почувствовала: что-то будет».
Все же, наверно, именно предопределение пожелало, чтобы в густом тумане, где так много всего совершается без нашего ведома, Торстейдн не повернул баранку, а вместо этого продолжал ехать вперед, прямо в открытые двери церкви, по центральному нефу, пока, стало быть, не вломился радиатором в алтарь. А когда до нее, той, что скоро будет моей новой тетушкой, дошло, что она уцелела, рука у нее разжалась, и сюртук пастора Йоуна упал, накрыв Христово седалище.
Торстейдн был отнюдь не бедняк. Это выяснилось, когда пришло время возмещать нанесенный ущерб: он попросту выстроил новую церковь рядом со старой. Он не скупился, судачили на стройке, пожалуй, даже слишком размахнулся, не иначе как от сотрясения мозга. Будто в калейдоскопе: легонько встряхнешь, и все меняется – узоры, краски, формы. Одни вдруг начинают говорить по-персидски, другие открывают художественные галереи. И вот теперь, когда Торстейдн, не задумываясь о состоянии собственного здоровья, выбрался из машины и увидел легко пострадавшую женщину рядом с лежащим на животе Христом, распростершим руки на радиаторе, он был совершенно очарован. Провел пальцами по ее до крови ободранному колену.
– Простите, ради Бога.
Однажды все происходит впервые, думал я, в полной растерянности сидя в «лендровере» и глядя на разорение.
– Меня зовут Торстейдн, я посол и непременно все здесь приведу в порядок, – сказал он, подхватил ее на руки и закружил, чтобы она обозрела урон. И в тот же миг обрушились хоры, со звоном и гулом органные трубы упали на искореженные «лендровером» церковные скамьи. Но Торстейдн смотрел в лицо девушки.
– Мне кажется, – сказал он, – мне кажется, это… – Он перевел дух и секунд пять молчал. – Ты ведь не замужем?
– Нет.
– То есть, вообще говоря, так не годится. Ну, въезжать в церковь, ненароком… Как тебя зовут?
– Марелия. Я просто хотела заменить цветы.
– Может, и так.
Я выкарабкался из Великого Разрушителя, а Торстейдн поспешно сказал:
– Нет-нет, это не мой сын, да и жены у меня сейчас нету, он мне племянник, мехи качает.
– Меня зовут Пьетюр! – крикнул я.
– Вот именно. Пьетюр. Ты бы пошел да нарвал цветочков вместо этих, которые… ну, сам видишь, ваза треснула. Непременно куплю новые вазы. И новые чулки, размеры бывают разные, и все такое… и обязательно выстрою новую церковь, это ясно.
– Хорошо бы, с черным швом, – сказала Марелия.
– Надо полагать, поблизости есть священник. Не мешало бы с ним договориться.
– Пастор Йоун спит еще.
– Так ведь можно его разбудить?
– Можно, конечно, только он вчера припозднился.
– Нынче он еще больше припозднится, – сказал Торстейдн. – Ты ведь пойдешь за меня замуж?
– Господи! Как, ты сказал, тебя зовут?
– Торстейдн из Дальвика.
– Пастор Йоун рассердится.
– Я же обещал тебе построить новую церковь.
– Я имею в виду… нет… ну конечно… Ты в Рейкьявике живешь? Мне всегда хотелось там побывать.
И Торстейдн опять расчувствовался. Не выпуская Марелию из объятий, он обвел ею опустошение вокруг и сказал:
– Все это пусть так и останется… это же… очень красиво…
Он поднес Марелию к пятнышкам крови на полу, между алтарем и радиатором, – маленькие красные пятнышки.
– Твоя кровь, пролитая за меня, – прошептал он, целуя ободранное колено.
– Скоро заживет, – сказала Марелия.
И когда мы отправились к пастору Йоуну, шагала она вполне проворно. В тумане пасторская усадьба смахивала видом на гнилой зуб. Марелия опережала нас с Торстейдном метров на пять-шесть, иногда оборачивалась и, смеясь, глядела на Торстейдна, а уже стоя на крыльце, приложила палец к губам, открыла дверь и поспешила в пасторскую опочивальню. Пастор проснулся и ощупью схватил ее за плечо.
– Марелия… – Он было потянул ее в постель, но Марелия жестом показала на дверь: мол, у нас гости.
Торстейдн поздоровался, при его-то росте ему волей-неволей пришлось наклониться.
– Вы уж простите, – сказал он, только тут приключилась беда.
Лицо у пастора Йоуна было землисто-бледное, вдобавок с усами – из яичного желтка, табака и старости; наше появление его ничуть не обрадовало.
– Одни только беды и приключаются. – Он со вздохом откинулся на подушки.
Марелия сплела руки за спиной и смотрела то на пастора, то на Торстейдна, меня она, стало быть, вообще не замечала.
– Дело касается вашей церкви.
– Это не церковь, а вечная беда.
– Я ненароком заехал внутрь, туман ведь…
– Так я и знал.
Пастор Йоун лежал на спине, глядя в потолок, больше всего ему хотелось еще поспать.
– Я непременно все возмещу.
– Благодарствуйте, – сказал пастор Йоун. – Может, заодно и электрическое отопление проведете?
– Посмотрим, что тут можно сделать.
– Вы верующий?
– Гм, ну… да, конечно. – Торстейдн не знал, что сказать, стоял, покачиваясь на каблуках. – Я тут езжу, смотрю орга́ны, пытаюсь составить каталог для епископата.
– Я лично не поклонник орга́нов.
– Простите?
– Шума больно много, а звук запаздывает, впопад никак не выходит, пришлось мне отослать нашего кантора.
– Это действительно проблема, в первую очередь механическая. А я вот свалил хоры, на столб наехал, теперь на здешнем органе вообще не сыграешь, одни обломки остались.
– Ты бы хоть вином людей угостил, – вмешалась Марелия, – они ведь небось издалека приехали.
– У меня всего-то две бутылки осталось, да и те… Впрочем, ладно.
– Он вот жениться на мне хочет.
Пастор сел в постели.
Позднее, когда и тело Марелии было отдано ему, жизнь Торстейдна вступила в новую фазу. Отныне он уверился, что его направляют альвы, и чем пристальнее он всматривался в фигуру Христа, ничком лежащую на радиаторе, который застрял меж двух половин алтаря, тем отчетливее понимал, что такое вот мгновение, подобно мушкам в янтаре, наверняка запечатлевается в некоей вечности.
– С нами произошел невероятный случай, – сообщил он Марелии, заглядывая в ее блестящие небесно-голубые глаза, а Марелия тихонько икнула и ответила, что Торстейдн, конечно, совершенно прав.
Любовь проявляется порой странными способами, нет смысла цитировать упанишады или евангелия, в таких категориях жизнь и супружество Торстейдна и Марелии описать невозможно. Сам-то я всегда смотрел на Торстейдна как на полного психа, иной раз меня даже брало сомнение, знает ли он вообще, как ее зовут, эту девушку, но она и впрямь оказалась способна подвигнуть его на постройку могучего монумента в честь мгновения любви. Если он сейчас и не видел Марелию, то, во всяком случае, видел место, где произошло невероятное, и превратил эту нечаянную инсталляцию в архитектурный музей, а себя – в его всемогущего хранителя, который охотно позволял себя фотографировать на фоне гор и фьорда.
Ведь здесь останавливался народ. После многомильного пути по серпантинам, в тумане и темноте, сквозь снежную бурю и дождь, люди охотно останавливались здесь размять ноги. К тому же Марелия заманивала их вывеской насчет кофе и вафель, и, по-моему, за годы дипломатической службы Торстейдну по крайней мере раз-другой довелось видеть козочек с автомобильными шинами, а потому он привык смотреть на свою собственную церковь как на искусство и охотно подчеркивал, что она вызывает «огромный интерес», что посетители задают «необычайно интересные вопросы», что она «дает повод для дебатов о сущности любви». Надо сказать, Торстейдн не принадлежал к числу титанов мысли. Никакой космогонии он не выдумал, в дебри психологии не углублялся, но при всем безрассудстве был неглуп и выстроил свою жизнь вокруг одного-единственного мгновения, которое сообщало ему подобие глубинной энергии.
И вот, когда кто-нибудь останавливался и попадал в полон величавого зрелища на Лужайке, Торстейдн сосредоточивался на этом единственном – на чуде.
Поступь его сделалась размеренной, жесты (в силу повторения) тоже. Каждая запятая на своем месте, «спонтанный» выход Марелии на сцену точно выверен. О, на него стоило посмотреть, когда он, с этаким судьбоносным блеском в глазах, показывал на едва приметные пятнышки крови на полу и на Христа, лежащего поверх радиатора. А в ту минуту, когда из-под его простертой шуйцы являлась Марелия, он произносил слова, очень скоро ставшие крылатыми:
– Здесь мы нашли нашу любовь.