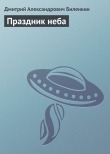Текст книги "Сияние"
Автор книги: Ёран Тунстрём
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
~~~
Случилось это в незапамятные времена, говорит отец, а точнее, 17 сентября 1943 года, в семь часов вечера. Именно тогда Свейдн Бьёрнссон, наш будущий президент, обратился к народу с речью, которая всколыхнет все его существование. После множества лирических экскурсов и перечислений всего, что дала нам война – от оккупационных войск до фабрик, выпускающих селедку в масле, и двадцатикратного увеличения производства яиц, – он объявил, что непроглядная тьма, в которой жил народ, теперь мигом рассеется. Начнется новая жизнь, дотоле невиданная, она вспыхнет ярким пламенем, как вспыхивала в стихах Йоунаса Хадльгримссона [16]16
Хадльгримссон Йоунас (1807–1845) – исландский поэт.
[Закрыть]: народится новый народ с новым сердцем и «былое станет лишь румянцем на склонах гор».
И он продолжил свою классическую речь, которая заставила всю нацию придвинуться поближе к радиоприемникам:
– Мы – народ маленький, но не бедный. Земли у нас хватает, и наши воды, как никакие другие, богаты рыбой. Мы бы могли жить в материальном благополучии. Но достаточно ли этого? Я спрашиваю вас, сыны Хеймдалля [17]17
Сыны Хеймдалля – исландцы; Хеймдалль – божество скандинавского пантеона, страж богов.
[Закрыть]. достаточно ли этого?
Тут наш будущий президент выдержал паузу – согласно замерам, никто не молчал в эфире так долго, как он. А затем процитировал знаменитые строки Бьярни Тораренсена [18]18
Тораренсен Бьярни Вигвуссон (1786–1841) – исландский поэт.
[Закрыть], которые всегда вышибают у нашего народа слезу:
Нет ничего прекраснее тебя,
Любимая, великая вовеки,
Такою ты живешь в любви детей,
В мечтаниях грядущих дней.
Затем Свейдн опять изменил тон и повторил свой риторический вопрос:
– И снова я спрашиваю вас, сыны Хеймдалля: достаточно ли этого?
По вполне понятным причинам народ ответить не мог. Ждал с открытым ртом, предоставив голосу Свейдна возможность ответить:
– От вашего имени я отвечу: нет и еще раз нет! Мы должны заселить нашу землю, наши безлюдные просторы, и заселить сейчас. Поэтому, сыны Хеймдалля, найдите себе нынче же вечером женщину Хеймдаллева рода и зачните с нею дитя. Да-да, пусть этой ночью зажгутся десять тысяч жизней новых исландцев, как некогда свет воссиял у скромных яслей. Этих младенцев назовут Детьми Независимости, и через девять месяцев в подарок на крестины они получат от государства, которое будет провозглашено семнадцатого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года, одну регулируемую крону, а также футбольный мяч или настоящую целлулоидную куклу. В сиянье солнца я, ваш будущий президент, встречу эти новые жизни, которые будут строить нашу страну, и потечет она молоком и медом, и станет воистину как земля Гошен.
~~~
А дальше, как рассказывает отец, происходит вот что: пока наш будущий президент произносит свою речь, в тесной квартирке на Ундюрстигюр некий восемнадцатилетний юноша глотает ежедневную порцию рыбьего жира, самодельного, из акульей печенки. Рыбий жир он пьет от неприятностей, от недовольства и отчаяния, ведь это самодельное пойло помогает от всего. Зовут юношу Нестор. Он долговязый и тощий, и ему бы определенно не помешало вымолить у рыбьего жира костяк покрепче. Лицо у него узкое, длинное, с высоким рахитичным лбом, зубы выпирают вперед; сжав губы, он топочет из комнаты на кухню, к радиоприемнику. Когда Свейдн цитирует всем знакомые строки, Нестор легонько улыбается, а когда весь народ придвигается к радиоприемникам, он делает то же самое. Рот у Нестора приоткрыт, и, когда звучит могучий финал, самодельный рыбий жир попадает ему не в то горло, он хватает ртом воздух, цепляется за стол, где хранит свои поэтические опыты, в результате они сыплются на пол, чтобы в принципе так там и остаться. С жалобным стоном, слепой от навернувшихся слез, он ощупью бредет к двери, распахивает ее и вываливается на безлюдную улицу, ведь в этот миг еще никто из половозрелой части населения не успел опомниться от президентской речи, и Нестор, лежа в уличной грязи, пытается издать какой-нибудь звук, крикнуть, позвать, но вместо этого только невнятно шепчет:
– Помогите.
По всем законам естествознания, этот шепот не должна была услышать ни одна живая душа, но «помогите» – слово особенное, Пьетюр, не забывай об этом, иной раз кажется, будто оно точь-в-точь как теперешние самонаводящиеся ракеты, ведь вместо того, чтобы упасть в грязную жижу подле Несторова лица, оно пробирается между домами до Фрейюгата, возле Баронсстигюр заворачивает налево, по церковным задворкам спешит дальше, на Ньяльсстрайти, потом на Витастигюр и там с легким жужжаньем влетает в ухо юной девицы, а девица эта без трусиков и бежит сломя голову. Звать ее Сюннева, и, прежде чем моя история подойдет к концу, она станет твоей, Пьетюр, бабушкой. В ту пору ей аккурат сравнялось восемнадцать, и была она единственной дочерью беспутного торговца по имени Эрлинг Йоунссон, который большей частью обретался в ресторане «Борг». Сюннева всегда была при нем, потому что мама ее переехала в Копенгаген; сидя подле пьянеющего отца, она мечтала, чтобы кто-нибудь ее приласкал, и в результате превратилась в довольно кокетливую особочку, иной раз несколько крикливую, а порой несколько легкомысленную. Нестору, который работал в этом ресторане, она не нравилась, потому что никогда на него не смотрела.
Она смотрела на солдат, которые находились тут, чтобы защищать нас от других солдат. Они обеспечивали местное население работой и способствовали его благосостоянию, а взамен им изредка дозволялось водить знакомство с дочерьми Исландии, и для обеих сторон здесь таилось множество соблазнов.
Сюннева, то бишь моя мама, в тот день – 17 сентября 1943 года – вылезла из солдатской койки и в благодарность за визит получила возможность выбрать хорошенькую вещичку, из тех, что ближе всего к прелестному телу. Сперва солдат показал ей черные трусики. Потом розовые.
– Выбирай, какие больше нравятся.
– Я бы взяла и те и те.
– Вообще-то есть и другие бедные девушки, которым нужно согреть попку.
– Я не бедная, – сказала Сюннева, – разве что фантазии маловато.
– А как тебе вот эти?
Солдат стоял перед нею, держа в руке что-то маленькое, фисташковое, с кружавчиками.
– В жизни не видала такой красоты!
– Ну так возьми, darling.
– Нет. Мне нельзя носить зеленое.
– Нельзя носить зеленое? – удивился солдат.
– На нашей семье лежит заклятье – запрет на зеленое, отец меня убьет, как был убит один наш родич, когда надел зеленую рубаху. В семнадцатом веке.
Солдат усмехнулся:
– Но ты ведь современная девушка, а современные девушки чихать хотели на такие суеверия, верно?
– Ну… пожалуй что да. Только от них все равно будут неприятности, – сказала Сюннева и схватила трусики.
Дома она сняла ненавистные старые панталоны и, призвав на помощь все доводы рассудка, собралась натянуть зеленые штанишки, как вдруг на пороге вырос отец, Эрлинг, здорово навеселе.
– Ты что это делаешь, девчонка, черт тебя побери?!
Он выхватил у нее трусики, швырнул на пол и принялся топтать ногами.
– Неужто не понимаешь… неужто не видишь…
– Они были самые красивые.
– Но разве ты не знаешь…
– Это суеверие. Ты все перепутал, а я девушка современная. Вдобавок они не зеленые, а фисташковые.
Эрлинг прямо поперхнулся этим словом, жевал его, пытался проглотить и, наконец, завопил, брызгая слюной:
– Вон из моего дома! – Он так рассвирепел, что опамятовался только через девять месяцев, когда стал моим дедом.
Ну так вот, на углу Брагастрайти и Ундюрстигюр лежит и стонет Нестор, и видит он, как к нему бежит Сюннева, а в руке у нее что-то зеленое.
– Стукни меня по… по… по спине. Ры-рыбий жир не… не… не в то горло по-попал.
Сюннева становится на колени и кулаком лупит его по спине, пока он не выкашливает самодельный рыбий жир. Нестор по-прежнему лежит ничком, переводит дух, глаза красные. Потом утирает лицо ее широкой юбкой, кладет голову ей на колени.
– Чем ты поперхнулся-то?
– Рыбьим жиром.
– Как это тебя угораздило?
– Ты разве не слыхала, что говорил президент?
– Какой еще президент?
– Наш, будущий. Свейдн. По радио, Сюннева.
– Откуда ты знаешь, как меня зовут?
– Так ведь все знают.
Тут со стороны Ньяльсстрайти по притихшему городу разнесся громовой рык:
– Сюннева! Сюннева!
Сюннева схватила Нестора за руку:
– Можешь спрятать меня где-нибудь?
– Я живу вон там. – Он показал на желтый домишко на Ундюрстигюр. С трудом поднялся на ноги и потащил ее в квартиру.
– Отец совершенно рассвирепел, не разрешает их надевать.
– Так ведь ты и не надела. А что там на тебе вообще-то?
– Ничего. Ты небось слыхал, что Эрлинг боится зеленого. И салата боится, и шпината, и всего. А кстати, что там наговорил Свейдн?
– Он очень важную речь произнес, но, если ты сама не слыхала, объяснить трудно, а если слыхала, я бы спросил, согласна ты или нет. Это же на благо родной страны.
– Ты про что? – Сюннева помахала зелеными трусиками.
– Стране нужно побольше детей. И на крестины мы получим одну крону, если… если ребенок родится к семнадцатому июня будущего года, когда мы станем свободной нацией.
– А сейчас мы разве не свободные?
– Будем еще свободней. Свой президент. И все такое. Национальный праздник, песни. Ну, ты сама знаешь.
Рык приближался. В окошко Нестор видел, как Эрлинг бросался от одной двери к другой и молотил в них кулаками. Со страху Сюннева юркнула под одеяло. Нестор за ней.
– Ты тоже веришь в такие бредни? – прошептала она в темноте.
– Не знаю. Иной раз поневоле веришь в то, во что поверить невозможно. Но я верю в самодельный рыбий жир.
Эрлинг был уже возле Несторова окошка, а окошко это находилось вровень с землей, и Нестор чуть ли не воочию видел физиономию старикана в каком-то метре от своей собственной, он покрепче прижался к Сюнневе, а она пихнула его голыми ногами… ну да, юбка задралась, он коснулся девушки и сглотнул.
– Это… для меня… ог-огромное событие. – Под прикрытием этих слов он еще крепче прижался к ней и прошептал в ухо, которое было совсем рядом: – Ну, то есть… ежели ты согласна сделать со мной ребенка, раз президенту этак хочется.
– Гм, не знаю, дети вечно орут. Пеленки им надо менять, нет, дети мне без надобности, но ты можешь меня обнять, ведь ты меня спас.
– А если я обещаю взять все это на себя?
– Ты только так говоришь.
– Нет, даю тебе честное благородное слово, что все практические вопросы возьму на себя.
Они слышали теперь, как он двинулся домой – злющий и отчаянный Эрлинг Йоунссон. Оба замерли, едва дыша.
– Ты даже не представляешь себе, что́ это для меня значит. Я никогда не бывал так близко с женщиной; между прочим, родом я из Исафьёрдюра.
– Рано или поздно приходится начинать, – просто сказала Сюннева.
– Я только теоретически знаю, как все это происходит, ну, любовь то есть.
– А, любовь! Не бери в голову.
– Хотя плоть вроде как сама переходит от теории к практике.
– О’кей, – вздохнула Сюннева. – Если обещаешь позаботиться о младенце. Как, ты сказал, его звать? Президента нашего?
Да, Пьетюр, вот так, наверное, все и было, когда я в виде спермия начал свой путь в этот мир. Но факт остается фактом: вместе с одиннадцатью тысячами так называемых Детей Независимости я – согласно желанию президента – родился 17 июня 1944 года, в дождливый день, когда радостное пение заглушали стоны и крики матерей, потому что благие призывы нашего славного новопровозглашенного президента были услышаны, однако ж он начисто забыл одну «мелочь»: построить родильные дома. И отцу вправду пришлось заботиться обо мне, так как мама моя оставалась легкомысленной до тех самых пор, пока не обратилась на путь истинный. А это действительно произошло. Когда умерла Лаура. Вот тогда-то ее и объял свет, так она твердила. Блуждающий огонь, который шел к ней долго-долго.
~~~
Стало быть, на Скальдастигюр, 12 мы с отцом жили одни?
На этот вопрос трудно ответить однозначно. Я бы сказал, все целиком зависит от того, как человек подходит к реальности. Неужели всё иллюзия и видимость? Философы наверняка уже достигли тут согласия, но в таком случае это произошло без нашего с отцом ведома. Мы же волей-неволей установили, что очень и очень немногие из тех, с кем мы ежедневно общаемся, принадлежат так называемой реальности. Если мне дозволено столь туманно выразиться насчет весьма серьезной проблемы.
Спать я ложился около восьми, не по принуждению, а с радостью. Потому что отец, как бы он ни был занят монтажом своих пленок или начитыванием материала для будущих репортажей, всегда находил время посидеть на краешке моей кровати и рассказать какую-нибудь историю о мире, о людях, которых встречал, о местах, где бывал. Рассказывал он замечательно, и лейтмотив всегда был один: мир – штука фантастическая и человеку здорово повезло, что он в нем оказался, а больше всех повезло мужчине, которому дано любоваться Женщиной. Поистине гениальный ход. Снабдив меня новым ландшафтом для грез, он желал мне доброй ночи и уходил, но дверь оставлял приоткрытой, чтобы я, прежде чем целиком погрузиться в мир сновидений, мог видеть его спину и слышать, как он смеется, все тише и тише. Но однажды ночью я проснулся.
Мне приспичило в уборную. А в ванной у нас было окошко, смотревшее на чахлый садик за домом. Садовод из отца не получился, жилистые кусты смородины и те расти отказывались, анютины глазки да ноготки тулились возле стены, – словом, не Бог весть какое царство. И все же, как я заметил, всякий раз, выходя на рассохшееся заднее крыльцо, отец слегка кланялся, будто там его встречала ожидающая свита. Конечно, почтение перед природой, благоговейный трепет перед таинством роста, даже перед тем, что растет криво или почти вовсе не растет, я вполне могу понять.
Но чтобы всегда?
Так вот, я глядел в окошко ванной. Была ночь, полная луна висела над рябиной. Возле трех небольших камней стоял отец; эти камни сама природа сложила пирамидкой, и, когда я был совсем маленький, отец почему-то не разрешал мне по ним лазать. Стоял отец неподвижно, спиной ко мне и к дому, под огромной, сливочно-желтой луной; он как-то по-особенному сложил ладони, а руки вытянул вперед, чтобы на них падал свет. Я осторожно открыл окно, стараясь получше рассмотреть его ладони: они были сложены ковшичком. И вдруг в этот ковшичек упало несколько капель лунного молока. Отец наклонился и выпил их.
У меня дух захватило. Отчасти потому, что на моих глазах происходило нечто никогда прежде не виданное, а отчасти потому, что я чувствовал себя непрошеным очевидцем чего-то такого, чему еще некоторое время полагалось бы оставаться сокрытым. Я прямо-таки видел, как эта лунная влага струится по отцовским жилам, освещает их изнутри, заставляет его фосфоресцировать. Кожа горела, глаза увеличивались и посылали во тьму лучи, а иные из этих лучей выбивали искры из пирамидки у его ног, я не знаю, долго ли так продолжалось, знаю только, что случилось это в конце двадцатого века и что от камней поднялось – сперва лишь как трепет воздуха, но мало-помалу материализуясь все отчетливее, – лицо, фигура, я увидел темные волосы, упавшую на лоб прядку, увидел большие глаза, шею, левую руку женщины, длинные пальцы, которые мягкой дугою обвились вокруг шеи отца и притянули его к себе, я зажмурился и упал на пол.
Это был первый раз. На следующее утро я проснулся в своей постели, голова разламывалась от боли. Светило солнце, отец негромко напевал на кухне, откуда веяло запахом поджаренного хлеба и горячего шоколада. Отец принес на подносе все, что надо: в моей синей кружке дымился этот самый шоколад, еще там были, во-первых, мед, во-вторых, сардинки, а в-третьих, печеночный паштет. А также стакан свежеотжатого апельсинового сока и непременная «Моргюнбладид». Отец открыл окно и спросил, хорошо ли я спал.
Все более чем обычно.
Но вместо того чтобы и ответить как обычно, я буркнул: «А чего?» – и подумал, что он скажет: «…памятуя о ночном происшествии…» Отнюдь. Он приветливо кивнул, насвистывая тему из шубертовского квинтета «Форель», открыл в газете раздел культуры, и вот так этот день, змеясь, побежал в вечность.
В следующее полнолуние повторилось то же самое. Он стоял в саду под небесами, набравшимися новых сил и набухшими собственным молоком. На сей раз явилась голубая фюльгья [19]19
Фюльгья – в скандинавской мифологии душа, отделившаяся от человеческого тела, является человеку во сне, в образе женщины или животного.
[Закрыть]. Конечно, она была не голубая – ни лицом, ни волосами; это впоследствии я назвал ее так, чтобы отличить от других фюльгий, населявших отцовы ночи. Но после нее в пространстве осталась какая-то голубизна. И если первая была – рука и волосы, то эта – живот и грудь. Как знать, может, этим существам положено являть себя частями, фрагментарно.
Какая взволнованная тишина в окне. Мои пальцы улыбались, они закрыли створки, чтобы я остался незамеченным. Но в ту ночь, слушая крадущиеся шаги и шепоты повсюду в доме, я убрал со своей полки самые детские книжки.
Впрочем, конечно же невозможно в одночасье сделаться физически взрослым. Наутро, проснувшись от хлопков гардины и распахнутого на море окна, я приуныл, когда вновь обнаружил хрупкость моих членов, худосочность груди. Тщетно я пробовал почерпнуть силу из недр глетчера Снайфедльсйёкюдль, на том берегу залива, – отец стоял ближе к окну, и сила, видать, шла прямиком к нему, потому что он вдруг обернулся:
– Сегодня мы едем в Сельфосс, совершим пробежку, пообедаем где-нибудь в дорогом ресторане.
– Почему это? У тебя что, есть повод пировать?
– Погода. Можно устроить пирушку по случаю хорошей погоды.
Он врал.
Случалось, вечерами ни с того ни с сего отворялась дверь, и на пол косо падал лучик света. Случалось, вечерами и ночами я – еще не вполне погрузившись в глубины сна – чувствовал на лице прикосновение мягкой руки. Случалось, на прогулке вокруг Тьёрднина [20]20
Тьёрднин (Озерцо – исл.) – озеро в Рейкьявике.
[Закрыть]он улыбался, будто застигнутый врасплох какими-то воспоминаниями из ночного архива, и я надеялся, что однажды он поделится ими со мною. А в иные дни, случалось, разрозненные реплики слагались в некий узор. Например, при кормлении уток:
– Пап, сегодня ночью у тебя была фюльгья?
– Выходит, ты знаешь.
– Она возвращается? Или это все время разные?
Он присел на корточки и стал прямо из рук кормить крякву.
– Утя-утя-утя. – Больше он ничего не сказал.
На прогулке, шагая среди чаек и рыбацких лодок, среди приветственных возгласов рыбаков и скупщиков:
– Почему это ночью так хлопали двери?
– Ты слышал?
– Трудно было не…
– По-моему, дождь собирается. Сильная была женщина. Несла черную гору, жутко тяжелую. Наверно, пришла за помощью, но я помочь не сумел. Только шум поднял да языком болтал, она сказала, мои слова будто градины стучали по голове, собственная ее речь полнилась трепетом, да ты понимаешь ли, о чем я, Пьетюр?
– Наверно, когда-нибудь эти слова догонят меня, ты продолжай, пап, если тебе так легче.
– Раньше ей было легко говорить, сказала она, но потом прилагательные вымерли, вроде как от вируса, а дальше вымерли личные местоимения, любовная буря унесла прочь восклицательные и вопросительные знаки, только и осталось что одно-два существительных да замерзшие глаголы, тяжко.
– И все-таки тебе хочется, чтобы они приходили?
– Надежда. Каждая встреча – надежда. Ведь заранее ничего не известно.
– Можно спросить у тебя одну вещь?
– Этому я никогда не препятствовал.
– Обещай, что не рассердишься, я ведь просто хочу знать. Почему приходят все эти фюльгьи? Почему никогда не приходит мама, ну, такая, что может стать моей мамой?
Он отвернулся, глядя на пеликаньи шеи кранов.
– Разве кто-нибудь годится в мамы… Эх, разве кто-нибудь вообще годится для этого? Дай мне немного времени, Пьетюр.
~~~
Удивительно, какие тонкие бывают ткани.
И они шепчут, эти женщины, склоняясь над моей детской постелью. Небеса их грудей приближаются к моей земле, где нет разницы меж сном и явью. Шепотом они зовут меня к себе, к темному запаху подмышек, зовут и уходят, оттого-то я во сне не желаю расти, хотя мое тело становится больше и тяжелее, обеспечивая хорошую защиту моей малости, оттого-то я в моих снах продолжаю бродить по дорогам Исландии. Брожу под черными тучами, под светлыми облаками, открываю тяжелые дубовые ворота и сколоченные на скорую руку дощатые двери овчарен, шагаю по голым, без травинки, дворам и всюду задаю один и тот же вопрос: «Нет ли здесь Лауры? Я пришел, чтобы прикоснуться к ее груди».
Но увы. В ответ я неизменно слышу: «Она только что была здесь». Или: «Говорят, она где-то в пути».
Увы. И неизменно.
~~~
– Вот это пир! – восклицает отец, утирая рот льняной салфеткой и обводя взглядом остатки трапезы.
Он такой храбрый в своем отцовстве. Занимается стряпней. Привозит из-за границы жареные побеги бамбука, сморчки, хрен. Я и сейчас помню его ежевичный суп в запотевшей от холода тарелке с ободком ледяных сливок по темному бережку. Помню козлятину во фритюре, под базиликовым соусом, помню…
– Ну как, вкусно? Или?
– Да, папа. Вкусно. Очень вкусно.
Дело в том, что я никогда не ел ничего, кроме вкусной, вкуснейшей, изумительной еды. Я знал все про фрикасе из зубатки, про пири-пири из цыпленка под ананасным соусом, про морской язык а-ля Валевска. Мне известно, что такое «чуть пересолено», «лучше бы чуточку похолоднее», «колорит получился слегка блеклый».
Но я догадываюсь, все эти трапезы были пробами. Он пробовал, репетировал, готовился к Великой Трапезе, когда она, чье имя мне неведомо, будет сидеть прямо напротив него и произнесет фразу, которую я однажды услышу: «What is the name of this wonderful fish?» [21]21
Как называется эта чудесная рыба? ( англ.)
[Закрыть]
Ведь как-то раз отец сказал: «Давным-давно, может быть во сне, мне была обещана встреча с Абсолютным Ты – женщиной дивной красоты, великого ума и любострастия, и с каждой женщиной, которая хотела меня, я думал, что вот теперь жизнь наконец-то откроет мне свой глубочайший смысл, свою абсолютную цель».
Я не мог обидеться на то, что услышал, я уже понимал его великое одиночество, ведь оно так отчетливо заявляло о себе через вечное отцовское «Или?».
– Вкусно, Пьетюр? Или?
– Да, папа.
– В меру прожарено? Или?
– Да, папа.
– Вполне уютно. Или?
– Да, папа.
Будто тяжелые листья, кружащие над столом, пока я читал свою каждодневную молитву о том, чтобы он позволил склониться надо мною еще нескольким из таких, что хотели его…