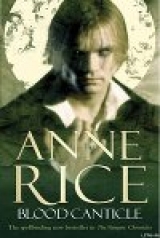
Текст книги "Гимн крови"
Автор книги: Энн Райс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Глава 15
Любовь. Кто знает о чужой любви? Чем больше любишь, тем больше понимаешь, как любовь испепеляет душу, тем отчаяние вспоминаешь о блаженном неведении, когда еще не угодил в расставленные страстью силки.
Вот перед нами дом, который описывал Квинн, когда вспоминал те летние дни, когда много лет назад он приглашал на прогулки возлюбленную Мону, дом, спрятавшийся за черной оградой, с прильнувшим к ней миртом и двумя величественными дубами – часовыми, вспоровшими корнями выложенную камнями площадку. Спускающиеся каскадом белые колонны, боковые двери, длинные окна, кресла-качалки на веранде, чугунное кружево решеток за вуалью цветущих виноградных лоз. Сбоку, в уютной темноте притаился просторный сад. Сюда одним прекрасным солнечным днем проникнул дядюшка Джулиан, чтобы запутать Квинна, убедив его никогда не жениться на Моне. Некоторые призраки никогда не сдаются!
Вдалеке я заприметил бассейн, по которому пробегала сверкающая рябь. За ним, быть может, находилось кладбище мистических Талтосов. Когда полный доверия Михаэль с успокоенной улыбкой на лице вел нас по комнатам, я ощутил запах, который он пытался описать. Инородных существ. Явный, хотя и слабый. Мона тоже его уловила и вздернула носик – пренебрежительная гримаса вампира. Высокие зеркала над одинаковыми каминами из белого мрамора располагались друг напротив друга, отражая глубокую полутьму комнат и ловя свет мерцавших в бесконечности свечей. Полы застилали ковры, похоже, от Абуссон, заурядная мебель располагалась в тревожном беспорядке, диван и скопище стульев разделяли комнаты под центральной аркой, в отдалении виднелось черное фортепьяно "Босендорфер", укрытое благородным слоем пыли. Со стен смотрели портреты предков – кого же еще? Там была изображена крепкая черноволосая женщина в красивом облачении для верховой езды. А с этой стороны – догадайтесь, кто? Блестел глазами и улыбался так, как никогда не улыбался мне, монсеньер Джулиан Мэйфейр, конечно же. Тикали огромные немецкие часы в длинном корпусе, размеренно покачивая маятником. Всюду слышались неясные шорохи, словно дом наполнялся призраками. Краем глаза я уловил исполненный ненависти взгляд настоящего Джулиана. Но тут Михаэль обернулся. А за ним на звук, похожий на шуршание по полу старинного платья из тафты, среагировал и Джулиан. Михаэль снова закрутил головой, пробормотал:
– Где же они?
– Мы им не нравимся, – сказал я.
– Не им нас судить! – сердито сказал Михаэль.
Это было впервые, когда я заметил в нем подобную эмоцию.
Но она угасла так же внезапно, как вспыхнула. Для таких вещей есть подходящее слово: "мимолетный".
– Кто? – спросила Мона. – Ты о чем? – она пробормотала свое собственное заклинание.
Ее взгляд выдавал эмоции.
Жила здесь, любила этот дом, была вырвана из него, заброшена, ощутила дыхание смерти, сбежала, снова здесь, соприкосновение.
Следовало ли мне читать ее мысли, чтобы это понять? Нет. Я все видел в глазах Квинна. Он же, дитя огромного дома, чувствовал себя в этих стенах восхитительно комфортно и, казалось, беспокоился только о том, чтобы не захлебнуться в потоках любви ко всему клану Мэйфейров, будто бы все они спустились к нам с окрестных гор, держа в руках свечи, позаимствованные из малобюджетных фильмов.
Голубые глаза Михаэля устремились на меня. Несмотря на усталость, в нем ощущалась безмерная сила, гордость за дом и легкое удовольствие, когда он заметил, как я осматриваюсь.
– Я оштукатурил его, покрасил, провел электрику, отполировал полы, навел лоск, – бормотал он певуче. – Я научился всему этому на западе, и за все время, пока отсутствовал, я никогда не забывал этот дом, привыкнув слоняться здесь, как маленький мальчик, никогда не забывал, и никогда, конечно же, не мог и мечтать о том, что стану здесь хозяином (смешок). Вот так вот. Если, разумеется, у этого дома может быть хозяин, когда у него есть хозяйка, или даже две, и было время, очень продолжительное время… – он потерял нить. – Пойдемте. Давайте я покажу вам библиотеку.
Мне осталось только неспешно последовать за ним.
Ночь снаружи тяжело напирала на окна, слышалось пение крылатых существ, пульсирующее кваканье лягушек, авторитетно живописующих большой сад. Тесный коридор, пропадающие в вышине стены. Зловещие ступени. Слишком узкие, слишком длинные. И снова запах существ. Но еще сильнее – запах человеческой смерти. Почему я так решил? Рука, коснувшись стержня винтовой лестницы, выбила искру воспоминаний. Смертные падали и падали вниз. Эту лестница соорудили специально, чтобы свернуть на ней шею. Эти двери, как двери в храм, противились нашему непочтительному проникновению.
– …завершилось в 1868 году, – говорил Михаэль. – …Все, и едва затронуло эту комнату. Но лучшая отделка во всем доме.
Стена книг, корешки из старой кожи.
– Великолепный потолок. Я вижу маленькие лица, выписанные на штукатурке медальона.
Мона обошла комнату по кругу, – красный ковер приглушал цоканье ее каблучков, – приблизилась к длинному окну, выходившему на маленькую веранду, и уставилась в ночь с таким видом, будто бы ей было суждено, притаившись за кружевными шторами, вынести миру приговор. На кружеве красовались павлины. Затем она развернулась и уставилась на Михаэля.
Он кивнул. При взгляде на него нечто угрожающее всколыхнулось в ее памяти. Нечто ужасное, смертоносное приблизилось к веранде. Гимны мертвых и умирающих. Семейные призраки леденили кровь. Отрицание. Спешка. Ровен ждет. Ровен страдает. Ровен где-то очень близко.
– Пойдем, дорогая, – сказал он Моне.
Мой голос звучит так же интимно, когда я так обращаюсь к ней? На какой то момент мне захотелось обвить ее рукой, только для того, чтобы предъявить свои права.
Теперь она мой птенец, мое дитя. Как постыдно.
Столовая представляла собой идеальный квадрат с идеально круглым столом. Стулья – чиппендель. Стены расписаны картинами со сценками из золотой поры быта плантаторов. Очень странный канделябр. Я не знаю, как он называется. Он размещался очень низко, как и великое множество свечей.
Ровен одиноко восседала за столом, четко отражаясь от его поверхности. Она была облачена в темно-пурпурный стянутый кушаком халат с атласными лацканами – в мужском стиле. Но узкие плечи и пикантно гладкое лицо делали ее очень женственной. Из-под края одежды виднелась тонкая белая полоска ночной сорочки. Бесцветные волосы только подчеркивали выразительность больших серых глаз и безупречность девственного рта. Она воззрилась на меня так, будто не знала, кто я.
Узнавание, отразившееся в ее глазах, было таким интенсивным, что казалось, она ослепнет. Потом она посмотрела на Мону. Поднялась со стула, простерла вперед правую руку и указала на нее пальцем.
– Схватите ее! – воскликнула она приглушенно, будто ее голос внезапно сел. Она обежала вокруг стола. – Мы закопаем ее под деревом! Слышишь меня, Михаэль! – Она попыталась глотнуть воздуха. – Хватай ее, она мертва, разве ты не видишь? Хватай ее! – Она бросилась к Моне и Михаэлю. Он успел поймать ее, хотя его сердце разрывалось. – Я закопаю ее сама, – сказала она. – Неси лопату, Михаэль.
Охрипший голос приглушал истеричные нотки.
Мона прикусила губы и скорчилась в углу, ее глаза метали молнии. Квинн пытался удержать ее в своих объятиях.
– Мы будем копать глубоко-глубоко, – сказала Ровен, ее бледные брови сомкнулись. – Мы закопаем ее так, что она не вернется обратно! Разве ты не видишь, что она мертва! Не слушай ее! Она мертва. Она знает, что мертва.
– Ты бы хотела, чтобы я была мертва! – всхлипнула Мона. – Ты, злобное, злобное создание! – Гнев вырвался из нее, как вспышка обжигающего пламени. – Ты злобное, лживое создание! Ты знаешь, кто забрал мое дитя! Всегда знала! Ты позволила этому случиться. Ты ненавидишь меня из-за Михаэля. Ты ненавидела меня, потому что это был ребенок Михаэля! Ты позволила этому человеку забрать его!
– Мона, прекрати, – сказал я.
– Дорогая, пожалуйста, любимая, – умолял нас Михаэль за Ровен, за себя, изможденного и сбитого с толку, и без усилий удерживал извивавшееся в его руках тело.
Я подошел к ней, высвободил из объятий законного супруга, сжал ее руки и впился взглядом в маниакально блестевшие глаза.
Я сказал:
– Я сделал это, потому что она умирала. Вини за этот грех меня.
Она увидела меня. Действительно увидела меня. Ее тело напряглось, как камень. Михаэль за ее спиной замер.
"Вы, оба, – сказал я, – обратите внимание. Я говорю беззвучно".
Существа из легенд, вульгарные прозвища, охотники ночи, навсегда лишенные света дня, живущие на человеческой крови, охотящиеся только на порочных, отбросах общества, если такие попадаются на пути, всегда процветающие среди людей, с начала времен следующие за человеком, тела, измененные кровью, усовершенствованные кровью, Квинн, Мона, я. Ты права, ты видишь, что она мертва, но мертва лишь для человеческой жизни. Я сотворил обряд. Наполнил ее оживляющей кровью. Смирись. Это случилось. Это необратимо. Я это сделал. Умирающая девочка, измученная болью и страхом, не смогла отказаться. Два века назад не было возможности отказаться мне. Год назад не давал своего согласия Квинн. Возможно, никто на самом деле и не дает своего согласия. Это моя сила и моя вина. Суди меня. И теперь она испытывает жажду. И теперь она охотится за кровью изгоев. Но она снова Мона. Ночь принадлежит ей, а дневному свету до нее не добраться. Я виновен. Проклинай только меня.
Я затих.
Она закрыла глаза. Из ее легких вырвался долгий раздирающий выдох, будто она изгоняла душащий ее ужас.
– Кровавое дитя, – прошептала она.
Она прижалась ко мне. Ее рука взметнулась вверх, чтобы сжать мое плечо. Я обнял ее, пропустил ее волосы через пальцы. Михаэль смотрел на нас так, будто отдалился от нас, он хотел все обдумать в уединении. Предоставив ее мне, он, пошатнулся, будто поплыл по комнате. Но он оценил мою откровенность, был тронут до глубины души. И испытывал томление и грусть. К нему направилась Мона и раскрыла ему объятия, и он обнял ее с поразительной нежностью. Он целовал ее в щеки, будто бы правда освободила в нем целомудренный источник нежности. Он целовал ее рот, ее волосы.
– Моя дорогая малышка, – сказал он. – Моя хорошенькая девочка, мой гениальный ребенок.
Он обнимал ее так же, как полчаса назад, только теперь я понимал значение этого объятия. Осознание ее природы медленно достигало его рассудка, и теперь он прикасался к ней иначе.
В нем была страсть, да, укоренившаяся в нем, питаемая годами, неотделимая от его существа, губительная страсть, но к ней он больше не испытывал ничего подобного. Необходимость заботиться о ней последние шесть лет послужила достаточным наказанием.
И эта неожиданная правда давала ему возможность снова проявлять к ней нежность, свободно целовать ее, гладить по волосам. Да, и она была снова с ним, отцом ее ребенка, отцом ее смерти.
– Как Талтос, – пробормотала она.
И засияла своей чудесной очаровательной улыбкой. Юность, не признающая страха. И, конечно же, теперь он отчетливо увидел, как в темной комнате светится ее кожа, и противоестественно блестят глаза, и рыжие волосы густым ореолом окружают ее улыбающееся лицо.
Она не почувствовала в нем ни беспокойной грусти, ни бескрайней боли. Он выпустил ее с восхитительным тактом и, взяв один из стульев, присел за стол. Он наклонил голову, провел пальцами по волосам.
Квинн присел напротив него. Он смотрел на Михаэля. А затем и Мона быстро пристроилась рядом с Квинном. Итак, они разместились.
Я стоял и обнимал Ровен. Где было мое вожделение? Непреодолимое волнение крови, властно требующей познать, попробовать, прочувствовать, овладеть, убить, предаться любви? Во мне бушевала неугомонная буря. Но я же очень сильный. Что есть, то есть, ведь так?
Но когда кого-то любишь так, как я любил Ровен, то не стремишься причинить боль. Примитивные потребности моего существа отступили, утихнув. Рассеялись, устыдившись, моей способность понимать это, знать, и найти для этого место в моей расчетливой душе.
Я приподнял ее лицо, мой палец вжался ей в щеку, жест, который примени его ко мне, я бы не вынес, но я был осторожен и приготовился отпрянуть, продемонстрируй она хотя бы малейшее неудовольствие. Она же только смотрела на меня с затуманенным осознанием. И вся ее плоть льнула ко мне, а рука на моем плече тепло обвила мою шею.
– Итак, – произнесла она восхитительным хрипловатым голосом, этим своим чарующим голосом, – Мы, Мэйфейры, в своем узком семейном кругу становимся хранителями еще одного священного секрета, еще одно племя бессмертных пожаловало к нам.
Легко, неуловимо она выскользнула из моих объятий, незаметно поцеловав мою руку, подошла к Михаэлю, сжала ему плечи ладонями и взглянула через стол на Мону.
– И вот каким-то образом подошел к концу мой гнозис, – она продолжила: – И теперь естественно… да, конечно же, я встану на защиту открывшейся нам правды, а также вернусь в мир, который я создала и который так во мне нуждается.
– Детка, ты вернулась, – прошептал Михаэль.
Я просто обожал его.
А когда наши глаза встретились, я понял, что она совершенно признала меня, была исполнена уважения ко мне и так глубоко понимала мою жертву, что в головокружительной тишине я не мог подобрать слов.
Так буквенные строчки воспаряют над реальностью, одухотворенные поэтическим вдохновением. Вся ты прекрасна, любимая моя, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник.
Глава 16
Почему я так сильно любил ее? Уверен, читатель этих строк задается вопросом: что же в ней было, что вызывало во мне такую любовь?
Что же отличало ее от прочих, почему ты так ее любил? Как ты, любовник мужчин и женщин, вампир, погубитель невинных душ, оказался способным на такую любовь? Ты, средоточие легко воспламеняемой страсти, ты, дефилирующий из века в век во всеоружии своего убийственного обаяния, – за что ты любил ее?
Что я могу ответить? Я не знал ее возраста. Поэтому в моей книге о нем нет ни слова. Не могу сказать, какие у нее были волосы, кроме того, что они были коротко подстрижены и завиты на кончиках, на ее гладком лице не появилось и намека на морщины, а ее фигура была мальчишеской.
Но имеют ли смысл перед лицом ясной любви детали? Сами по себе они ничего не значат. Впрочем, если допустить, что женщины такой силы умеют по собственной воле придавать особое значение своим чертам, изгибу бровей, осанке, манере двигаться, даже тому, как падают на скулы волосы, длине шагов и их звуку, то детали, возможно, значат все.
Рядом с огненной рыжеволосой Моной, она, скорее, напоминала пепел. Женщина нарисованная углем, с лишенным сексуальности, пронзительным взглядом, душой, настолько огромной, что, казалось, она проявляла себя в каждом штришке ее облика и готовилась излиться в бесконечность. В сравнении с ее знанием мира познания всех тех, кого она встречала и еще встретит, казались незначительными.
Только вообразите себе ее одиночество.
Она не беседовала с людьми. Она просто не разговаривала с ними. Одному Богу известно, сколько она спасла жизней. И только она знала, скольких она убила. В Медицинском Центре Мэйфейров она только еще начала воплощать свои грандиозные мечты. Это был колоссальный и безостановочный конвейер исцеления. Но в действительности ее вдохновляли еще находившиеся на стадии исследования проекты, которым она отдавала состояние, знания, пронизывающее как рентгеновский луч видение, нервы и всю свою энергию.
Что могло подвести эту исполинскую личность, которая, невзирая на трагедию и наследственность, нашла для себя персональную цель? Ее рассудок. Время от времени она предавалась безумию, как будто оно было неким дурманящим напитком. И когда в умственном расслаблении она ускользала от своих великих идей, упиваясь воспоминаниями и чувством вины, когда искажались пропорции действительности и затихали осуждающие голоса, тогда, бормоча, она признавалась себе в тщетности надежд и строила бессвязные планы побега, который поможет ей навсегда избавиться от всех предвкушений.
И в эти чудесные моменты она обретала рассудок и, находясь в молитвенном состоянии, увидела меня, как Демона, пришедшего, чтобы вернувшего ее обратно.
Для нее я был тем, кто соединил два мира. И ее время пришло.
Кровавое дитя. Она вожделела меня. Именно за то, кем я на самом деле являлся, – вот в чем суть, за все то, что она почувствовала, когда мы трижды встречались. За то, что теперь она знала, что это правда, благодаря моему заявлению и потому что она и сама это понимала.
Она хотела меня всего. Это было желание, питаемое ее талантами, бывшими ее сутью и исключавшими ее любовь к Михаэлю. Я знал это. Как я мог этого не знать? Но она не собиралась уступать Ее воля? Была железной. Можно ли спутать с железом древесный уголь?
Глава 17
– Вы никому не откроете этот секрет, – сказала Мона.
Ее голос дрожал. Она крепко держалась за руку Квинна.
– Если вы его сохраните, то со временем я смогу всех навещать. Я имею в виду других членов семьи. Я буду понемногу узнавать о каждом из них. Так же, как Квинн знает обо всех на ферме Блэквуд. И у меня будет время, которое мне потребуется для отсутствия. Что ты хотела сказать, когда назвала меня "Кровавое дитя"?
Ровен посмотрела на нее через круглый стол. Потом с неожиданным раздражением стянула толстую пурпурную одежду и шагнула из нее, как из половинок ракушки. Напряженная фигура в белой хлопковой сорочке без рукавов.
– Давайте выйдем отсюда. – Ее глубокий мягкий голос зазвучал увереннее. Она чуть наклонила голову. – Пойдемте туда, где захоронены другие. Там Стирлинг. Я всегда любила то место. Давайте поговорим в саду.
Она направилась вперед, и только тогда я заметил, что она босая. Край ее сорочки заскользил по полу.
Михаэль поднялся из-за стола и направился за ней. Казалось, он избегает смотреть нам в глаза. Он догнал Ровен и приобнял ее. Мона тут же последовала за ними. Мы прошли через классическую буфетную комнату со шкафами, за длинными стеклами которых грудились изделия из красочного фарфора, потом проследовали через современную кухню, миновали французские двери, спустились по крашеным ступеням и вышли в выложенный камнями просторный внутренний двор.
Перед нами раскинулся огромный восьмиугольный бассейн, за ним горделиво возвышались кабинки. Протяженные известняковые балюстрады окаймляли садовые участки, взрывавшиеся тропическими растениями, а воздух неожиданно заблагоухал ночным жасмином. Слева с массивных изогнутых веток на нас пролился дождь. Громко пели цикады в гуще деревьев. Автомобильный шум мира извне до нас не доходил. Сам местный воздух казался благословенным.
Мона вздохнула, улыбнулась, встряхнула волосами и, быстро что-то бормоча, как колибри с трепещущими крыльями, нырнула в ждущие объятия Квинна.
– Тут все по-прежнему, так чудесно, даже еще лучше, чем в моих воспоминаниях. Ничего не изменилось.
Ровен остановилась, взглянув на проплывающие облака, словно хотела дать Моне время привыкнуть.
На секунду она уставилась на меня. Кровавое дитя. Папка с фактами. Потом на Мону. Потом снова на облака.
– Стоит ли здесь что-нибудь менять? – обращаясь к Моне, спросила она своим низким мелодичным голосом.
– Мы только хранители, – произнес Михаэль. – Когда-нибудь здесь поселятся другие Мэйфейры, когда нас уже давно не будет.
Мы подождали, подтягиваясь друг к другу. Очень взволнованный Квинн. Мона в состоянии нирваны. Я поискал глазами призрак Джулиана. Его нигде не было. Слишком рискованно, когда Михаэль может его увидеть.
Слева из черных железных ворот вышел Стирлинг, чтобы нас встретить. Как всегда – джентльмен в строгом льняном костюме, странно притихший. Ровен бесстрашно пошла вперед, босая, указывая на садик, из которого только что вышел Стирлинг.
На какой-то момент глаза Стирлинга задержались на Моне, для того, чтобы получить информацию, а затем он пошел за Ровен и Михаэлям, возвращаясь обратно.
Мы оказались в мире, непохожем на прежний – с итальянскими балюстрадами и камнями идеальной четырехугольной формы.
Кругом неистовствовали огромные листья со слоновьи уши и те же банановые деревья, под громадным старым дубом притаилась лужайка, на которой обнаружился железный стол и современные железные же стулья, которые, я подозреваю, были удобнее, чем реликвии в моем дворике. Высокая каменная стена окружала местечко со стороны, противоположной воротам, слева тисовые заросли заслоняли его от навеса для автомобилей, а двухэтажные домики прислуги прятали его от мира справа. Само же строение скрывалось от нас за плотно и высоко разросшейся бирючиной. В комнатах прислуги кто-то был. Спал и видел сны. Старая душа. Забудьте.
Влажная земля, случайно выросшие цветы, порхающие в густом летнем воздухе листья, все песни ночи, запах реки в восьми кварталах отсюда протекающей по Ирландскому каналу, со стороны которого слышался прорезающий ночь свисток поезда, предвещавший приглушенное рычание вагонов.
Внезапно умолкли цикады, в то время как лягушки продолжали свое пение, и послышались трели ночных птиц, слышимые только вампиру. Низкие огни по периметру зацементированной дорожки давали зыбкий свет. Такие же маячки были установлены и в других удаленных уголках сада. Прожектора, закрепленные на верхушке дуба, заполняли сцену мягким сиянием. Что касается луны, то она была полной, но таилась за розовой вуалью облаков. Таким образом, мы оказались в глубоком розовом полумраке, а вокруг нас жил и благоухал сад, готовясь впиться в нас тысячами микроскопических ртов.
Вступив на лужайку, я вдохнул запах таинственных существ. Тот запах, который уловил Квинн, когда был мальчиком и шел вслед за призраком дядюшки Джулиана. Я заметил, что Мона также почувствовала запах, благодаря своим усилившимся чувствам.
Ее передернуло, будто от отвращения, а потом она глубоко вздохнула. Квинн наклонился, чтобы поцеловать ее.
Стирлинг расставлял стулья вокруг стола, играя в гостеприимство. Он пытался замаскировать свое изумление при виде Моны. Когда при пугающих обстоятельствах он увидел Квинна в качестве вампира – это было чудом. А потом снова, в ту ночь, когда мы пришли к нему, чтобы сказать, что Меррик больше нет… Но Мона. У него просто не укладывалось в голове. Белая как снег сорочка Ровен скользила по грязи. Она не обращала внимания. Она что-то бормотала или напевала, я не мог разобрать ни слова, тем более понять их значение. Михаэль так смотрел на дуб, будто бы разговаривал с ним. Затем он снял свой измятый белый пиджак. Повесил его на спинку стула. И продолжал смотреть на дерево, будто желая закончить свою беззвучную речь. Этот мужчина напоминал скалу и был восхитительно сложен.
Стирлинг усадил Мону на ее стул и предложил Квинну присаживаться рядом. Я поджидал Ровен и Михаэля.
Внезапно Ровен обернулась и заключила меня в объятия. Она прижалась ко мне так сильно, как может только сметная женщина, вся – льнущий ко мне благословенный шелк и мягкость, и шептала слова, которые я не мог понять. Ее взгляд быстро пробегал по мне, пока я стоял, замерший, как камень, а мое сердце неистово билось. Затем она стала ощупывать меня всего, распростертые ладони на моем лице, в моих волосах, затем взяла мою руку и переплела свои пальцы с моими. В конце концов, она поместила мою руку между своих ног и отстранилась, задрожав всем телом, отпуская меня и глядя мне прямо в глаза. Я едва не лишился рассудка. Есть у кого-нибудь ответ, как мне справиться с последствиями бури в моей душе? Я запер свое сердце в шкатулку. Я наказал его. Я выдержал. Все это время Михаэль не смотрел на нас. Он нашел себе какое-то местечко, спиной к дубу, лицом к Моне и Квинну, и он разговаривал с Моной, заведя старую отеческую пластинку о том, как она мила и прекрасна, и что она его дорогая доченька. Я мог видеть все это краем глаза, а потом, в порыве чистейшего малодушия, я сломал замок и выпустил себе на волю. Я схватил гибкую Ровен и поцеловал ее в лоб, целовал сладчайший бархат ее лба, а потом ее мягкие несопротивляющиеся губы и позволил ее свободным рукам выскользнуть, чтобы наблюдать, как она присаживается на стул рядом с Михаэлем. Тишина. Свершилось.
Я проследовал к другому концу стола и сел рядом с Моной. Я был самым печальным образом переполнен желанием. Не передать словами, что значит так желать кого-либо. Я закрыл глаза и стал прислушиваться к звукам ночи. Ненасытные омерзительные существа пели изумительно. И ходили по мягкой плодородной земле твари настолько отвратительные, что не берусь описать. И нескончаемо громыхали в прибрежной зоне поезда. И чудовищно завывала каллиопа на речной лодке, которая перевозит туристов вверх и вниз по водному пути пока они пируют, смеются, танцуют и поют.
– Сад зла, – прошептал я.
Я отвернулся, как будто ненавидел их всех.
– Что ты сказал? – спросила Ровен.
На мгновение ее глаза перестали лихорадочно блуждать.
Все, кроме поющих монстров, притихли. Монстров с крыльями и с шестью или восьмью лапами или вовсе без лап.
– Это просто фраза, которую я использовал, чтобы описать планету, – сказал я. – В старые временна, когда я ни во что не верил, когда я верил, что единственные законы, это эстетические законы. Но я был молод и едва рожден для крови, и глуп, потому что ожидал еще чудес. Пока я не понял, что мы все больше узнаем ни о чем и не узнаем ничего. Иногда я снова вспоминаю фразу, когда выдается ночь, как эта, такая же неожиданно прекрасная.
– А сейчас ты во что-нибудь веришь? – спросил Михаэль.
– Ты меня удивляешь, – сказал я. – Я думал, что ты ожидаешь, что я все знаю. Так обычно думают смертные.
Михаэль тряхнул головой.
– У меня ощущение, что ты постигаешь мир, ступень за ступенью, как большинство из нас.
Его взгляд перекинулся на банановые деревья за моей спиной.
Казалось, он тоже был поглощен ночью и глубоко страдал от мыслей, которых у меня не было надежды из него вытянуть. И он не собирался показывать, что страдает. Это ранило.
Просто его переживания стали слишком значительными, чтобы он мог их скрывать, и его сознание волновалось, едва не нарушая правила хорошего тона.
Мона боролась со слезами. Конечно же, это место, со скрытым садиком, хорошо спрятанным от улиц Садового квартала с его перенаселенными домами, было для нее священным.
Ее правая рука скользнула в мою левую руку. Ее левая рука находилась в ладони Квинна, и я знал, она ухватилась за него так же крепко, как за меня, снова и снова пытаясь обрести уверенность.
Что касается моего возлюбленного Квинна, то он испытывал жесточайший дискомфорт и неуверенность во всем. С чувством неловкости он изучал Ровен и Михаэля. Ему еще никогда не доводилось находиться в обществе такого количества смертных, которые знали, кто он. На самом деле он был с таким смертным лишь однажды, и этим смертным был Стирлинг. Он тоже чувствовал присутствие пожилой души в комнате прислуги. Это ему не нравилось.
Стирлинг же, правильно догадавшись, что разоблачение свершилось, что Ровен смягчилась и погрузилась в мысли, похоже, испытывал стреноженный гордостью страх.
Он находился слева от меня, на значительном расстоянии, и смотрел на Ровен.
– Во что ты веришь теперь? – нетвердо, но настойчиво спросила меня Мона. – Я хотела сказать, что если старая версия с садом зла оказалась неверной, что ее заменило?
– Верю в Создателя, – ответил я. – В того, кто соединил это все вместе, с любовью и смыслом. Как иначе?
– Аминь, – со вздохом сказал Михаэль. – Кто-то, кто лучше нас, должен быть, кто-то, кто лучше любого существа на Земле, кто-то проявляющий сострадание…
– Ты проявишь сострадание к нам? – спросил Квинн. Это было резко.
Он смотрел прямо на Михаэля.
– Я хочу, чтобы вы сберегли мой секрет так же, как и секрет Моны.
– Твоя проблема в том, что ты думаешь, что все еще человек, – ответил Михаэль. – Твой секрет в полнейшей безопасности. И именно так, как ты хочешь. Переждите ради на всякий случай некоторое время. Потом Мона может вернуться в семью. Абсолютно нет никаких препятствий.
– Тебе это кажется удивительно простым, – подозрительно сказал Квинн. – Почему так?
Михаэль коротко и горько рассмеялся.
– Вам необходимо понять, кто такие Талтосы и что они с нами сделали, – негромко сказала Ровен. – И что я сделала с одним из них, слишком быстро, слишком неосмотрительно.
Ее глаза затмились воспоминаниями.
– Я не знаю и не понимаю, – сказал Квинн. – Я думаю, Лестат подразумевал, что мы обменяемся секретами. Есть вещи, которые Мона просто не в состоянии объяснить. Они для нее слишком мучительны. В них замешаны вы. Получилось, что она будто связана клятвами и не может освободиться. Ясно лишь одно. Она хочет найти свою дочь, Морриган.
– Я не знаю, сможем ли мы помочь, – сказал Михаэль.
– Я теперь сама смогу разыскать Морриган, – запротестовала Мона. – Я теперь снова полна сил.
Ее рука сжала мою ладонь.
– Но вы должны рассказать мне то, что я должна знать. Два года я пролежала в постели, растерянная и безумная. Я до сих пор не пришла в себя. Я не понимаю, почему вы так и не нашли мою дочь.
– Мы пройдем через это снова, – сказал Михаэль успокоительно.
Ровен что-то бормотала себе под нос. Потом вернулась к реальности; ее взгляд, неуверенный и рассредоточенный, как по пустому пространству заскользил по столу.
– Я знаю о вас, – сказала она. Ее слова вырвались с шипящим звуком и прозвучали вкрадчиво. – Я имею в виду о том, кто вы – Кровавые дети. Охотники за кровью. Вампиры. Я знала. Это было не просто. И Михаэль знал. Знание приходило постепенно.
Она посмотрела прямо на меня, впервые с тех пор, как заговорила.
– Я видела одного из вашего племени. Он шел по кварталу. Это был мужчина. С черными волосами, очень красивый. Казалось, он ничего не замечает вокруг. Он будто бы кого-то искал. Меня охватило парализующее двойственное чувство: я чувствовала влечение к нему и в то же время я его боялась. Вы знаете мои силы. Они не развиты так, как могли бы. Я ведьма, которая не хочет быть ведьмой, безумный ученый, который не хочет быть безумным. Я хотела разузнать о нем. Я хотела последовать за ним. Это было очень давно. Никогда не забуду. Знать, что он не человек, но и не призрак. Не знаю, рассказывала ли я о нем кому-нибудь.
– А потом из Таламаски пропала та женщина. Ее звали Меррик Мэйфейр. Происходящая из той ветви цветных Мэйфейров, которые поселились в деловой части. Не могу вспомнить. Думаю, это была Лили Мэйфейр. Или Лорен? Я не выношу Лорен. У нее порочный склад ума. Лорен, которая рассказывала мне, что среди Мэйфейров есть немало цветных, но эта Мэррик не была близка ни с одним из них. У этой Мэррик были выдающиеся экстрасенсорные способности. Она знала о нас, о компании с Первой улицы, но действительно не хотела пересекаться. Большую часть своей жизни она провела в Таламаске и мы практически ничего о ней не знали. Мэйфейры ненавидят, когда они не знают о Мэйфейрах. Лорен рассказывала, что как-то, когда в доме проходил праздничный прием, пришла Мэррик, ты знаешь, тот бенефис в честь защитников, после того, как Михаэль все отреставрировал, после того, как прошли плохие времена и до того, как Мона действительно серьезно заболела. Эта женщина, Меррик, она проходила по Первой улице вместе с туристами. Только представьте, лишь для того, чтобы увидеть центр. Но нас там не было. Мы не знали.








