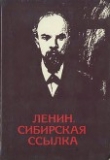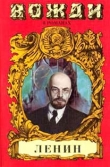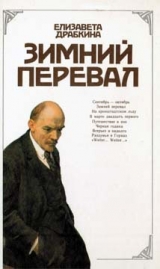
Текст книги "Зимний перевал"
Автор книги: Елизавета Драбкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
С естественной простотой, источником которой была его постоянная близость к народу, Ленин пересыпал свою речь обыденными словами, оборотами, выражениями, что делало ее особенно впечатляющей: «плохенький», «малюсенький», «загвоздка», «навоз», «шумиха», «трескотня», «бестолковщина и безалаберщина», «сутолока, суматоха и ерунда», «деляги и мошенники», «пересол», «гвоздь вопроса», «у нас направо и налево махают приказами и декретами, и выходит совсем не то, чего хотят», «погрязнем, потонем в мелких интригах», «откуда это вытекает? Это ниоткуда не вытекает», «либо мы это докажем, либо он нас пошлет ко всем чертям»… А рядом с этими словами и оборотами, почерпнутыми из обиходной русской речи, прибегал к словечкам, которые придумывал сам, подтрунивая при этом над тем, до чего довели всяческие сокращения великий русский язык.
Если попытаться свести к сжатому пересказу все богатство поставленных Лениным вопросов и выплывавших из них обобщений и выводов, то он говорил в этом своем докладе о Генуэзской конференции («Мы себя в обиду не дадим. Нас не побили – и не побьют, и не обманут») и об итогах первого года новой экономической политики. Снова и снова подчеркивал, что новая экономическая политика важна нам прежде всего как проверка того, что мы действительно достигли смычки между социалистической работой по крупной промышленности и сельскому хозяйству с той работой, которой занят каждый крестьянин.
«Надо показать эту смычку, чтобы мы ее ясно видели, – подчеркивал он, – чтобы весь народ ее видел и чтобы вся крестьянская масса видела, что между ее тяжелой, неслыханно разоренной, неслыханно нищенской, мучительной жизнью теперь и той работой, которую ведут во имя отдаленных социалистических идеалов, есть связь… Наша цель – восстановить смычку, доказать крестьянину делами, что мы умеем ему помочь, что коммунисты… ему сейчас помогают на деле… Вот какой экзамен на нас неминуемо надвигается, и он, этот экзамен, все решит в последнем счете: и судьбу нэпа и судьбу коммунистической власти в России.
Но достичь этого, напоминал Ленин, можно, лишь умея хозяйничать. А мы хозяйничать умеем? Нет, отвечал Ленин, мы хозяйничать не умеем.
Не страшась самой горькой правды, он обрушивался на обломовщину, с одной стороны, а с другой – на тягу к администрированию и реорганизациям, при которых „все суетятся, получается кутерьма; практического дела никто не делает, а все рассуждают…“».
Вот тут-то и рождались его бичующие словечки о «комкуклах», «комчванстве», «комспеси», «сладеньком комвранье», от которого «тошнит».
– …В новом, необыкновенно трудном деле надо уметь начинать сначала несколько раз, – говорил он, – начали, уперлись в тупик – начинай снова, – и так десять раз переделывай, но добейся своего, не важничай, не чванься, что ты коммунист…
Требовал от партии бережного отношения к людям, к их труду и творческим возможностям. Ко всем, даже к бывшим буржуям.
– Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам, обезвредим и доконаем, – говорил он. – А у нас, в Москве, из ответственных работников около 90 человек из 100 воображают, что в этом все дело, т. е. в том, чтобы доконать, обезвредить, ударить по рукам.
И ставил всем в пример замечательного весьегонского коммуниста Александра Ивановича Тодорского, рассказавшего в своей книге «Год – с винтовкой и плугом», как он в восемнадцатом году, приступая к оборудованию двух советских заводов, привлек к работе бывших буржуев.
Среди представителей печати, присутствовавших на Одиннадцатом съезде партии, находился Максимилиан Гарден, которого звали «великаном» германской публицистики. Не коммунист, не социал-демократ, но левый радикал, он прославился смелыми разоблачениями германской придворной среды и верхов буржуазии и был героем нескольких судебных процессов. Германские фашисты не могли ему этого простить и в середине двадцатых годов пытались убить его.
По духу, по темпераменту, по мировоззрению он принадлежал к породе обличителей. Статьи его исполнены насмешкой, гневом, сарказмом. То, что он пишет о Ленине, – это в его деятельности редкое, может быть, даже единственное исключение.
«Тот самый Ленин, – пишет он, – который немилосердно высмеял призыв Струве „идти на выучку к капитализму“, произнес, при совершенно другой обстановке, можно сказать, под другим небом, знаменитые слова: у каждого дюжинного приказчика мы можем и должны учиться. Он никогда не был более великим, чем в этой своей речи на Одиннадцатом съезде партии, в этой величественно-жестокой откровенности своего признания… Червь болезни уже подтачивал его тогда, но, прежде чем закатилось солнце его мысли, небо еще раз засияло под его лучами, – и не было еще утра, не было еще полдня с таким ослепительным блеском…»
Снова и снова повторял Ленин мысль, что построить коммунистическое общество руками одних только коммунистов невозможно. С презрением отзывался о тех, кто думают о народе свысока, – неразвитой, мол, народ, не учился, мол, коммунизму.
– Нет, извините, – отвечал на это Ленин, – не в том дело, что крестьянин, беспартийный рабочий не учились коммунизму, а в том дело, что миновали времена, когда нужно было развить программу и призвать народ к выполнению этой великой программы. Это время прошло, теперь нужно доказать, что вы при нынешнем трудном положении умеете практически помочь хозяйству рабочего и мужика…
Несколько раз возникает в его речи любимый им образ цепи и ее звеньев:
– Политические события всегда очень запутанны и сложны, – говорил он. – Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено.
Но чем-то этот образ его не удовлетворяет. Он ищет другой. Находит. Записывает в план речи: «Гвоздь момента» (звено цепи)…
В различной связи, поворачивая то так, то этак, возвращается он к этому образу, чтоб в речи при закрытии съезда сказать:
– Весь гвоздь теперь в том, чтобы авангард не побоялся поработать над самим собой, переделать самого себя, признать открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное уменье. Весь гвоздь в том, чтобы двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой, не иначе как вместе с крестьянством, доказывая ему делом, практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать, его вести вперед. Такую задачу при данном международном положении, при данном состоянии производительных сил России можно решить, лишь решая ее очень медленно, осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый свой шаг…
Партия в целом поняла и делами теперь докажет, что поняла необходимость построить в данный момент свою работу именно так и только так. А раз мы это поняли, мы сумеем добиться своей цели!
Газета, в которой был напечатан отчет о речи Ленина на Одиннадцатом съезде, дошла до села Гладкие Выселки Михайловского уезда Рязанской губернии. Там ее прочел крестьянин И. Перепухов. Первой мыслью его было: «Достукались коммунисты! И возрадуются же кулаки и попы, когда узнают, как Ленин их начистил…» А потом поразмыслил и решил: так и надо, правильно. Правильно поступает Ленин, когда открыто, честно признает, что за первый год хозяйствования коммунисты не научились вести хозяйство хотя бы не хуже, чем вели его капиталисты. Ну а мы, крестьяне, которые хозяйствуем на земле не один год, а многие века, мы-то научились вести хозяйство как следует?
Все эти мысли и вопросы так взволновали И. Перепухова, что он решил написать о них в «Бедноту».
– Пусть Владимир Ильич ругает коммунистов, – писал он. – Пусть учит. На то у него право. Был бы от этой учебы прок!
Я пытаюсь вспомнить Ленина, каким он был на этом съезде, – я видела его тогда в последний раз. Свидетельствовало ли хоть что-нибудь о его болезни? Нет, решительно нет!
Он был такой же, как всегда, быстрый, подвижный, веселый.
И съезд был веселый, хотя кругом еще стоял густой частокол опасностей и трудностей.
Почему ж так было? Думается мне, потому, что как ни полна была речь Владимира Ильича суровой, хлещущей правды, но ее «подпочвой», говоря словами Ленина, была мысль, которую он уже высказал незадолго до того и снова повторил на съезде и которая для всех нас была так же радостна, как победа в боях гражданской войны: отступление окончено!
Та цель, которая преследовалась отступлением, была достигнута. Маневр отступления для будущего наступления – отступить, чтоб получить разбег для нового прыжка, – завершен.
Подводя итог этому отступлению, Ленин писал: «Вполне достаточно у нас средств для победы в нэпе:и политических и экономических. Вопрос „только“в культурности!»
И отсюда следовало:
«…Наше экономическое отступление мы теперь можем остановить. Достаточно. Дальше назад мы не пойдем…»
В самом ритме этих слов заложен веселый звон:
«Дальше назад мы не пойдем».
Мне вспоминается теплый синий вечер, полный многоголосого шума. Любимое место Москвы, которое на тогдашнем «телеграфном» языке молодежи называлось: «Твербуль у Пампуша» (Тверской бульвар у памятника Пушкину). Церковный благовест. Слабый запах весны.
Только что мы устроили у себя в студенческом общежитии роскошный пир: в складчину купили на два миллиона рублей селедок, на миллион заварку чая, на три миллиона белого хлеба. Пир на весь мир в честь того, что отступление окончено и дальше назад мы не пойдем!
Счастливые и сытые сидим на Твербуле у Пампуша. С добродушным презрением посмеиваемся над проплывающими мимо нас нэпманами. Раскачиваемся в такт перезвону колоколов ближней церкви. Не стесняясь Пушкина, который глядит на нас с высоты своего величия, складываем строфы чего-то, что, как и «все церковное», именуем «акафистом»:
Радуйся диалектике Гегеля, тобой углубленной,
с головы на ноги установленной,
Радуйся, о Марксе, чудотворец великий?
Радуйся, Энгельс, брадатого Маркса вернейший сподвижник.
Радуйся ты, о Ильич, великий и мудрый,
к Октябрю нас победно приведший.
Нэп породивший, но нэпову скверну аду предавший.
Политически и поэтически весьма малограмотно. Но нашим чувствам вполне соответствует…
Раздумья в Горках
1
Врачи требовали, чтобы Владимир Ильич немедленно прекратил работу и уехал отдыхать. Он соглашался, но откладывал отъезд «на денек», «еще на денек», «еще на два денька» – вот только распределит обязанности между своими заместителями и договорится о том, как они будут работать, да напишет телеграмму Чичерину, который ведет переговоры в Генуе, и письмо Сокольникову по вопросам финансовой политики, и дополнения к проекту «Вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР», и подготовит решения о мерах для развития радиотехники, и приведет в порядок свои бумаги, и даст последние распоряжения секретарям. О чем? Да о присылке ему в Горки книг и газет. «Но вы же обещали, что совершенно не будете работать!» – «А разве чтение – работа?»
Уже миновала середина мая, а Владимир Ильич все еще был в городе. Настал, однако, день, когда откладывать дальше было невозможно, – и он уехал в Горки.
Впервые он провел около трех недель в Горках осенью восемнадцатого года, после совершенного на его жизнь покушения.
Близкие товарищи считали, что только начинавшего оправляться от ран Владимира Ильича следует увезти из Москвы. Но куда?
Сначала предполагали поступить примерно так же, как за год до того, когда Владимиру Ильичу угрожала расправа со стороны Временного правительства: поселить под видом приезжего родственника в деревне у какого-нибудь надежного крестьянина или же в семье рабочего в одном из подмосковных рабочих поселков. Зная спартанские привычки и неприхотливость Владимира Ильича, товарищи были уверены, что это ему понравится. Но беспокоил связанный с таким решением риск: Владимир Ильич много раз выступал на массовых митингах, его знали в лицо и могли опознать. После долгих поисков и раздумий план был изменен: решено было подыскать бывшее помещичье имение, устроить в нем совхоз или сельскохозяйственную коммуну, обеспечить охрану и поселить там Владимира Ильича.
Выбор пал на Горки – бывшее имение царского генерала Рейнбота. Дом привели в порядок, убрали. Но когда Владимиру Ильичу предложили туда переехать, он наотрез отказался и заявил, что, во-первых, он вообще не собирается уезжать из Москвы, во-вторых, он не желает жить в барском доме, в-третьих…
Переубедить его стоило большого труда. Решил довод, к которому прибег Свердлов: в тысяча девятьсот пятом году в Горках, которые тогда принадлежали Савве Морозову, скрывался одно время Николай Эрнестович Бауман. Владимир Ильич дал согласие на переезд, но при условии, что будет жить не в самом доме, а в боковом флигеле. Только много времени спустя он уступил настояниям и стал жить в главном здании, которое было прозвано Большим домом.
Этот Большой дом он не любил, особенно невзлюбил он большие комнаты второго этажа с их купеческой претенциозной роскошью. А парк и окрестности ему полюбились.
Быть может, высокая гора, холмы и волнистая равнина, чувство пространства и открытого воздуха, развернутые дали, уходящие за край небес, запущенный парк, крутые, заросшие кустарником склоны – все это напоминало ему Симбирск, «Старый Венец», обрыв к Волге, широкие просторы Заволжья. Недаром в семье Ульяновых беседку у обрыва в Горках прозвали «Венцом».
Ленин привязался к Горкам. Много раз приезжал сюда поработать, побродить среди полей и лесов.
И нигде так не чувствуешь Ленина-человека, нигде так о нем не думается, как здесь, в Горках.
В тот год Владимир Ильич приехал в Горки на все лето. И едва приехал, его обступили воспоминания.
Обступили, не могли не обступить. Ибо его приезд в Горки совпал с тридцать пятой годовщиной со дня казни его старшего брата Александра Ильича Ульянова.
Сколько прошло уже лет, а рана не зарубцовывалась: слишком велика была утрата, трагичны обстоятельства, невозвратен тот, кого потеряли. И когда прошло еще пять лет и настала сороковая годовщина гибели Александра Ильича, старшая в семье – Анна Ильинична писала, что и теперь ей все еще трудно глубоко ворошить прошлое, трудно запечатлеть его на бумаге, и если личные переживания придают обычно повествованию живость и наглядность, то острое и больное чувство, которое она испытывает при мысли об Александре Ильиче, сковывает язык и делает рассказ мучительным.
В ряду годовщин со дня казни Александра Ильича тридцать пятая была одной из самых тяжких, самых мучительных, так как в канун ее семья Ульяновых впервые познакомилась с подлинными судебными и жандармскими документами по делу погибшего брата.
Эти документы были доставлены в Москву, в только что созданный или только еще создававшийся Архив Октябрьской революции. Года три спустя я слышала рассказ Михаила Степановича Ольминского о том, как Владимир Ильич вместе с сестрами и с Надеждой Константиновной пришел в этот архив, помещавшийся в старинном доме, на месте которого высится теперь новое здание Библиотеки им. В. И. Ленина. Владимир Ильич вошел очень бледный, в каждом движении его чувствовалась сдерживаемая тревога. Заранее приготовленные документы лежали на столе. Хотя Владимир Ильич знал о том, что его ожидает, он вздрогнул, увидев переплетенный том, на котором писарским почерком с завитушками было выведено: «ДЕЛО 1 МАРТА 1887 ГОДА», и не мог сразу раскрыть этот том; помедлил, подержал в руках, видимо, сделав над собой усилие, чтоб подавить волнение, и лишь потом раскрыл его. И по мере того, как он вчитывался в страницы этого дела, он бледнел и бледнел, и, как выразился Ольминский, стоявшие рядом буквально физически чувствовали, как у него перехватывает дыхание.
В семье Ульяновых об Александре Ильиче старались не говорить. «Все мы держались после нашего несчастья тем, что щадили друг друга, – писала Анна Ильинична. – А потом я совсем не могла первые годы говорить о Саше, разве только с матерью». И даже несколько лет спустя в разговоре с И. X. Лалаянцем, на его вопрос о деле Александра Ильича, Владимир Ильич сказал: «Для всех нас его участие в террористическом акте было совершенно неожиданным. Может быть, сестра знала что-нибудь, – я ничего не знал…» Следовательно, Владимир Ильич даже не знал, что и сестру, жившую в то время в Петербурге и арестованную в связи с делом брата, Александр Ильич не посвятил в свой замысел.
Но как ни сдержанны были мать и сестра, кое-что они рассказали. Кроме того, Владимир Ильич знал о деле брата и не от них.
Еще до того как Мария Александровна вернулась в Симбирск после казни Александра Ильича, было опубликовано «Правительственное сообщение о деле 1 марта 1887 г.», в котором говорилось об «обнаруженном 1 марта злоумышлении на жизнь Священной Особы Государя Императора» и об арестованных по этому делу, кои, «принадлежа к преступному сообществу, стремящемуся ниспровергнуть, путем насильственного переворота, существующий государственный и общественный строй… согласились между собой посягнуть на жизнь Священной Особы… Ульянов принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению…». И страшные заключительные строки: «Приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената о смертной казни через повешение над осужденными… приведен в исполнение 8 сего мая 1887 года».
Несмотря на полицейские рогатки, в общество просочились подробности суда. Присутствовавшие на нем рассказывали про то, что видели. Рассказывали об Александре Ульянове, речь которого по силе приравнивали к речи Желябова на судебном процессе по делу первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Потом с далекой сибирской каторги пришло несколько писем однодельцев Александра Ильича. А в тысяча девятьсот пятом году из Шлиссельбурга вышли узники, осужденные по этому делу, и рассказали новые его подробности.
Но все это – одно, а подлинные документы, подлинные протоколы допросов, подлинные, посмертно прочтенные, показания, написанные родной рукой, – иное. Одно дело знать об аресте брата, другое – увидеть воочию, каким образом чудовищное легкомыслие одного из участников тайного общества позволило полиции напасть на его след и обрекло на гибель самого виновника провала и его сотоварищей. Одно – сознавать умом, что брат прошел, должен был пройти следствие, был судим, казнен, другое – читать страницу за страницей изложенные жандармским слогом бумаги и собственными глазами видеть, как пришла в действие полицейская машина, как захватила она любимого брата, втолкнула его в каземат Петропавловской крепости, дотащила до эшафота и затянула петлю на его шее.
Все больше и больше бледнея, Владимир Ильич вчитывался в страницы, исписанные порыжевшими от времени чернилами. Департамент полиции перехватил подозрительное письмо… За участниками тайного общества установлено неусыпное наблюдение… Среди подозрительных лиц департамент полиции называет Александра Ульянова… На Невском проспекте арестованы метальщики… При них обнаружены бомбы…
И показания двух трусов, в первый же день предающих всех, кого они знали, в том числе Александра Ульянова.
И протокол первого допроса Александра Ильича: «1887 года. Марта 3 дня, я, Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов… расспрашивал нижепоименованного, который показал:
Зовут меня Александр Ильич Ульянов, от роду имею 20 лет 11 месяцев… холост; отец мой умер; мать моя Мария Александровна Ульянова проживает в г. Симбирске; имею двух братьев: Владимира, ученика Симбирской классической гимназии VIII класса, Дмитрия, ученика той же гимназии…»
Таковы трагические обстоятельства, при которых имя Владимира Ильича впервые попало на страницы жандармских дел. (Заметим в скобках, что впоследствии, когда Владимир Ильич вступил на путь революционной борьбы, жандармы в течение нескольких лет сопровождали каждое упоминание его имени пояснением: «брат казненного» или «брат повешенного». Но в какой-то момент перестали: видать, до их понимания дошло, что Владимир Ильич самостоятельная революционная величина, притом преогромнейшая.)
Но вот «Отдельного Корпуса Жандармов Ротмистр Лютов» заполнил анкетные данные и приступил к самому допросу. Мы не знаем, что именно он спрашивал, в протокол занесены лишь записанные Лютовым слова Александра Ильича: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь Государя Императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».
Владимиру Ильичу, разумеется, сразу стала ясна скрытая за этими скупыми строками трагедия, которую пережил на первом же допросе его брат: по вопросам жандармского ротмистра Александр Ульянов понял, что кто-то, находившийся близко к центру тайной организации, оказался предателем. И он решил оттянуть время, чтоб все обдумать и определить линию своего поведения.
А дальше лист за листом перед глазами Владимира Ильича разворачивалась эта трагедия: героическое поведение одних, предательство других, уклончивая осторожность третьих.
Александр Ульянов среди героев. О нем можно сказать словами его же речи на суде: он принадлежит к тем, для кого «не составляет жертвы умереть за свое дело».
Какую боль должен был испытать Владимир Ильич, когда, перелистывая страницы дела, он дошел до показаний, написанных знакомым почерком брата, когда прочел эти показания, в которых Александр Ильич, чтобы спасти тех, чье участие в подготовке покушения на царя выплыло только благодаря показаниям двух предателей, взял на себя все, что им инкриминировалось. И непреклонные слова Александра Ильича: «Ни о каких лицах, а равно о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове, Осипанове и Лукашевиче никаких объяснений в настоящее время давать не желаю». И последние строки последних показаний на последнем допросе Александра Ильича, последние в его короткой жизни строки, в которых он, прекрасно понимая, что подписывает этим себе смертный приговор, твердым почерком написал:
«В заключение я хочу более точно определить мое участие во всем настоящем деле…
Мне, одному из первых, принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации, в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и проч.
Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, т. е. все то, которое доставляли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений…»
А потом – суд, обвинительный акт, отказ Александра Ульянова от защитника, его допрос, его речь на суде, слова, которые он шепнул сидевшему рядом с ним на скамье подсудимых Лукашевичу: «Если вам будет нужно, говорите на меня…» И приговор. И завершающая дело очередная казенная бумага, страшная и омерзительная, как все ей подобные:
«Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору Особого Присутствия Правительствующего Сената, 15/19 минувшего Апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники…
При объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в 3 1/ 2часа утра о предстоящем приведении приговора в исполнение, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди и принятия св. тайн…
Первоначально выведены для свершения казни Генералов, Андреюшкин и Осипанов… По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников были выведены Шевырев и Ульянов, которые так же бодро и спокойно вошли на эшафот…»
В семье Ульяновых дети росли и дружили близкими по возрасту парами: Анна и Александр, Ольга и Владимир, Мария и Дмитрий. Естественно, что выполнение долга перед памятью брата взяла на себя старшая сестра. Анна Ильинична писала о нем и собирала воспоминания тех, кто его знал, первой в семье ознакомилась она со следственным и судебным делом, к тридцатипятилетию гибели брата она хотела выпустить в свет его биографию.
Сделать это не удалось. Поэтому в годовщину казни одна страница «Правды» была посвящена делу Первого марта тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, Александру Ульянову, каким он запомнился встретившим его в последний раз Чеботареву и Бартеневу – с вдохновенным лицом, освещенным каким-то внутренним светом, лицом человека, обрекшего себя на смерть. В ней рассказывалось о последней ночи, проведенной Александром Ульяновым в Петропавловской крепости, где чадила небольшая керосиновая лампа, с трудом разгонявшая мрак, и одноделец Александра Ульянова Новорусский, прислушиваясь к доносившемуся через стену лязгу железа, вдруг услыхал гулко и глухо отозвавшиеся под сводами шаги и звон кандалов.
Провели первого закованного, за ним второго, затем третьего, четвертого и пятого. Их вели, вероятно, в том же порядке, в каком они были перечислены в смертном приговоре: первым – Шевырева, вторым – Ульянова…
Звон кандалов был последним звуком, донесшимся от Александра Ильича Ульянова до слуха его друзей. Когда осужденных на смерть доставили в Шлиссельбург, как ни вслушивались другие шлиссельбургские узники, они ничего не услышали: эшафот был сооружен за пределами тюремного двора и доставлен к месту казни в разобранном виде. Там, во дворе, у входа в старое здание, его установили без рубки и стука, и на рассвете, когда тюрьма спала, вывели осужденных и так же без звука лишили их жизни.
Все эти страшные подробности Владимир Ильич узнал накануне тридцать пятой годовщины казни старшего брата.
Годовщина эта была двадцатого мая.
В Горки Владимир Ильич переехал двадцать третьего мая.
А двадцать пятого мая у него произошел первый удар.
2
Больной оставался в тяжелом состоянии около недели. Врачи предписали ему абсолютный покой.
Он лежал на втором этаже северного флигеля в маленькой угловой комнате, одно окно которой выходит на запад, а второе – на север. Даже в солнечные дни в этой комнате полутемно: свет затеняют сетки от комаров и большие деревья, растущие под окнами. В ней очень тихо, лишь иногда тишину нарушают какие-то неопределенные звуки, чьи-то голоса, стук колес на дальней дороге, мычание коровы за лесом, кваканье лягушек над прудом. Какими длинными должны были быть бессонные ночи!
Постепенно Владимир Ильич стал чувствовать себя физически лучше. Но пришло понимание истинного характера болезни. Именно в эти дни он, постаравшись остаться наедине с приехавшим осмотреть его глаза профессором Авербахом, к которому испытывал особое доверие, задал столь мучивший его вопрос: паралич ли это, пойдет ли он дальше?
Вспоминая уже после смерти Владимира Ильича этот разговор, профессор Авербах говорил:
– Я уехал с тяжелым чувством, сопровождаемый всяческими проявлениями внимания к касающимся меня мелочам со стороны этого большого человека, который, чувствуя уже возможность своего конца, ясно уже ощущал с невыносимой болью невозможность видеть дальнейший рост своего великого дела, выстраданного всей жизнью.
Ночь, долгая ночь. Окно, слабо вырисовывающееся на фоне чуть подрумяненного закатом неба. Дежурящая ночи напролет Надежда Константиновна.
Если бы я умела писать о любви, я написала бы об этой любви. Любви, которая зародилась во время встреч на нелегальных собраниях, первые слова которой и решающее объяснение с предложением стать мужем и женой были написаны «химией» – невидимыми чернилами, проступающими, когда их нагревают над лампой или свечой, – и пересланы только что выпущенным из тюрьмы Владимиром Ильичем сидевшей в тюрьме Надежде Константиновне. Любви, озаренной романтикой поднимающейся рабочей революции, счастьем совместной борьбы, взаимным пониманием по одному слову, вздоху, молчанию.
Именно любви!
Как рассердилась Надежда Константиновна, когда некий бумагомаратель прислал ей свое сочинение, в котором, описывая ее приезд в Шушенское, изображал дело так, что, едва она приехала, они с Владимиром Ильичем уселись за перевод книги Веббов и все время только и делали, что корпели над этим переводом.
– Ведь мы же молодожены были, была поэзия, молодая страсть, а он заладил одно: «Вебб! Вебб!»…
Свой рассказ об этой любви я назвала бы «Зеленая лампа». В честь той лампы, которую Надежда Константиновна привезла Владимиру Ильичу в сибирскую ссылку.
Представьте себе Россию прошлого века, вымощенные булыжником улицы Петербурга, дребезжащую извозчичью пролетку, такие же дребезжащие, подпрыгивающие вагоны железной дороги, бесконечный путь в Сибирь по недостроенной еще Транссибирской магистрали, пересадки с поезда на поезд, с поезда на паром, с парома на поезд, на извозчичью пролетку, пароход, крестьянскую телегу – все это в пыли, бестолковщине, сутолоке. И представьте себе молодую женщину, которая совершает этот многодневный путь, не выпуская почти ни на минуту из рук тяжелую медную лампу с зеленым стеклянным абажуром, и благополучно довозит эту лампу до далекого Шушенского!
И так вся жизнь: долгий путь, бесконечные препятствия, борьба за нелегальную партию, за революцию – и проходящая через всю жизнь любовь…
Мой друг Ваня Троицкий, который в восемнадцатом или в девятнадцатом году был курсантом Кремлевских курсов, рассказал мне, что однажды, когда он поздно вечером дежурил на посту у квартиры Ленина в Кремле, Владимир Ильич попросил его, как только он услышит внизу на лестнице шаги Надежды Константиновны, задержавшейся на каком-то заседании, постучать в дверь и позвать его.
Ваня вслушивался в ночную тишину. Все было тихо. Но вдруг растворилась дверь квартиры, и быстро вышел Владимир Ильич.
– Никого нет, – сказал Ваня.
Владимир Ильич сделал ему знак:
– Идет, – прошептал он заговорщическим шепотом и сбежал вниз по лестнице, чтоб встретить Надежду Константиновну. Она шла, ступая совсем тихо, но он все же услыхал.
Бывают в человеческой жизни события, которые словно бы и необязательны, но, раз случившись, приобретают особый, глубокий смысл.
Так первым самостоятельным шагом той, которой суждено было пройти жизнь вместе с Лениным, было письмо к Льву Николаевичу Толстому.
Ей было тогда восемнадцать лет. Письмо ее было откликом на обращенный к молодежи призыв Толстого помочь исправлению и улучшению издания книг для народа.
Она подготовила для печати одну книгу, это был «Граф Монте-Кристо». На этом участие Надежды Константиновны в издательских начинаниях Толстого кончилось: ее влекли иные пути, иные формы действия, чем те, к которым звал яснополянский мудрец. Но даже в самый разгар напряженнейшей политической борьбы, в ноябре семнадцатого года, она писала Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову: «…теперь, когда живешь с массой, часто переживаешь такое чувство, точно присутствуешь при тайне одухотворения, очеловечения жизни масс. И мне ужасно жаль, что нет художника настоящего, который мог бы в художественном произведении отразить этот процесс. И так жалеешь, что нет в живых Льва Николаевича!»