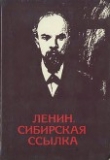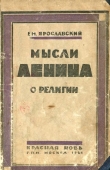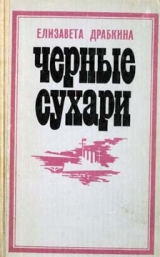
Текст книги "Черные сухари"
Автор книги: Елизавета Драбкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
У Кремлевской стены
И снова Москва! Июль девятнадцатого года. Солнце, жара… Поперек Охотного ряда протянут плакат Всевобуча: «Тогда лишь гражданин чего-нибудь достоин, когда он гражданин и воин!» Газеты зовут: «Все на борьбу с Деникиным!»
По мощенной булыжником, узкой, горбатой Тверской спускаются двое. Один – маленький, верткий, живой, в матросской шапочке с ярко-красным помпоном. Второй – огромный, темнокожий, курчавый, в малиновой феске. Первый – француз, второй – негр.
Они не спешат, глазеют по сторонам. На углу, около «Националя», остановились, явно не зная, куда идти. Навстречу им засеменила какая-то дама «из бывших», с сумочкой, расшитой черным стеклярусом. На устах ее порхает жантильнейшая улыбка, губки бантиком. Видно, что она намерена завести с ними разговор.
Я бросаюсь наперерез:
– Camarades!
Они радостно оборачиваются ко мне и в один голос восклицают:
– О, туоваристшшш!
Это были матрос и солдат с восставшего в Черном море французского крейсера «Мирабо». По приказу союзного главнокомандования крейсер был направлен в Одессу с транспортом оружия и «цветных» войск для деникинской армии. Но на одесском рейде команда взбунтовалась и подняла красный флаг, заявив, что она не желает помогать войне против своих русских товарищей. Офицеры уговаривали: «Давайте выгрузим военное снаряжение и черномазых. Выгрузим и уйдем». Но команда не подчинилась. Часть матросов сошла на берег и не вернулась более на корабль. За ними последовали и негры. Офицерам пришлось самим развести пары и увести корабль во Францию.
И вот товарищи с «Мирабо» приехали в Москву и шли по ее улицам. Их все восхищало, все приводило в восторг: и плакат, который изображал поддетого на красноармейский штык Колчака; и разрисованные футуристами деревянные ларьки в Охотном ряду; и выставленный в витрине магазина (чтоб знали граждане, что бога нет!) муляж человеческих печенок и селезенок.
Особенно темпераментно выражал свои чувства француз. Он то и дело повторял: «О, Москва! О, прекрасный город Москва!»
Они оба – и экспансивный француз, и негр с его великолепной фигурой, бронзовой кожей и прикрепленными к феске зелеными и красными ленточками – были так ярки и красочны, что я не утерпела и написала об этой встрече первую в своей жизни заметку в газету. Начиналась она словами: «Раскаленное июльское солнце плыло над Москвой…» Товарищ в редакции, читая ее, бормотал: «Травка зеленеет, солнышко блестит». Потом он вычеркнул упоминание о солнце, вставил: «Моросил дождь…» – и написал: «В набор». Заметив мой недоуменный взгляд, он пояснил: «Этак контрастней: негр и дождь!» Так я впервые узнала, что это за штука – художественный вымысел.
Француз чувствовал себя ответственным за судьбу своего товарища. Он непрестанно ему все объяснял и повторял для него каждое слово, которое говорила я или другие наши спутники, присоединившиеся к нам по дороге.
Мы подошли к Кремлевской стене. Рядом с могилами товарищей, погибших в октябрьских боях, находилась свежая могила Якова Михайловича Свердлова.
Он умер, простудившись во время выступления перед рабочими на митинге в Орловском железнодорожном депо. Уже больной «испанкой», он продолжал работать, пока не свалился. Весь в жару, задыхаясь, теряя сознание, он говорил о партии.
Ему становилось все хуже и хуже. Незадолго до смерти Якова Михайловича к нему пришел Владимир Ильич. Он уже давно порывался навестить Якова Михайловича, но его не пускали, боясь, что он может заразиться. Узнав, что Яков Михайлович умирает, Владимир Ильич не стал никого слушать и пошел к нему. Яков Михайлович обрадовался Владимиру Ильичу, попытался заговорить о делах, связанных с созывом партийного съезда, но не смог. Владимир Ильич взял его руку, крепко ее пожал. Через полчаса после ухода Владимира Ильича Яков Михайлович скончался.
Француз с обнаженной головой выслушал мой рассказ о могилах у Кремлевской стены, Потом, обращаясь к негру, сказал:
– Тут лежат только товарищи. Ни одного господина…
Затем добавил:
– Эти сыны народа завоевали своей кровью социализм…
Но он испытывал потребность сказать что-то и нам. Подняв глаза, он увидел красное знамя, развевавшееся над Кремлевским дворцом. И воскликнул с истинно галльским красноречием:
– Ваш Кремль, как маяк, светит всему рабочему миру. Мы знаем, что все народы земли совершат этот путь – от братских могил к братскому красному знамени. Русские товарищи! Ведите бесстрашно свою борьбу! Сколько бы нас, матросов и солдат, ни привозили к берегам Советской России, мы поднимем красные знамена и придем сюда, в вашу Москву. В ваш прекрасный город Москву!
Наша «Свердловка»
Я училась тогда в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова – в просторечии в «Свердловке». Помещался он в начале нынешней улицы Чехова, именовавшейся Малой Дмитровкой, в здании, которое теперь занимает театр имени Ленинского комсомола.
Здание это было выстроено когда-то для Московского купеческого собрания. После революции оно было захвачено анархистами, и в нем расположился Главный штаб московской федерации анархистов. Дом был переименован в «Дом анархии», над входом вывешен огромный черный флаг, на крыше установлены орудия и пулеметы. Когда в апреле 1918 года производилась ликвидация анархистских групп, засевшие в здании оказали сильное сопротивление, и их пришлось вышибать артиллерийским огнем.
Затем в доме разместились Курсы по подготовке партийных и советских работников, которые были преобразованы в университет имени Свердлова.
Был особый, глубокий смысл в том, что после смерти Я. М. Свердлова Центральный Комитет партии и советское правительство решили создать Коммунистический университет его имени, призванный, по слову Ленина, «…собрать здесь несколько сот рабочих и крестьян, дать им возможность заняться систематически несколько месяцев, пройти курс советских знаний, чтобы двинуться отсюда вместе, организованно, сплоченно, сознательно для управления, для исправления тех громадных недостатков, которые еще остаются».
В «Свердловке» была только одна общая аудитория, устроенная в бывшем зале купеческого собрания. Кафедру для лектора поставили в простенке между окнами, у ее подножия разместили стулья. Лектор оказывался как бы в центре полукруга, образованного слушателями.
После купцов осталась кое-какая утварь, по большей части совершенно нелепая: мебель, посуда, оленьи рога (на них мы вешали шинели и красноармейские фуражки); фарфоровые вазоны для омовения пальцев после вкушения спаржи (в редкие счастливые дни, когда по карточкам отпускалась крупа, в них подавали жидкую кашу).
«Чуден вид нашей „Свердловки“, когда вольно и плавно рассаживается она на стульях, на которых еще недавно восседали жирные купеческие зады…» – гласило начало торжественной оды, сложенной нами в те далекие времена.
Да, чуден был вид нашей «Свердловки»: худые лица, горящие глаза, пробитые пулями шинели. Лохматые парни, остриженные по-мальчишески девушки. Все вечно голодные, никогда не думающие о еде, с туго затянутыми поясами, с торчащими под мышкой потрепанными тетрадями…
Трудовой день начинался в семь утра и заканчивался, далеко за полночь. Сначала лекции. Затем практические занятия. Потом работа над книгой. А там – выступления на митингах, собраниях, субботники, разговоры, песни, споры.
Срок обучения был трехмесячным. Большую часть слушателей составляли полуграмотные рабочие и крестьяне. Но и для тех, кто был пограмотнее, все услышанное здесь было внове.
Лекции читали лучшие в партии знатоки той или иной дисциплины. За немногими исключениями, они не были учеными или научными работниками, и свои обширные, порой энциклопедические познания почерпнули в «тюремных университетах». Все эти люди вели большую государственную работу. Для чтения лекций им приходилось вырывать несколько часов из своего предельно загруженного дня.
Курс истории партии вел Николай Николаевич Батурин, автор первой книги по истории российской социал-демократии. Лекции по истории революционного движения в России читал Михаил Николаевич Покровский. Ученый-историк, он отказался от профессорской карьеры, в момент Октябрьского переворота был одним из руководителей восстания и своим революционным темпераментом заслужил у московских рабочих прозвище «Лихой старик».
Политическую публицистику (был и такой предмет!) преподавал Вацлав Вацлавович Воровский. Занятиями по антирелигиозной пропаганде руководил Емельян Ярославский. Курс партийного строительства и практические занятия по партийной работе вел секретарь Московского комитета партии Александр Федорович Мясников.
Несколько занятий, посвященных работе агитатора и пропагандиста, провел у нас Михаил Иванович Калинин.
С седеющей бородкой, в очках, в темном пиджаке и черной сатиновой косоворотке, подпоясанной ремнем, с палочкой в руке – таким был Калинин, тверской крестьянин, питерский рабочий, старый коммунист! Таким он был до Октября, когда работал слесарем на заводе «Айваз». Таким он был и после Октября, когда сделался петроградским городским головой. Таким он остался и тогда, когда после безвременной смерти Якова Михайловича Свердлова был избран на высший правительственный пост в стране – председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Другого такого народного агитатора, как Калинин, на свете не было. Недаром Владимир Ильич Ленин, рекомендуя избрать его на пост председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, говорил: «Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы; сам он – крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством и постоянно обновляющий и освежающий эту связь. Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящихся масс, когда у них нет партийной подготовки, когда пропагандистам и агитаторам не удалось к ним подойти по-товарищески и умело, тогда тов. Калинину удавалось разрешать эту задачу».
Именно на него Владимир Ильич больше всего полагался при проведении руководящей линии партии по отношению к среднему крестьянству. И Михаил Иванович со своим агитационным поездом «Октябрьская революция» разъезжал по стране, останавливался на станциях, выезжал на фронт, созывал митинги. За короткое время его услышало несколько сот тысяч человек. Популярность Калинина была огромна, и народ ласково называл его «Всероссийским старостой» и «Михал Иванычем».
Своим опытом работы с народом Михаил Иванович и пришел поделиться с нами, молодыми членами партии.
Он сел за стол, снял очки в железной оправе, провел рукой по усталым глазам, снова надел очки и сказал:
– Большое это дело, товарищи. Великое дело. И трудное.
Михаил Иванович помолчал и задумался, как бы подыскивая слова.
– С чего же нам начать? – проговорил он. – Не буду размалывать вам, что на беседу с народом надо идти, хорошо подготовившись, – вы это и без меня знаете. Не буду рассуждать и о том, составлять или не составлять заранее конспект, – на это у каждого своя привычка: одному лучше с конспектом, а другому – без него. Все это – дело шестнадцатое. Главное в ином. Главное прежде всего в том, чтобы идти к народу смело, говорить ему в глаза правду. Больше всего бойтесь тихих, гладких собраний, похожих на то, будто на холодную воду вылили растопленное сало, – оно на воде и застыло. Если собрание покрылось такой коркой, это значит, что ни вы не услышали людей, ни они вас не услыхали. Чуть появилась эта корка, ищите заветное слово, которым вы сумеете ее растопить…
Таковы были наши учителя. Спасибо вам, дорогие товарищи, за то, что вы учили нас уму-разуму!
С каждым днем расширялись границы познанного мира. Истины, которые в наши дни являются достоянием широких масс, были для нас тогда подлинным откровением. Возможность достать книгу Маркса, Энгельса, Ленина – событием. Для многих «свердловцев» эти книги были чуть ли не первыми книгами после букваря.
Однажды ночью, когда студенческое общежитие было погружено в сон, раздался крик:
– Товарищи! Вставайтэ! Мирова революция началась!
Кричал Олекса Рябов, молодой красноармеец из крестьян Воронежской губернии, изъяснявшийся на причудливой смеси русского и украинского языков.
Все повскакали, бросились кто в чем был на лестницу, пустились в пляс, стали орать «ура».
Только потом догадались спросить у Олексы, какими, собственно, сведениями насчет мировой революции он располагает..
Он сказал:
– Ось, подивиться! Це у книжки написано. У Маркса.
Кривым пальцем, на котором белел шрам – память о казацкой сабле, – показал: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма…»
Как ни велика была наша учебная и партийная нагрузка, слушатели организовали кружок, который решил изучать! «Капитал», Книга Маркса представляла библиографическую редкость, в библиотеке нашего университета мы ее не нашли. К счастью, оказалось, что у кого-то из наших есть товарищ, работающий в типографии, в которой как раз печатается новое издание «Капитала». Этот товарищ согласился давать нам оттиски при условии, что мы будем быстро их прочитывать.
Но как выкроить время? В течение дня, у нас не оставалось свободной минуты. И где найти место для чтения? Учебное здание на ночь запиралось, а в общежитии мы мешали бы другим товарищам.
Выход был найден: улица! Ночи стояли теплые, темнело поздно, светало рано. Можно было отлично устроиться где-нибудь на бульварах или на ступенях каменных лестниц, спускающихся к Москве-реке.
Отныне то с вечера, то на рассвете мы собирались в условленном месте, чтобы читать мажущиеся типографской краской оттиски «Капитала».
В синем вечернем небе зажигались звезды, когда мы заканчивали главу о меновой стоимости. Под звонки первых трамваев мы приступали к чтению раздела о денежной форме стоимости. Бронзовый Пушкин, под лучами утреннего солнца, слушал вместе с нами полные сарказма страницы главы о товарном фетишизме.
Мы не могли уже сделать и шагу, не вспоминая Маркса, не разговаривая языком Маркса. Быстро опустела миска с селедочной похлебкой – ну можно ли по этому поводу не сказать, что «способность переваривать пищу вовсе не тождественна с фактическим перевариванием пищи»? Спор по поводу того, удастся ли выменять на хлеб брюки, просвечивающие на неудобосказуемом месте, – как тут не вспомнить, что в отличие от этих брюк Марксов сюртук «является носителем стоимости, хотя это его свойство и не просвечивает сквозь его ткань, как бы тонка она ни была»? Ребенок юной «свердловки», покоящийся в колыбели, – как не сочинить по этому поводу новую колыбельную?
Спи, свердляк потенциальный,
Баюшки-баю,
Светит Маркса свет астральный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Сделаю прогноз,
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Умственный колосс!
Душа Советской власти
Самым значительным событием в истории нашего выпуска была встреча с Владимиром Ильичем Лениным и его лекция «О государстве».
Мы давно знали, что Владимир Ильич должен прочесть у нас лекцию. Мы знали даже примерную дату этой секции, установленную учебным планом: 9–12 июля. Но сможет ли Владимир Ильич прийти?
Москва переживала тогда тяжкие дни. В течение мая и июня Колчак занял Уфимскую губернию, откуда должен был прибыть хлеб для московских рабочих. Затем Деникин отрезал самые хлебородные районы Украины. Москва осталась без хлеба. Положение было угрожающим. И, несмотря на все это, 11 июля, в назначенный день и час, Владимир Ильич прочел в «Свердловке» свою лекцию!
О том, что он будет у нас, мы узнали накануне. Хотя забота об одежде и внешности в те времена считалась зазорной, все тут же стали приводить себя в порядок: латать локти, чистить сапоги, пришивать пуговицы и белые воротнички.
Лекционный зал был чисто убран, на кафедре поставлен букет цветов, для встречи Владимира Ильича у входа дежурила специальная делегация, приготовившаяся произнести торжественную речь.
Но пока делегаты с замиранием сердца всматривались в даль? Владимир Ильич потихоньку подошел к зданию, вошел в него боковым ходом, направился в учебную часть, потолковал с работниками университета, расспросил, из кого состоят студенты, как занимаются, чем их кормят, – и прошел в аудиторию.
Лекция «О государстве», которую он прочел в тот день, представляла собою блестящее изложение марксистской теории государства.
Трудно себе представить, что эта лекция читалась в то время, когда – в который уже раз! – над Советской республикой нависла смертельная опасность; в то время, когда в Лондоне, в доме на Даунинг-стрит, сколачивался блок четырнадцати государств для крестового похода против Советской России; когда интервенты, склонившись над картой, подсчитывали сроки падения Москвы. В это время Ленин в Москве заканчивал свою лекцию словами, какими обычно заканчиваются спокойные профессорские лекции: «Надеюсь, что к этому вопросу мы в следующих лекциях вернемся – и неоднократно».
После лекции Владимир Ильич прошел в соседнюю комнату. Тут его обступили слушатели университета и сразу засыпали вопросами о положении на фронтах, о III Интернационале, о хлебе для Москвы. Мы спрашивали об этом Владимира Ильича не только для себя, но и для того, чтобы передать его слова московским рабочим, перед которыми каждому из нас приходилось выступать.
Владимир Ильич внимательно ответил на вопросы, потом сказал:
– Положение наше трудное, архитрудное, и главный, даже единственный выход для нас – это идти открыто в самые широкие массы, рассказать им, что мы со всех сторон окружены, что Красная Армия истекает кровью, что нужно терпение, напряжение сил, еще один прыжок через голод и нужду – и мы победим. Если вы разъясните народу всю правду, если откроете перед ним всю душу Советской власти, голодные русские рабочие совершат чудо и в борьбе против хищников всего мира спасут Советскую Россию. Это будет чудом, но это чудо совершится…
Смерть коммуниста
Несколько дней спустя группа слушателей университета, в том числе и я, была направлена в деревню. Поводом к тому послужило сообщение о гибели Николая Антонова.
Николай Антонович Антонов, рабочий-питерец с трубопрокатного завода Барановского, член партии с 1916 года, был одним из организаторов Красной гвардии на Выборгской стороне, принимал участие во взятии Зимнего. Вскоре после Октябрьского переворота отправился на Дон, бить Краснова. Был ранен, уехал в деревню, был избран председателем комитета бедноты, а затем – председателем волостного исполнительного комитета.
Летом восемнадцатого года приезжал в Москву, к Свердлову. Пленил Якова Михайловича незаурядным умом, хваткой настоящего рабочего, точным знанием положения в волости.
Образно рассказывал о настроениях и повадках различных слоев крестьянства – о кулаке, говорящем: «У меня раньше сердце к беднякам было собачье, а теперь – волчиное», о первых шагах комитетов бедноты: «Не всегда хорошо правят наши товарищи: спотыкаются, ошибаются. Дело им досталось новое, трудное. Практики такой у них нет, чтобы государственными делами управлять, вот и делают промашки: то средних крестьян в кулаки запишут, то живоглотам дадут себя оттереть и вокруг пальца обвести».
Но больше всего его занимало общее положение крестьян и крестьянского труда: «Узкополосица да чересполосица измозолили шею крестьянину, – говорил он. – Царапает крестьянин своей сохой выветрившееся и выродившееся поле, а получает при своей одиночной работе в барыш только горб да деревянный крест в придачу. И, несмотря на все это, цепляется за свою мелкую собственность – и так привык к своей сохе, к своему корыту, что и разбитое оно кажется ему милым».
Выход для крестьянина видел в одном – в переходе к крупному общественному хозяйству. Но советские органы должны действовать тут осторожно. «Пусть у крестьянина поначалу останется его собственность, пусть он ссыпает хлеб у себя в амбар, и только обрабатывает сообща землю. Так он постепенно придет к общему хозяйству».
По просьбе Свердлова я записала для Владимира Ильича Ленина разговор с Антоновым. И вот, год спустя, ректор Свердловского университета Владимир Иванович Невский вызвал к себе группу слушателей, и товарищ, только что приехавший из Тверской губернии, рассказал нам историю гибели Николая Антонова.
К лету 1919 года в волости, где председательствовал Антонов, как и во многих других местах, образовались банды дезертиров, укрывавшихся от службы в Красной Армии. Верховодило ими кулачье.
Прячась в лесах, голодные, озлобленные, дезертиры терроризировали крестьянское население, угоняли лошадей, прирезывали коров и овец.
В середине июня, по данному кем-то знаку, все банды уезда собрались в лесу неподалеку от волостного села. Они послали Антонову письмо с требованием, чтобы он открыл амбар и выдал им муку и соль.
«Ты, пират, прибывший из Петрограда, – писали они, – ты, чертов коммунист, бродяга, повсюду вводишь дурацкую коммуну. Тебе, подлец, ведь первому крючок готов на осине, дни твоей жизни сочтены! Или выдай нам, что требуем, или прощайся с товарищами и знай, что на твоей спине, будет вырезана красная звезда, за которую ты агитируешь!»
Антонов открыть амбар отказался. Тогда дезертиры двинулись на село. Они шли, играя на гармони и распевая частушки:
Не по нашему достатку
Галихве-брюки носить,
Не по нашему достатку
В Красной Армии служить…
Подойдя к дому волостного исполкома, они вызвали Антонова и снова потребовали, чтоб он открыл амбар. Антонов вышел на крыльцо и сказал, что амбара не откроет, не имеет на это права. Тогда дезертиры подняли стрельбу, а когда раненный в голову Антонов упал, ворвались в дом и начали избивать работников исполкома дубинами и винтовочными прикладами. Несколько человек было забито до смерти, остальные лежали без памяти, и только Антонов, хотя его и били больше всех, сохранил сознание.
Живых и мертвых погрузили на подводы и под улюлюканье и колокольный звон, повезли на кладбище. Там дезертиры стали копать могилу. Заставили рыть ее и Антонова.
Когда могила была готова, в нее побросали трупы и живых людей. Уже брошенный в могилу, Антонов приподнялся, его снова стали избивать, но он успел крикнуть: «Мы не боимся вашей казни! Мы работали честно и справедливо на благо народа!»
Его ударили лопатой по лицу. Обливаясь кровью, он упал на своих товарищей. Но и тут у него хватило духу сесть, снять сапоги и пиджак и передать тут же стоявшему отцу. «Вот, возьми, отец, на память, – сказал он. – А вы, убийцы, будьте прокляты!» Потом он лег навзничь и велел себя зарывать… Больше часу земля на могиле приподнималась и слышны были глухие стоны.
Когда товарищ, проводивший расследование обстоятельств кулацко-дезертирского мятежа, кончил свой рассказ, наше собрание почтило память погибших вставанием. Потом слово взял Владимир Иванович Невский.
Он сказал, что на днях в Центральном Комитете партии состоялось совещание, посвященное вопросам работы в деревне. В нем принял участие товарищ Ленин.
Совещание пришло к единодушному выводу, что намеченный VIII съездом партии курс на середняка уже дал несомненные результаты. Среднее крестьянство явно полевело. Конечно, и сейчас оно неохотно выполняет предъявляемые к нему общегражданские требования, неприятные для него как для собственника. И сейчас крестьянин-середняк предпочел бы вместо того, чтоб воевать, отсиживаться у себя дома. Но он уже начинает понимать, что Деникин и Колчак тоже не дадут ему сидеть на печке и что перед ним стоит неминуемый выбор: либо идти в Красную Армию, либо вернуться в помещичью кабалу.
Отсюда как главная задача сегодняшнего дня встает разъяснение широким массам крестьянства сущности политики Советской власти. Мы должны убедить крестьянина, что для него лучше отдать рабочему хлеб, чем отдать Деникину и Колчаку и хлеб, и помещичью землю.
Агитация, агитация! Пропаганда и агитация… Мы должны проникнуть в самую деревенскую глубину. Как выразился Владимир Ильич, надо проложить в лесу деревенской дремы «агитационные просеки».
К решению этой задачи привлекается ряд работников нашей партии, в том числе, и собранные сегодня здесь слушатели Университета имени Свердлова…