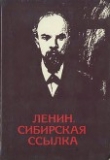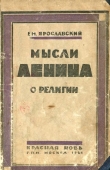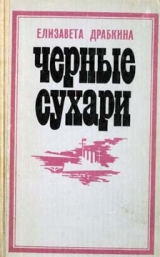
Текст книги "Черные сухари"
Автор книги: Елизавета Драбкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Комната № 237
Через несколько дней после того, как исключили из Советов правых эсеров и меньшевиков, рабочие комнаты Президиума ВЦИКа были перенесены во Второй дом Советов. Причиной тому послужил случай, который произошел с одним сибирским крестьянином, приехавшим в Москву к Свердлову.
Чтобы пройти в Кремль, надо было получить у Троицких ворот пропуск. До звонков и запросов тогда еще не додумались, и выдача пропусков зависела от дежурного, сидевшего в будке. Народ в Кремль проходил самый разный – от секретарей губкомов и командующих армиями до богомолок, жаждавших приложиться к иконам в кремлевских соборах.
Пропуска сначала выдавались легко, но после раскрытия заговора «Союза защиты родины и свободы» и белочешского мятежа стало построже. В эти-то дни и появился у нас тот самый крестьянин.
Все в нем было крестьянское, сибирское: и высокая, ладная стать, и борода лопатой, и серый армяк, и то привычное движение, которым он, сняв шапку, остановился у порога и поднял глаза к переднему углу, ища божницу.
– Вам что, товарищ? – спросила я.
– Мы к Свердлову, Якову Михайлычу.
– По какому делу?
– Про то мы только им скажем.
Я предложила ему присесть, подождать, пока Яков Михайлович освободится. Он сел на кончик стула и молча ждал, посматривая по сторонам.
– Заходите, – сказала я, когда подошла его очередь.
Он заволновался.
– Там Яков Михайлыч сами лично будут?
– Разумеется.
Вдруг он сел на пол и стал стягивать свои пыльные разорванные сапоги, подбитые толстыми подметками. Я смотрела, ничего не понимая.
Пошарив в кармане, он достал нож, вспорол голенище и вытащил из-под подкладки сложенную чуть ли не вшестнадцатеро карту. Из другого сапога он таким же манером достал какие-то документы и прошел в кабинет.
Через несколько минут дверь кабинета распахнулась. Оттуда стремительно вышел Свердлов, ведя за руку босого, несколько растерянного сибиряка, державшего под мышкой распоротые сапоги.
– Я наверх, – бросил Яков Михайлович на ходу.
Это значило, что он идет к Ленину.
Уже потом я узнала, что необычный посетитель пришел к Свердлову прямиком из Сибири. На буферах, на подножках и крышах вагонов, пробираясь ползком через линии белых и красных фронтов, он привез в Москву первую весть от товарищей из сибирского подполья. На спрятанной в его сапоге карте были известными ему знаками нанесены сведения о войсках противника и о пунктах расположения зарождающихся партизанских отрядов.
– Отдашь эту карту в руки самому Якову Михайловичу Свердлову, – сказал, напутствуя его, Иван Адольфович Теодорович, который весной уехал в Сибирь отгружать хлеб для рабочих центров, был отрезан белочешским восстанием и сделался одним из организаторов партизанского движения в Сибири.
Три недели без малого Егор Трофимович Черных добирался до Москвы, не спал, не ел. И вот, когда все, казалось, было уже преодолено и он находился у самой цели, в будке перед Троицкими воротами на просьбу дать пропуск ему ответили: «Нельзя!»
На второй день он пропуск все же получил. Но трудно передать, как рассержен был Яков Михайлович, как разгневался Владимир Ильич, узнав про мытарства Черных. И тут же они решили: приемная председателя ВЦИКа должна быть немедленно вынесена из Кремля в город, в самый центр.
Свердлов сам поехал во Второй дом Советов и выбрал для приемной угловой номер на втором этаже, выходивший окнами на площадь, которая впоследствии была названа его именем.
Напрасно работники охраны предупреждали об опасности такого решения, принятого чуть ли не на другой день после убийства Володарского. Свердлов был непреклонен.
– Вопрос решен, – отвечал он, отметая все возражения. – Нужны два стола. В коридоре непременно поставьте скамьи. Портьеры и прочую дрянь сдерите к черту. И чтоб готово было не к пятнице, не к четвергу, а завтра же. Да, да, завтра к девяти утра.
В этот же день из номера убрали аляповатую мебель, поставили два стола и несколько стульев, а в тупичке коридора была устроена комната для посетителей. У входа в гостиницу, рядом с вертящейся стеклянной дверью, повесили фанерную доску с надписью красными чернильными буквами: «Приемная председателя ВЦИК. Комната № 237». И народ со своими заботами, тревогами, надеждами, сомнениями, радостями, горем, отчаянием и мечтами волной хлынул сюда, в эту комнату, в которой изо дня в день вел прием Яков Михайлович Свердлов.
«Слушаю вас, товарищ!»
Когда в комнате № 237 расставляли мебель, стол Свердлова поставили параллельно окну, так что свет падал на лицо посетителя, а лицо Свердлова оставалось в тени.
Увидев это, он рассердился:
– Разве может человек доверчиво разговаривать, когда вы его так усаживаете? – И сам переставил стол боком к окну.
Прийти на прием мог каждый. Сначала Свердлов вел прием один; потом в соседней комнате – 237а – стал принимать секретарь ВЦИКа Варлаам Александрович Аванесов. У него тут же стояла узкая железная койка, покрытая клетчатым пледом, и он не уходил отсюда по нескольку суток. Поспит ночью часа два-три и снова ссутулится над столом.
Неуклонное правило, установленное Свердловым, гласило: «Ни один рабочий, ни один крестьянин не должен уйти с приема, не получив исчерпывающего решения по своему делу».
– А как быть с представителями прочих классов? – спросила я.
Этих приходило немало – и все как на подбор: дамы с накладными шиньонами, исхудалые господа, волочащие подагрическую ножку, юркие ходатаи по делам.
– Гоните их в шею, только вежливо. Идите, мол, туда-то и туда-то, там вы получите ответ. Но, чур, точно объясняйте, куда и как пройти.
Чаще всего вопросы, с которыми к нему обращались, он разрешал тут же. Но если дело было такое, что Свердлов не мог решить его сам, он звонил нужному работнику или же курьер Гриша отводил к этому работнику посетителя.
Войдет человек, Свердлов покажет на кресло около стола и скажет: «Слушаю вас, товарищ!»
Каждого человека, который хоть раз у него побывал, Яков Михайлович запоминал навсегда, запоминал всего – с его характером, способностями, биографией, сильными и слабыми сторонами. О каждом сколько-нибудь значительном работнике партии он мог сказать: «Вот этот – хороший организатор, в пятом году работал в Туле, потом в Москве, сидел в Орловском каторжном централе, ссылку отбывал в Якутии. А этот как организатор слабоват, зато агитатор отличный…».
Как-то на прием пришел чуть сгорбленный человек с сильной проседью в густых темных волосах. Яков Михайлович в эту минуту разговаривал по телефону. Положив трубку, он сказал:
– Ну, слушаю тебя, Богдан!
Посетитель с недоумением посмотрел на Свердлова:
– Откуда вы меня знаете? – Потом, вглядевшись, вскрикнул: – Товарищ Андрей? Ты?
Оказалось, что он когда-то работал с Яковом Михайловичем на Урале, знал его под партийным именем «Андрей» и даже не подозревал, что этот «Андрей» и есть Свердлов. А Яков Михайлович знал и помнил о «Богдане» все – и где тот за эти годы работал, и где сел, и каким этапом шел, и где работает сейчас.
Но еще удивительнее было то, что за несколько месяцев, которые можно было пересчитать на пальцах одной руки, он успел узнать и запомнить всю Россию, со всеми ее уездами и порой даже волостями; какие где Советы, чье в них большинство – большевиков или же левых эсеров, как они работают, что происходило на съездах Советов, как идет дело с организацией комитетов деревенской бедноты.
Он обладал огромным чутьем в определении характеров людей и их способностей.
Вот пришел к нему высокий, узкоплечий паренек лет восемнадцати, с большими красными руками, торчащими из слишком коротких рукавов гимнастерки. У него разметавшиеся, волнистые волосы и широко раскрытые глаза мечтателя. Он и был мечтателем.
– Я, товарищ Свердлов, ночей не спал. Я, товарищ Свердлов, все думал и думал. И я, товарищ Свердлов, придумал: удивительно просто можно покончить с буржуазией.
Что же он придумал? Разом отменить все деньги! Вместо денег выдавать каждому трудящемуся билетики, за которые тот получит нужные ему продукты и прочие предметы.
А что будет с буржуями? Им придет разом конец! Раньше буржуй на деньги покупал, а теперь – шиш! Что буржую останется? Либо работать, либо уехать из Советской России. Пусть едет, а хочет свои деньги увезти – пусть везет хоть вагонами. Нам деньги – ни к чему.
То же и с крестьянами. Сейчас крестьянину нужны деньги. А тогда, ежели понадобились ему сапоги, или железо, или еще что, он будет сдавать хлеб, молоко, а за это получит трудовые билетики. Так не станет денег, не станет и спекуляции!
Яков Михайлович, гася улыбку, объяснил пареньку всю нелепость его плана.
– Подумайте, к примеру, о том, что у кулака продуктов много, а у бедняка мало. Кулак наменяет кучу билетиков, а бедняк – ничего! Вот и останется все по-старому…
Потом расспросил паренька о нем самом. Оказался он тверским рабочим.
– На мануфактуре работаю, в красильном. Партийность моя – коммунист. Вступил добровольцем в Красную Армию. И как сказали нам, что надо отряд выставить, ехать драться с белогвардейцами, я и вызвался ехать на буржуазию.
К Свердлову он прибежал с вокзала, вечером их отряд отправляли на Самару против белочехов.
– Давайте условимся так, – сказал Яков Михайлович. – Когда разобьете белых, приезжайте в Москву и приходите ко мне. Я вас направлю в Социалистическую академию общественных наук. Там вы познакомитесь с учением Маркса.
– Это, товарищ Свердлов, Карл Маркс, который с бородой на портретах?
– Он самый. Значит, жду вас, товарищ!
Когда он ушел, Свердлов, как он это часто делал, позвонил по «верхнему коммутатору».
– Владимир Ильич, у меня сейчас чудесный паренек был…
Сразу угадывая в посетителе друга, товарища, большевика, Яков Михайлович так же, с одного взгляда, распознавал врага.
Однажды пришел к нему мужик в рваных лаптях, ветхой посконной рубахе, глубоко нахлобученном картузе, согнувшийся, пришибленный. Я расчувствовалась и пропустила его, ни о чем не спрашивая.
– Мы, гражданин товарищ Свердлов, люди темные, руганью вскормлены, зуботычиной повиты, у порога выращены…
– Короче, короче, – сказал Свердлов.
С удивлением я почувствовала в его голосе необычную сухость. Я посмотрела на посетителя и только тут заметила, что из поношенного воротника рубахи вылезает могучий загривок.
– Мы вот этими, корявыми, хлебец добывали, земельку потом полили, ох и полили! А теперь в деревню к нам понаехали всякие, называются путиловские, созывают сход, руками машут, орут, кричат, чтоб земельку нашу отобрать да разметать по голытьбе, по нерадивым, а они-то на своих лошаденках и не спашут как должно. А хлеб, кричат, ссыпай в общий мешок, у кого сколько лишку, и на любое дело, с каким к ним ни придешь, орут: «Давай, хлеб!» Да разве мы про них хлеб сеяли?..
– Значит, вы хлеб не про них сеяли?..
– Не про них, гражданин Свердлов, не про них.
– Ну, а мы власть не про вас. Ступайте!
Но зато как он умел расшевелить думы и чувства тех, «про кого» создавалась Советская власть!
Бывало придут к нему крестьяне по обычному житейскому делу – с жалобой или просьбой. Яков Михайлович слово за слово втягивает их в разговор. Крестьяне отвечают сначала несмело, потом все охотнее, и вскоре уже разгорается оживленная беседа.
– Главное – хлеб, – говорит один из них. – Урожай у нас сам-три или сам-два, а то бывает и так, что земля вернет семена и наградит тебя за весь твой труд соломой. До покрова-то еще ешь хлеб с солью да водицу с голью, а как снег ляжет – ты уж дожил до клюки, ни хлеба, ни муки.
Но это – только начало разговора. Посидят они еще с Яковом Михайловичем, поговорят, покурят, и уже слышишь рассуждение другого собеседника, в котором и по манерам, и по речам угадывается бывалый солдат-фронтовик.
– Народу у нас, конечно, большая сила, только надо ее правильно на приступ поднять. Помещиков мы из гнезд повыковыряли, кулаков прищучили, теперь жизнь наша вон она где, в наших руках. Нам бы этими руками работать, а мы час работаем, а пять часов мимо портков взад-вперед махаем… А почему? Да из-за лоскутов наших земельных.
Тут в разговор вступает третий собеседник.
– Беда с этими лоскутами, – соглашается он, – Вот взять меня. У меня девять лоскутов, и все в разных местах. Прямо не поля, а ремни с полынными краями. Мечешься с ними, словно баба с титечными ребятами. Встанешь затемно, да пока доедешь на своей карюхе до поля, да запряжешь лошадь, да вспашешь, – глядишь, день-то и прошел. Назавтра обратно то же самое. Вот так и мотаешься с поля на поле. Уже земля давно просохла, а ты все пашешь и сеешь в пыль, а потом собираешь одну полынь с меж.
И вот уже слышишь, как первый крестьянин сам, своим умом, только умело направляемый советом Якова Михайловича, приходит к новой мысли:
– Разве нам, беднякам, под силу завести свое хозяйство? Я думаю так, что нашей бедноте следует соединиться воедино в артель, отобрать у кулаков и хлебничков плуги, косилки, веялки, и забрать в имениях все, что стоит без последствия. Нечего нам ждать чьего-то права. Ломота в пояснице давно уж позывает нас взять это право в свои руки.
Но бывало и так, что Яков Михайлович, подняв трубку «верхнего», говорил, весь кипя от гнева:
– Вы послушайте только, Владимир Ильич, какую бумажонку мне сейчас показали! «Учкажпередаем телеграмму Учкиз№ 1951 поступают без указания в конце своего исходящего что создает тормоз работе озаботьтесь прекращении такого рода упущений № 365 Довбомизложенное дать точному исполнению 16 415 Окркомиссар Владимировчлен округа Веселовскийс подлинным верно пом управляющего КорсунскийУпр конторы Щетининс копией верно секретарь Глазунов238/12».
Нередко товарищи удивлялись, что Яков Михайлович тратит по несколько часов в день на прием посетителей.
Их тревожила также опасность, которой он себя подвергал. Но Свердлов и слышать не хотел таких разговоров. Он был нужен людям, которые к нему приходили, но эти люди не в меньшей степени были нужны ему.
И влетело же мне, когда я записала просьбу не заставших его рабочих Тамбовского порохового завода в таких примерно выражениях: «Они просят указания, которое нужно для разрешения вопроса, который они выдвигают…»
– Да как вы могли такое нагородить? – спрашивал Яков Михайлович. – Ведь это показывает, что вы совсем не слышали того, что они вам говорили. Мы людей, которые приходят сюда к нам, к слугам Советской власти, обязаны слушать, вслушиваясь в каждое слово, в каждый звук. А вы: «Исходя… которого… который…». Ведь тут перед вами душа народа раскрывается. Слушайте и запоминайте! Такого вам никогда больше не увидеть и не услышать!
И я старалась слушать и запоминать…
Приемная Свердлова
– Барышня, нам к председателю бы…
– Товарищ гражданочка, гражданин Свердлов принимает?
– Мадемуазель, у меня неотложная необходимость быть принятым лично председателем Центрального Исполнительного Комитета.
– Мне к товарищу Свердлову. Дело очень срочное. Уж вы помогите, товарищ!
Кого только здесь не было! С какими только вопросами сюда не приходили! Чего не наслушаешься и не насмотришься за день!
Иной раз прямо смех и горе.
Вот пришел старичок в картузе с козырьком, обшитым материей. Он задумал получить от Свердлова какую-то загадочную «отпускную бумагу».
– Какую же вам бумагу?
– Уж какую надо.
– Да к чему она вам?
– Значит, нужно.
– Для чего же?.
– А для того, что требовается.
– А что вам требуется?
– Да вот бумага.
– Какая же бумага?
– Уж какая надо…
И опять – висело мочало, начинай сначала!
Вот пришла англичанка с тощей шеей, перехваченной крахмальным воротничком.
Пришла, встала посреди коридора, произнесла, глотая слова, длинную, невнятную английскую фразу и уставилась на нас глазами уснувшего судака.
Сколько мы ни бились, мобилизуя свой нехитрый запас английских слов, так и не удалось нам понять, чего она хотела. Пришлось вызвать товарища из Народного комиссариата по иностранным делам.
Яков Михайлович потом уверял, смеясь, что именно с нее Чехов писал свою «Дочь Альбиона».
Основную часть посетителей составляли крестьяне. Их сразу можно было узнать и по одежде, и по котомкам, и по говору, и по тому, что они никогда не проходили сразу в комнату, а сначала долго топтались у порога.
В первое время больше всего жалоб и просьб было связано с разделом помещичьих имений.
То придут ходоки из какой-нибудь деревни и жалуются на жителей соседнего села. Те захватили себе всю землю и амбарный хлеб местного помещика и заявляют, что помещик, мол, наш, а значит, имение наше, земля наша, и хлеб наш.
То приходят с жалобой, что засевшие в сельсовете кулаки отказываются давать земельный надел женщинам. У баб, мол, мозги куриные, а рты широкие – что жрать, что реветь. «Будем делить на баб, что станет делать с землей бабенка? Ни тебе косу править, ни тебе телегу обрядить-починить, ни тебе толком рассудить не может».
То просят дать управу на кулаков, которые ведут дележ помещичьего имущества так, что одному достается сенокосилка, а другому – дырявый мешок; кому бычок, а кому – изорванная хомутина.
Однако очень быстро на передний план выдвинулся вопрос о голоде, вопрос о хлебе, припрятанном кулаками.
– Им, мироедам, все на выгоду, все на прибыль, – говорили ходоки, посланные деревенской беднотой. – Попу похороны помогают, гробовщику – мор, а кулаку – голод.
Каких только прозвищ не давали кулакам: и «живоглоты», и «хлебнички», и «крутоземельники». А то просто короткую кличку: «Клещ»!
С каждым днем все отчетливее проступала испепеляющая ненависть к кулачеству.
Положив на колени натруженные руки, глядя упорным, угрюмым взглядом, крестьяне говорили:
– Дольше, товарищ председатель Свердлов, терпеть невозможно. Забор мы повалили, а столбы еще целы. Или они нас, или мы их, но мириться нам никак нельзя…
Как-то пришли двое крестьян в заношенных «до нету» пиджаках. С ними мальчик – синеглазый, белоголовый, босой, замурзанный. На нем рубашонка, вея из кусочков, перешитая из ярко-васильковой женской атласной кофты.
– Насчет сироты мы, товарищ Свердлов.
Они подталкивают вперед мальчика, а тот таращит глаза на лампу со стеклянным абажуром.
Яков Михайлович внимательно слушает их рассказ. Рассказ длинный. О деревне Болотине, в которой, как они говорят, все благосостояние бедноты состояло из сплошного «как-нибудь»: без угла изба, без ноги стол, без петель дверь. О том, что бедняки были настолько запуганы, что не решались являться на сходы, а если и являлись, то стояли в стороне и покорно соглашались с решениями крикунов-богатеев.
И вот в деревню вернулся с румынского фронта, вырвавшись из солдатского хомута, Никита Горбунов. Поселился в развалюшке на краю деревни и стал призывать бедноту, чтобы она обрезала крылья у кулаков. Собрал сход, предложил организовать комитет бедноты и был избран его председателем.
Теперь беднота взяла всю власть в свои руки. Работа закипела. Весь состав комбеда выступил с отрядом по реквизиции хлеба. Во главе отряда стоял Горбунов. Проводились обыски. Описанный хлеб реквизировался и свозился в общий амбар. Часть хлеба отгружали в город, часть раздавали бедноте.
Кулаки, видя, что они «пришиты к делу», давай кидаться во все стороны, как волки в западне. Они угрожали Горбунову. Кричали на сходе: «Мудришь, брат! Пополам распоролся. Смотри, пожалеешь, да поздно будет!» На это Горбунов отвечал: если, мол, они скажут, что сегодня в двенадцать часов ночи придут и будут всех комбедовцев вешать, то он все равно отсюда не уйдет и будет защищать интересы бедняков, а не кулаков.
И вот поздней ночью кулаки Илья Обаимов и Федор Великанов подошли к избенке, где спал со своей семьей Никита Горбунов, выбили доску у входной двери, откинули таким образом крючок и проникли в дом. Были они в масках, сшитых из мешков, с топорами в руках и с большим зажженным фонарем. Они зарубили Никиту, его жену и четверых детей. Только самый младший, завернувшись в овчину, скатился под кровать, притаился там и заснул. Рано утром мальчишка выбрался из-под овчины, взял с собой котенка и с плачем пошел на улицу. Там он стал продавать котенка за три копеечки. Люди удивились, чего это мальчишка продает котенка. Тут он и рассказал, что тятеньку с маменькой зарубили… Пошли к ним домой, увидели убитых, а потом нашли убийц. Убийц заставили перед сходом рассказать подробности и потом расстреляли.
– А малого, товарищ Свердлов, девать некуда, потому что все голодные. Вот мы и решили отвезти его в Москву, просить центральную Советскую власть позаботиться о нем. Рубашонка-то на нем из материной кофты. Подвенечная, из приданого, лежала в сундуке. Вся остальная одежда в крови, порублена на убитых.
Если крестьяне неизменно величали себя «ходоками», то рабочие говорили «мы делегаты…» или «мы представители…». Они тоже толковали об отсутствии хлеба, но чаще всего эти разговоры были связаны с организацией продовольственных отрядов. И в прихожей для посетителей, и в разговоре со Свердловым они держались уверенно, свободно, как равные, а не как просители.
Вот пришли коммунисты текстильщики из Иваново-Вознесенской губернии. Яков Михайлович сразу узнал их по говору.
– А, ивановские! Проходите, садитесь!
Внешне они напоминают крестьян. Во всех их повадках так и чувствуется русская деревня. Но стоит им заговорить – и тотчас понимаешь, что перед тобой рабочие.
Они очень озабочены положением на своей фабрике. Две недели назад один из служащих в пьяном виде проболтался насчет каких-то выплат бывшим хозяевам. Фабричная контрольная комиссия решила проверить кассовые книги. В них обнаружились жульнические записи на несколько сот тысяч рублей. Обратились с совнархоз, чтобы прислали ревизора, и тот распутал целый клубок наглого хищничества и систематического выкачивания средств из предприятия прежними владельцами.
– Всего этого, может, и не было бы, – говорили делегаты, – но председателем фабричного комитета сидит некий Вдовкин, который идет на поводу у хозяйского правления и говорит рабочим, что вот, мол, куда же вам работать, когда вы ходите голодные. Распустили народ так, что смотреть тоска. Многие рабочие лодырничают, стараются как-нибудь отмахать смену, прийти попозже, уйти пораньше. А члены фабричного комитета, вместо того чтобы следить за порядком, ходят по фабрике, как журавли по болоту, и ни бельмеса не видят, и не понимают, а если и видят и понимают, то указать рабочим на недостатки не желают.
А тут еще шныряют темные личности из меньшевиков. Они подзуживают рабочих требовать уплаты по полному расчету за май месяц, а из всего месяца фабрика работала только двенадцать дней. На собрании подняли крик: рабочие, мол, не виноваты, что фабрика остановилась. Но удовлетворить эти требования не представляется никакой возможности – в кассе денег нет, их разворовали хозяйские прислужники..
Мы так думаем, товарищ Свердлов, про наших правленцев да про Вдовкина, что этих собак давно пора привязать покороче да посадить в кутузку. А на фабрике завести такие порядки: кто хочет лодырничать, тех карать согласно революционному закону.
…Вот другой рабочий-представитель, которого фабричный комитет направил в центр за сырьем.
– Я, как рабочий, хочу высказать вам, товарищ Свердлов, насчет этой проклятой челобитчины и оттяжек и отписок.
Ходили мы с нашим делом уже два месяца. Наконец нам говорят: «обратитесь в „упеке“». Пошли мы в это самое «упеке». А они вместо работы поскакали разыскивать Номер входящий, номер исходящий, отношение, разрешение, черт его знает за каким номером. Полетели депеши. Наконец товарищ Сивков выразился, что он согласен дать разрешение.
Пошли мы к секретарю, чтобы он это разрешение выписал. Но тот заявил: «Мне, знаете ли, некогда. Обратитесь в отдел». Но я должен заметить, что товарищ в это время совершенно ничего не делал и стоял у своего стола, куря папироску. Приходим в отдел, тут та же история: сидит человек, покуривает трубочку, по типу его нельзя назвать товарищем, а скорее господином; он либо из мелких буржуев, либо интеллигент, стоящий на платформе буржуазной власти. Мы обратились к нему. Он говорит: «Подождите». Ждем… Около нас с разными просьбами собралось много граждан, волнуются, почему их задерживают. И так, не дождавшись разрешения, мы ушли. Тут дело ясное: господин старого времени. А товарищ Сивков? Ведь это человек из нашей трудовой среды, испытавший на себе тяжесть прежней жизни. И вот теперь, когда его посадили наверх, то есть на почетное место, он вдруг облек себя в личину прежнего времени.
Зачем же мы видим такое в наших советских учреждениях? Может, для всяких буржуазных господ волокита – это их суть и задача, но при чем здесь население, на которое летят шишки? Позор товарищу Сивкову, из-за него эта чиновничья шваль бьет нашего брата рабочего.
…Группа рабочих с Путиловского завода. Сразу видишь питерцев. Привезли в дар Совнаркому вагон сельскохозяйственных орудий.
Передавая Свердлову документы на груз, один из них говорит:
– Как делегаты рабочих, мы приветствуем, товарищ Свердлов, в вашем лице дорогое нам рабоче-крестьянское правительство. Нами доставлен в Москву вагон кос и серпов, изготовленных рабочими нашего завода для товарообмена с крестьянством. Делали мы их из отходов, работали сверхурочно. При вагоне имеется резолюция общего собрания рабочих, в которой указывается, что наша промышленность в итоге четырехлетней войны совершенно рушится и мы должны спасти ее и поднять своими крепкими руками, для чего довести до максимума производительность труда на началах пролетарской самодисциплины.
Рабочие нашего завода просят вас, товарищ Свердлов, передать пламенный революционный привет товарищу Ленину и международному пролетариату и надеются, что уже скоро представится возможность выйти из империалистического кольца и нанести поражение западно-европейским империалистическим хищникам, проложив путь к революции в Западной Европе. Да здравствует мировая революция!
И снова деревенские сермяги, лапти, онучи. Но на этот раз пришли не просто крестьяне, а члены комитета бедноты. Чувствуется, что это уже новые люди. Даже манера держаться, даже осанка у них иная.
Яков Михайлович просит поподробнее рассказать о комитете бедноты.
– Голодающая беднота нашей волости, – говорят они, – сначала боялась. Но потом бедняки, видя хлеб у соседей-богатеев, поняли, что только с комитетом голодной бедноты можно вырвать припрятанный хлеб.
В комбед выбрали руководителей из более сознательных и решили, что бедняки должны действовать во всех случаях дружно, не стесняясь правды. В товариществе будем уважительны и всячески помогать друг другу. Одним словом, как братья одной матери.
Беднота сплотилась в отряд, который отправился для учета хлеба у зажиточных. Оставляли им на пропитание по сорок фунтов на душу, остальную муку отбирали и сдавали в общий котел для раздачи голодающим и отправки в город. В иных кулацких семьях отбирали по девяносто и по сто пудов. Потом комитет бедноты стал вызывать кулаков. Им объявляли: «Вы по скольку драли с бедняков за муку? По триста рублей за пуд? Гони, брат, три тысячи рублей на общие нужды».
Вот так, пощипав кулаков контрибуцией, комитет бедноты собрал девятнадцать тысяч рублей и хочет приобрести на эти деньги три плуга железных, хороших, да коней, чтоб уборку хлебов и вспашку произвести артелью.
Кулаки видят, что бедняки поднялись против них, и беспокойно озираются: «А что, ежели, хотя не может быть этого, но а ежели все-таки в самом деле большевики окончательно возьмут верх?»
Трусят они теперь, всего боятся, как мыши. Стоит только кому на заре из ружья по тетеревам выстрелить или если мальчонка какой, шаля, ударит по забору палкой, кулаки пугаются, кричат:
– Беднота идет наше последнее добро отнимать!
А то обрадуются:
– Не немец ли?
Тогда выбегают из домов, снимают шапки, на кресты церковные молятся и приговаривают:
– Господи милостивец, пошли Федора Васильевича на избавление от бедноты.
Они прозвали Федором Васильевичем германского императора Вильгельма и служат за него в церквах молебны.
Им хоть немца, хоть француза, хоть американца – только бы свалить Советскую власть. Да напрасны их надежды. Нас дерьмом не запугаешь!