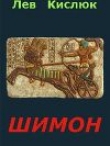Текст книги "Дзюрдзи"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Ох, и бедные, бедные они, несчастные!
А какая-то баба стала громко причитать протяжным, ноющим голосом:
– Чтоб тому, кто это сделал, хорошей жизни не видать! Чтоб ему зачахнуть за обиду людскую и на похоронах родных детей плакать!
Это была Параска; выкрикивая проклятия, она искоса посматривала на Петрусю.
– Гляньте-ка, – продолжала она, – чего это кузнечиха нынче покупную юбку и матерчатый платок не надела?
Ох, давно, давно это покупная юбка и полушелковый платок, в которые иногда наряжалась Петруся, не давали Параске покоя; вот и сейчас она вспомнила про них, когда полоскала старое, рваное тряпье свое и своего семейства.
Вдруг с поля донеслись крики – низкий басовитый и визгливый. Женщины засмеялись. Степан Дзюрдзя опять ссорился с женой. Ссорились они так часто, что для одних стали предметом сурового осуждения, а для других посмешищем. Теперь из отдельных слов, долетавших сюда, можно было понять, что речь шла о каком-то картофельном мешке, за которым Степан посылал жену домой. Но в самом ли деле мешок был причиной ссоры? А может быть, он в ту минуту пожелал, чтоб жена исчезла с его глаз, а она именно в эту минуту ни за что не хотела оставить его тут одного? Господи! До чего она чувствовала себя несчастной! Казалось, чувство это поднимало ее над землей, так быстро бежала она к пруду, сжимая голову руками. Бежала она прямо к стоявшей над водой Петрусе и с такой силой толкнула ее всем телом, что та пошатнулась и, чтобы не упасть, схватилась за ветку ивы. Обезумевшая от ревности и горя Розалька напустилась на свою мнимую соперницу, понося ее бранными словами, среди которых чаще всего повторялось слово «ведьма». Первым движением кузнечихи было броситься на обидчицу и ответить ей такой же руганью. Но, видно, она тотчас опомнилась и постыдилась драться, а гнев ее сменился горечью и страхом, согнавшим румянец с ее щек. Она снова склонилась над водой, стараясь стуком валька заглушить крики Розальки, которая металась вокруг нее, грозила ей кулаками и осыпала градом проклятий и ругательств. Среди женщин, стиравших белье, послышался смех; одни громко вышучивали и обидчицу и обиженную, другие пожимали плечами, плевались и, показывая на Розальку, обзывали ее полоумной, гадиной и язвой. Нашлись тут и такие, что решились вступиться за Петрусю. Молодая Лабудова крикнула Розальке, что напрасно она пристает к кузнечихе, что та на ее мужа и смотреть не хочет, не только что другое! Будракова, одна из снох старосты, даже оттащила обезумевшую женщину за рубашку и юбку, сурово отчитав ее за злобу и бешеный нрав. Но ничто не могло остановить Розальку, пока она не увидела мужа, бегущего к ней с тем самым кнутом, которым он погонял лошадей. Тогда, как раненая птица, крича и вскидывая руки, она рванулась и, словно на крыльях, полетела в деревню. Долго еще слышались ее отчаянные пронзительные вопли, вперемежку с ругательствами и угрозами, относившимися к Петрусе.
Что там дальше делалось на берегу, Петруся не знала и знать не хотела. Она не поднимала головы и даже глаз, так стыдно и страшно становилось ей под взглядами людей. Ей и смотреть-то было боязно на этих женщин, а они, подивившись и поболтав еще немного, собрали свое белье и одна за другой или кучками стали расходиться по домам. Вскоре по тишине, воцарившейся на пруду, Петруся догадалась, что, наконец, все ушли. Тогда она выпрямилась и, вскинув глаза, увидела в нескольких шагах от себя Степана: он сидел, уставив локти в колени, на пне под розовой осиной и, подперев подбородок руками, в упор смотрел на нее. Жена кузнеца отвернулась от него и молча принялась складывать в лодку выжатое белье. Он сразу заговорил:
– Давно я не видел тебя, Петруся, и не разговаривал с тобой. Вот уже скоро год, как ты выгнала меня из своей хаты да еще дверь за мной заперла на засов. С тех пор я не приходил к вам и нигде тебя не подстерегал...
– И не надо! – нагнувшись над лодкой, сердито буркнула женщина.
Степан продолжал:
– Надо или не надо, а так уж получается... Такое ты со мной сделала, что где ты, туда и меня тянет, там все мои думы... А если ты не хотела, чтобы так оно было, для чего ты это сделала?.. Или на вечную мою погибель ты приворожила меня? А?
На этот раз она обернулась к нему лицом; взгляд у нее был испуганный и вместе с тем гневный.
– Если б знала я средство, я бы так сделала, чтоб глаза мои никогда тебя не видали, никогда, до конца моей жизни. Вот что я бы сделала, кабы знала, как тебя отвадить, но, хоть все вы и зовете меня ведьмой, я не знаю, на погибель мою вечную, не знаю!
Она снова принялась складывать белье в лодку; пунцовые губы ее надулись, как у рассерженного ребенка, глаза налились слезами.
Степан уселся удобнее на своем твердом сиденье и, не сводя с нее глаз, снова заговорил:
– Ведьма ты или не ведьма, а лучше и ласковей тебя и в работе усердней нет во всей деревне, да что в деревне! Во всей округе, а может, и на свете нет! Может, ты когда напоила меня тем зельем, которое дала Франке для Клеменса, а может, и не поила, почем я знаю? Может, то зелье, что в нутро мое вошло, – это твой ласковый и веселый нрав? Недаром же, когда ты была еще девушкой, я, бывало, погляжу на тебя, послушаю, как ты поешь да смеешься, и сам делаюсь другой, – такой же ласковый, тихий и веселый, как ты...
Помолчав с минуту, он продолжал:
– А я только и люблю тихих и веселых... Вот оттого я с Петром и Агатой веду дружбу, что они ладят между собой и обхождение у них уважительное, и Клеменса я люблю за то, что он старших почитает и всегда веселый. А сам я злой – это правда, и беспокойный, как ветер, и хмурый, как небо перед дождем... Таким я, видать, уродился, с такой хворью в душе уродился, и не вылечила меня от этой хвори мать, такая язва, что из-за ее ругани и побоев я и детства не знал; и не вылечил брат, что хотел оттягать мой надел... И не вылечила гадина-жена... И не вылечила водка, хоть я и пью без просыпу... Никто меня не вылечил, и ничто не вылечило...
Он говорил медленно, печально, уставясь взглядом в землю. Через минуту он снова поднял глаза на Петрусю.
– Ты могла бы вылечить меня от этой хвори, но не захотела, – прибавил он.
Женщина, успокоенная его ласковым голосом, а может быть, тронутая его печалью, не прерывая своей работы, мягко ответила:
– Видно, не суждено было. А какое у тебя горе? Зря ты жалуешься и бога гневишь. Чего тебе не хватает? Хата и хозяйство изрядное у тебя есть... Жена и ребенок есть... Вот бы и благодарил господа бога да радовался... если бы только захотел.
– Это правильно, – подхватил Степан. – Уж такая-то у меня хорошая жена и такой крепкий, здоровый сын! Из него выйдет работник на славу, для меня опора! Эх!
В голосе его звучала грубоватая, но горькая ирония; он засмеялся и тихо ругнулся, тихо, должно быть, потому, что боялся вспугнуть эту женщину, которая в первый раз за долгие годы не отказалась с ним разговаривать.
– Тебе я скажу правду, Петруся: мне уж и хозяйство опостылело. Для кого мне стараться и работать? Что, у меня хата полна детей? Один ведь сын у меня, да и то такой, что только слушаешь, дышит ли еще, жив ли. И больше детей не будет. Жена – мне не жена. Я и смотреть на нее не хочу: тошно. Прихожу я с поля домой и ложусь, как пес, ни с кем не обмолвясь словечком. Еще хорошо, если она молчит, а то как начнет злиться или приставать со своей любовью, так мы сейчас оба и завоем, как два волка, запертых в одной клетке. Вот оно какое мое счастье! Люди надо мной насмехаются, будто я хуже всех, да и хозяйство мое скоро полетит к черту... оттого что нет у меня ни к чему охоты... так бы я и проклял весь свет – и баста!
– Стыдно! – крикнула Петруся. – Стыдно тебе, Степан, и говорить такое и делать! Смотрел бы ты за хозяйством и с женой жил бы, как повелел господь бог, в ладу и в согласии... Вот как я с моим живу, душа в душу, и сроду у нас минутки такой не бывало, чтоб мы злобились или ненавистничали.
– Ты мне хоть о своем не поминай... – бросил Степан, и глаза его заблестели.
Петруся не смотрела на него и не заметила, как в нем разгорелась страсть.
– Обходился бы ты со своей женой, как мой муж со мной, и она стала бы лучше, – продолжала Петруся.
– Чтоб они оба потопли! Чтоб глаза их на этот свет не глядели! – угрюмо буркнул Степан.
– Тьфу! До чего злой, гадкий человек! Людям смерти желает! – наморщив лоб и сердито глядя на него, сплюнула Петруся, собрала с земли выжатое белье и, бросив его в лодку, прибавила:
– Умно я сделала, что не захотела идти за тебя... Хорош был бы у меня муж...
Увидев, что она сейчас сядет в лодку и уедет, Степан вскочил со своего пня и встал подле нее.
– Погоди, Петруся, немножечко погоди, – зашептал он, – еще минутку поговорим... что тебе стоит? Еще одну минутку! Нет, с тобой я был бы не таким, как с ней... С тобой я стал бы ласковый и смирный, как пес, что нашел своего хозяина... Ты бы детей моих не так растила, как та... Ты бы в хате у меня смеялась и пела, как коноплянка в гнезде... А я всю жизнь целовал бы тебе руки и ноги; будь ты со мной, я и работал бы до кровавых мозолей... Ох ты, моя Петрусенька, милая ты моя... Ты хоть теперь от меня не убегай... дай мне хоть минутку порадоваться на тебя...
С глазами, горящими страстной любовью, он наступал на Петрусю, толкая ее под сень широко раскинувшейся ивы, жарким дыханием обжигал шею и плечи, обхватив ее стан будто железной рукой. Она закричала от ужаса и гнева, легко, как лань, вскочила в лодку и, схватив весло, в одно мгновение отчалила. Не прошло и минуты, как лодка уже удалилась от берега. По тихой лазурной глади она скользила быстро и ровно, почти не раскачиваясь и унося к противоположному берегу высокую, стройную женщину, плавно и мерно сгибавшуюся над веслом, вспенивавшим воду. Волосы, выбившиеся из-под красного платка, скрывали огненный румянец на ее лице; голые чуть не до колен ноги и взмахивающие веслами руки золотило заходящее солнце. Человек, стоявший под ивой, не сводил с нее глаз, сверкающих как два снопа пламени. Выражение страстной любви исчезло с его лица, омраченного скорбью и гневом; жестокой злобой дрогнули губы.
– Коли так, – крикнул он вслед удалявшейся женщине, – стало быть, ты и вправду ведьма! Бесовской силой ты привораживаешь к себе людей, а потом отдаешь их на вечную погибель! Погоди же! Будет тебе за это! Уж я сумею тебе отплатить за свою обиду, ведьма проклятая, душа твоя окаянная!
Расстояние еще позволяло Петрусе слышать его крики. Однако она ничего не ответила, только лодка закачалась под ней, как будто она содрогнулась всем телом. Но вот ее лодка снова понеслась ровно и быстро, а ненавидящая, жестокая улыбка все блуждала по бронзовому лицу мужчины, стоявшего в тени раскидистой ивы. Из полумрака, в котором он стоял, женщина, плывущая в солнечных лучах по лазурной глади, должно быть, показалась ему страшным, зловещим и вместе с тем светлым и манящим видением.
– Ведьма! Ей-богу, ведьма! – прошептал он, а когда лодка причалила к белевшим пескам на противоположном берегу и Петруся побежала к своему дому. Степан вернулся к брошенному плугу и, стиснув кулаки, прибавил:
– Нет, нельзя ей ходить по божьему свету, нельзя!
Мужа своего Петруся не застала дома. Стасюк, прибежавший на берег навстречу матери, уцепился за ее платье и, увязая в белом песке, по дороге рассказал ей, что тятя пошел поговорить с корчмарем. Петруся знала, что тот порекомендовал Михалу большую и выгодную работу в одном из соседних имений, а потому не тревожилась и даже не удивилась, что муж не вернулся домой в обычное время. Дело было важное, и, наверное, требовалось многое обсудить. Готовя ужин, пока дети играли в углу горницы деревянной свистулькой и лузгали жареные подсолнухи, она, понизив голос, рассказала бабке все, что произошло сегодня – с Агатой и на пруду. Слушая ее рассказ, Аксена пряла все быстрей и быстрей, но вскоре нитка, тянувшаяся из кудели, стала рваться и веретено выскользнуло из ее пальцев. Сложив руки на коленях, старуха сидела выпрямившись, как струна, и хотя Петруся давно умолкла, она не вымолвила ни слова, только челюсти ее под желтой кожей задвигались с необычной быстротой, словно пережевывая новую горесть, а белые глаза, казалось, с особым напряжением вглядывались в колеблющиеся отблески огня, освещавшие горницу. Ужин сварился, но женщины ждали хозяина дома, который должен был прийти с минуты на минуту. Огонь в печке угасал, дети, прикорнувшие к стоявшим у стены снопам льна, затихли и подремывали, сбившись в кучу, в которой перемешались босые ножки и румяные личики.
Петруся внесла в сени стоявшую во дворе мялку, с минуту еще повозилась в горнице, потом, громко вздохнув, тоже села на пол и, прислонясь к снопам, устремила в пространство задумчивым взгляд. В тишине, наполнявшей горницу, послышался хриплый и как-то особенно дрожавший сегодня голос слепой бабки.
– Петруся! – позвала она.
– Что, бабуля?
– Сожги травы: и те, что ты нынешний год наносила с поля, и те, что остались с прошлого лета, – все, что есть в хате.
– Почему, бабуля?
– Сожги! – прикрикнула старуха и тише, но так же сердито пробормотала: – Вот глупая! Еще спрашивает почему?
Петруся поднялась с пола, с минуту еще раздумывала, удивленно покачала головой и пошла в клеть. Из клети, с чердака, из сеней она приносила в переднике или рядне вороха высохших и ломких или только увядших и еще пахучих цветов и полевых трав, ссыпала их на пол возле печки, а потом, вздув огонь, принялась бросать их горстями в печку. Делала это она молча, с разгоревшимися глазами и слегка прикусив губу. По лицу ее видно было, что она встревожена и огорчена. Все эти растения, такие душистые и яркие, которые она любила с детства, – лиловый чебрец, желтый коровяк, гирлянды сцепившихся трав и стеблей, теперь охватило рыжими языками пламя и окутал синими завитками дым, столбом поднимавшийся в трубу, распространяя вокруг сильный опьяняющий аромат. Когда несколько охапок высохших трав сгорело, Петруся подняла голому к лежанке и снова спросила:
– Почему так, бабуля?
Старуха не ответила. Она погрузилась в глубокую задумчивость и, должно быть, даже не слышала вопроса внучки. Наконец, сверху донесся скрипучий, слегка дрожащий голос:
– Много я на этом свете видела и слыхала всякого дива-дивного и знаю, что из чего может выйти. Старая Прокопиха и теперь, как живая, стоит перед моими глазами и, как живые, стоят те слезы, что текли и текли по ее старенькому лицу...
Постепенно голос слепой бабки становился все более монотонным и вместе с тем похожим на жалобный и певучий речитатив.
– Жила-была в людном, но небогатом селе солдатка Прокопиха, бедная батрачка, и не было у нее ни хаты своей, ни родни. Мужа ее убили где-то в дальних краях на войне, и остался у нее один только сынок-сиротинка, а звали его Прокоп, стало быть, по отцу. Бедненький был этот Прокоп, никому, кроме родной матери, не нужный. Ни отца и братьев, ни хатки и землицы у него не было, явился он на свет голый, как Адам, а едва подрос, пошел в люди работать. У чужих людей, где всякий им помыкал, он спину гнул и крепко бедовал, на чужое добро искоса поглядывал и хмурый стал, как осенняя ночь. Хоть бы все кругом не знаю как веселились, он, бывало, как волк, один-одинешенек ходит и в землю смотрит, словно ищет, где бы ему могилку себе вырыть, а сам все о чем-то думает и думает. Не любили его люди за угрюмый нрав, за то, что он всех сторонился, и не уважали, как и всякого сироту одинокого, за которого некому заступиться. А тут на какой-то год начал кто-то коней красть у хозяев. У одного лошадка пропала, у другого пропала, у третьего пропала. По всему селу поднялся крик да плач; люди там жили небогатые и жалели свою животину, да и как не жалеть: туго без нее в хозяйстве. Стали искать вора, допытываться, караулить – нету! Нету и нету, как сквозь землю провалился! А лошадей всё уводят да уводят! Один раз кто-то приметил, что Прокоп частенько пропадает где-то. Пройдет, бывало, день, два, три, пройдет и неделя, а его все нет в селе, где-то он шатается. Видали его в лесу, как он с нехристями-евреями разговаривал, и в местечке видели, как он пил в корчме да как ленты покупал для какой-то девки, неведомо, на чьи денежки. Тогда уже всем пришло на ум, что это батрак Прокоп крадет коней. Ну, тут взяли его и потащили в суд. Суд слушал, слушал, да и сказал Прокопу, чтобы шел он к себе в село, оттого, мол, что неизвестно, он ли крал лошадей; достоверности, мол, нет; давайте, мол, на него доказательства получше... Прокоп вернулся в село, а лошади – как пропадали до этого, так и теперь пропадали. В ту пору хозяева уже шибко лютовали за свое добро. Один раз подкараулили его на опушке, а как Прокоп повез из лесу дрова для своего хозяина, его схватили – и давай колотить палками...
– Ох Иисусе! – вскрикнула Петруся; опустив руку в передник, наполненный сухими травами, она застыла у печки, широко раскрыв глаза и дрожа всем телом. – Палками! – простонала она тише и, немного придя в себя, принялась снова бросать травы в огонь.
Пламя ярче вспыхнуло, в горницу повеяло синей душистой мглой, а с печки старческий голос повторил:
– Палками. Ребра ему поломали, руки-ноги поломали, лицо ему раскровянили и бросили мертвого посреди чистого широкого поля, белому снегу на подстилку, черным воронам да галкам на съедение.
В горнице на миг наступила тишина, затем слепая бабка докончила свой рассказ:
– А Прокопиха-солдатка с тоски по своему сыночку-горемыке вскорости рехнулась. Из жалости люди кормили ее и одевали, а она, бывало, забьется в темный угол и про своего парнишку все рассказывает, рассказывает, а по лицу ее старенькому да сморщенному слезы, как горошины, текут и текут... И я там бывала, речи ее слыхала, слезы ее видала, а теперь все это, как живое, встало перед слепыми моими глазами...
Когда хриплый, дребезжащий и в то же время певучий голос старухи замолк, Петруся тихо окликнула ее:
– Бабуля!
– Чего ты?
– А этот Прокоп и вправду крал коней?
Подумав, старуха ответила:
– Может, крал, а может, и не крал. Уж это неизвестно. Наверно-то никто не знал.. Но подозрение такое у людей было, и страшный был гнев у людей...
– Страшный! – как эхо, повторила стоявшая у печки женщина и быстро-быстро побросала в огонь остатки сухих трав.
Немного спустя старуха снова заговорила:
– Петруся!
– Что, бабуля?
– Больше не смей никому помогать...
– Не буду, – ответила молодая женщина.
– Никому, смотри. Хоть бы не знаю как тебя просили. Слышишь?
– Не буду, бабуля...
– Затаись, как рыбка на дне воды, чтобы люди забыли про тебя.
– Хорошо, бабуля.
Дверь в горницу отворилась, и вошел кузнец; едва взглянув на него, Петруся вскричала:
– Ой, боже мой! Да что это с тобой приключилось, Михалек?
Должно быть, и в самом деле с ним случилось что-то неладное. Лицо у него пылало, один глаз подпух, а на лбу и на щеках темнели синяки. Сняв шапку с всклокоченных волос, он сердито оттолкнул подбежавших к нему детей, которые проснулись, когда он пришел. Потом, сев на лавку, Михал обернулся к жене и ответил слегка охрипшим голосом:
– Приключилось то, чего со мной сроду не бывало. Я служил в солдатах, шесть лет шатался по свету, а никогда ни с кем не дрался; тут я уже семь лет живу и хозяйствую, и люди меня всегда уважали, оттого что я сам себя уважал. А вот сегодня я подрался с мужиками возле корчмы. Из-за тебя, Петруся, ввязался я в драку. Тьфу, стыд и срам, да и только!
Он сплюнул и, отвернувшись от жены, закрыл ладонью изувеченный глаз. Петруся, стоявшая у огня, молча смотрела на него; глаза ее расширились, руки упали и повисли вдоль тела.
С минуту подумав, он начал рассказывать:
– Сижу я, разговариваю с корчмарем насчет работы и вдруг слышу: мужики перед корчмой про тебя болтают, орут, что это ты на Клеменса Дзюрдзю напустила хворь. Орали Шимон Дзюрдзя и Якуб Шишка – известный вор; потом пришел Степан и тоже начал болтать; шли мимо бабы, убиравшие картошку, остановились и, как вороны, закаркали: и такая она и сякая, из-за нее у коров молоко пропало, а теперь она Клеменса отравила. Слушал я, слушал, ну, не стерпел, выскочил из корчмы и поругался с ними. Слово за слово – так и дошло до драки. Бил и я, били и меня... тьфу, стыд какой! Тут стараешься, работаешь, как последний батрак, живешь по совести и людей и самого себя уважаешь – и вдруг ни с того, ни с сего свалится на тебя этакий срам... Ну, приятно ли это – слышать, как жену обзывают ведьмой и чертовой любушкой, да ходить с синяками на лице после драки с ворами и пьяницами. Ой, боже мой, боже, за что на меня такая напасть свалилась, этакий срам!
Сквозь стыд и раздражение в словах его проскальзывала обида на жену. Петруся молчала, испуганная до того, что у нее заметно дрожали руки, когда она доставала из печки горшок с варевом. Потупив взор, она зажгла лампу и поставила ужин на стол. А когда по обыкновению она подавала мужу ковригу хлеба и нож, он, зажимая рукой подпухший глаз, другим пристально посмотрел на нее.
– Петруся! – спросил он, – что ты такого сделала людям, что они напали на тебя, как вороны на падаль?..
Она медленно пожала плечами.
– Будто я знаю?
– Да ведь не может это быть без причины? А? – снова спросил он.
Вопросы мужа заставили Петрусю еще сильней призадуматься.
– Будто я знаю? – повторила она.
Должно быть, она сама не понимала, почему так загадочно сложилась ее судьба, и не была уверена, что причина этого не крылась и в самом деле в ней самой. Другая на ее месте, несмотря на эту неуверенность, стала бы все отрицать и рассыпаться в клятвах, оправдывая себя и злословя о других. Петруся этого не делала. Ни разу еще она не солгала мужу. Они жили душа в душу, не таясь друг от друга, как два прозрачных, текущих рядом ручья. А теперь она бы солгала, сказав ему, что уверена в себе, когда в душу ее все глубже проникал страх – не перед людьми, а перед чем-то неясным, таинственным и грозным.
– Будто я знаю? – еще раз повторила она и, нахмурив лоб, на котором легли две глубокие складки, отвернулась от мужа.
Он смотрел на нее и, не то удивляясь, не то грустно размышляя о чем-то, качал головой. Потом подозвал детей, а с ней уже ни о чем не разговаривал и ни разу в тот вечер не назвал ее зозулей. Расстроенный и молчаливый, он улегся спать; в горнице стало темно и тихо, но вдруг среди ночи, в темноте и тиши, послышался шорох шагов и кто-то взобрался на печку.
– Бабуля! Бабуля! Ты спишь?
На печке прошелестел испуганный шепот.
– Не сплю, дитя, не сплю! Все думаю о тебе, – ответила Аксена, к которой старость нередко приводила бессонные ночи.
– Бабуля! – пожаловался другой голос, – что-то меня нынче душило во сне... навалилось на грудь и живот и душило так, что я чуть богу душу не отдала...
– С чего бы это? – удивилась старуха. Но тотчас спросила: – Может, ты в воскресенье что-нибудь делала такое, что не дозволено в праздник?
– Нет, бабуля, ничего я в воскресенье не делала, никогда не делала...
– Да ты припомни... может, что делала! Если делала, значит это воскресенье к тебе пришло и душило тебя за то, что ты его обидела... Так бывает на свете. Я сама знала такого человека, что всегда работал по воскресеньям. И вот раз воскресенье само к нему пришло, громадное, как солнце на небе, навалилось на него и задушило... насмерть задушило. Ты припомни, а может, не приведи господи, что-нибудь ты делала в воскресенье...
– Не делала, бабуля, ой-богу, никогда я в воскресенье ничего не делала...
– Ну, так что же тебя нынче душило?
Долго они обе молчали, наконец в темноте молодой голос испуганно зашептал:
– Бабуля, я слышала, будто черт, когда к кому-нибудь привяжется, вот так же душит...
На печке что-то громко зашуршало: должно быть, это слепая бабка повернулась на своем сеннике.
– Перекрестись, дитя, перекрестись ты святым крестом...
– Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.
Снова на миг наступила тишина, потом старая Аксена прошамкала:
– Кручина тяжкая душила тебя, Петрусенька, кручина да печаль.
– И то! – шепотом подтвердил другой голос.
– Что-то Михал нынче расстроен был и гневен...