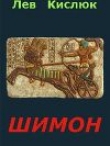Текст книги "Дзюрдзи"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Ну, – начал он, оглядывая горницу, – по-барски тут у вас, красота... И стулья завели и самовар... Ого!
– Оно хоть и не по-барски, – подхватила Аксена, и от удовольствия ее едва заметные губы растянулись до ушей, – а слава богу, всего у нас вдоволь... все есть... и хлеб и согласие нерушимое... как повелел господь...
– И сын есть... пошутил Петр, добродушно глядя на Петрусю.
Она немножко смутилась и опустила глаза, но ответила, весело улыбаясь:
– Есть, дядя...
– И скоро другой будет, – шутливо продолжал староста.
На этот раз молодка зарделась, как мак, и, отвернувшись, тихонько хихикнула. Аксена тоже смеялась на печке дробным старческим смешком, напоминавшим сухой перестук деревянной погремушки.
– Да и один ли еще... ой, ой, один ли еще будет! – приговаривала она.
– Дай бог на радость, – сердечно пожелал Петр, а тут и кузнец вошел в хату. Перед уходом из кузницы он надел ловко сидевшую на нем серую суконную куртку, отороченную зеленой тесьмой. Лицо его, потное от работы, пылало; увидев Петра, он очень обрадовался и поцеловал ему обе руки. Ни он, ни Петруся никогда не забывали, что старая Аксена и ее внучка столько лет ели хлеб в доме Петра. Правда, ели они там хлеб не даром, но он всегда был хорош и приправлен добротой обоих хозяев. А если потом все стало по-иному и им снова пришлось скитаться, в том Петр не был повинен.
– Петруся! – крикнул жене кузнец, – угости-ка дядю чайком...
Петр уселся поудобнее. Он очень любил чай, но пил его редко, только в местечке, когда приезжал на богомолье или на базар; у себя дома он не хотел держать самовар, оттого что его не держали деды и прадеды.
– Ого! – заметил он. – Вы, как господа... чаи распиваете...
– Пьем-то мы его не каждый день, но бывает, пьем, – ответил кузнец. – А что делать? Водки мы ни капли не берем в рот, так надо же иной раз чем-нибудь брюхо согреть... А зелье это и бабуле прибавляет жизни, и случись кто в гости придет, хорошо им попотчевать...
– Еще бы не хорошо, плохо ли? – подтвердил Петр и примялся расспрашивать кузнеца о всякой всячине, а тот много чего знал, но зря он побродил по белому свету, да и теперь, как всякий мастеровой человек, постоянно имел дело с множеством народу. За язык его не приходилось тянуть: Михал от природы был словоохотлив и весел. Вот он и принялся долго и подробно рассказывать гостю о каком-то большом городе, в котором несколько лет прослужил в солдатах, а тем временем Петруся вскипятила самовар и уже через несколько минут из глиняного чайника наливала чай в три толстых зеленоватого стекла стакана, потом, сунув в каждый оловянную ложечку, положила на белое блюдце несколько кусков сахару. Она ходила босиком и быстро, ловко двигалась по горнице, доставая из шкафчика посуду и сахар, а стаканы и ложечки весело, как колокольчики, звенели у нее в руках. Два стакана чаю она подала на стол – гостю и мужу, а третий, вскочив на лавку, поставила на печку, и, пока мужчины беседовали, она наливала горячий чай на блюдце и, надув щеки, громко, изо всей силы дула на него. Потом кончиком пальца пробовала, остыл ли, и подносила блюдце ко рту бабки, приговаривая:
– Пей, бабуля, пей!
Поила она бабку, сидя на краю печки. Дома она не покрывала голову платком. Темные волосы рассыпались вокруг ее лица, а лоб у нее был такой гладкий и ясный и так весело блестели глаза, что, хотя в люльке спал ее годовалый ребенок, она казалась девушкой. Разговаривая с Петром, Михал взглянул на жену раз, другой и, наконец, прервав свой рассказ, спросил:
– Петруся! А ты опять не пьешь чай?
Она выпятила губы и, барабаня босыми пятками по печке, ответила:
– Не хочу! He люблю! Поганое зелье. По мне уж лучше саламата с салом.
Упоминание о сале вернуло Петра к цели его сегодняшнего посещения. Он облокотился на стол, подпер щеку рукой и принялся рассказывать о случившемся в его хате происшествии. Его слушали с удивлением и горячим сочувствием. Больше всего интересовались вопросом: кто же такой этот вор? Кузнец вспомнил, что прошлой ночью, когда он возвращался из соседней деревни, куда ходил по делу, ему встретился какой-то человек, торопливо кравшийся вдоль плетней с мешком на спине.
– А какой он с виду, этот человек? – полюбопытствовал Петр.
Кузнец ответил, что он мал ростом, худощав и, кажется, с седой бородой. Правда, этого он не мог утверждать с уверенностью, так как была ночь, но светили звезды, а видел он его вблизи, и ему кажется, что борода у него седая. Петр задумался, потом сказал:
– В точности как Якуб Шишка...
Подозрение, павшее на Якуба Шишку, было вполне правдоподобным.
Не раз уже на своем веку он попадался на кражах, а года два назад через дыру в крыше залез в господскую ригу и за это отсидел полгода в тюрьме. И все же это было только подозрение. Петр уставился на слепое лицо Аксены.
– Я к вам, тетка Аксена, с просьбой, – начал он.– Может, вы знаете такое средство, чтобы сыскать вора...
Бабка с минуту помолчала, потом, шамкая беззубым ртом, неторопливо и раздумчиво заговорила своим скрипучим голосом:
– Как не знать? Знаю. Возьмите сито, проткните его ножницами и велите двоим сунуть в проушины пальцы, а другие пускай тем временем называют всякие имена, всякие, какие только вспомнятся... На чье имя сито закружится, тот и есть вор... И это такая истинная правда, что сама я не один раз, а сто раз видала своими глазами...
Она замолкла, вытянула руку и закрутила веретено пожелтевшими пальцами. Кузнец громко расхохотался.
– Глупости! – сказал он.
– Михалек! – в ужасе закричала Петруся, – и всегда ты такой. Тебе все глупости! Вот маловерный!
Она вся покраснела, до того возмутило ее неверие мужа. Кузнец благодушно принял ее упрек и уже тише пробормотал:
– Ох, бабы, бабы вы дурные!
Но Петр с чрезвычайным вниманием и серьезностью выслушал совет Аксены; а она, опустив руку с веретеном, прибавила:
– И ситом разгадывают вора и евангелием. Это уж где как... В одних местах на ситах ворожат, в других – на евангелии.... Это все равно... кому что по душе...
Петр провел рукой по волосам.
– По мне уж лучше на евангелии, – сказал он и, подумав, пояснил: – Все ж таки это божественная книга, и сила в ней от бога...
– Стало быть, так же проткнуть ножницами евангелие... – поучала бабка.
– Глупости! – снова засмеялся кузнец, а Петруся вскочила и ладонью зажала ему рот. Он обхватил ее рукой и раза два покружился с ней по горнице, а потом так защекотал, что она, звонко хохоча, повалилась на лавку. Петр не обращал ни малейшего внимания на проказы молодоженов. Более важное дело лежало у него на сердце, к тому же всякие разговоры о ворожбе, чудесах и колдовстве наполняли его таинственным чувством, жутким и торжественным. Он поднялся со стула и озабоченно проговорил:
– Спасибо вам, Аксена, за ваш совет... Только как это сделать... Надо, чтобы это знающий человек...
– А я вам сделаю, дядя... – вскочила с лавки Петруся, – отчего же! Столько лет я ела ваш хлеб, как же не оказать вам такую услугу? Да я сейчас иду...
Она уже обувала башмаки. В деревню она всегда ходила в башмаках. Муж с удовольствием накупал Петрусе всякие наряды, потому что это тешило его самолюбие, а ей очень нравилось похваляться своим счастьем перед людьми, среди которых она когда-то была самой бедной, самой последней. И вот, в башмаках, в покупной ситцевой юбке, в новехонькой, ловко сшитой сермяге и цветастом платке она через несколько минут вошла в хату старосты и, низко поклонившись бывшей своей хозяйке, поцеловала ей руку. Зато двум другим женщинам Петруся едва кивнула головой. Она отлично знала, что была для обеих словно бельмо на глазу. Одна винила ее в своем несчастливом замужестве, другая завидовала ее достатку. Однако теперь они обе на минуту забыли о своих обидах: любопытство одержало верх над ненавистью. Обступив Петрусю, женщины наперебой осыпали ее вопросами, но она тотчас принялась болтать и пересмеиваться с двумя подростками, хозяйскими сыновьями. Знала их Петруся чуть не с колыбели; Клеменса она ущипнула за румяную щеку, а Ясюку, как всегда стоявшему с туповатым видом, сунула палец в разинутый рот. Парни за это подставили ей подножку, и она во весь рост растянулась посреди хаты. Бабы и дети покатывались со смеху; все уже знали, что стоило Петрусе куда-нибудь зайти, как весь дом наполнялся хохотом, пением и болтовней. Одной только Розальке было не до смеха. Она села на чурбан у печки, подперла подбородок рукой и мрачно задумалась. Вдруг в горнице стало тихо, словно всех ветром сдунуло. Из клети вышел Петр, неся в руке небольшую книжку с изодранным переплетом и пожелтевшими страницами. Это было евангелие, которое он благоговейно хранил на дне сундука уже много лет; оно досталось ему в наследство от старого нищего, ходившего по дворам из деревни в деревню, пока, наконец, он не умер в Сухой Долине, в хате Петра. Собственноручно сколотив гроб из четырех досок, Петр пристойно похоронил старика, а книгу его оставил у себя и берег как святыню. Он никогда ее не открывал, так как не умел читать, но полагал, что, лежа на дне сундука, она предохраняет хату от нечистой силы, и теперь почтительно вынес ее из клети и молча подал Петрусе. Достав из кармана сермяги принесенные из дому ножницы, Петруся сразу стала такой серьезной, что в ней нельзя было узнать веселую молодку, которая только что с мальчишками гонялась по горнице и проказничала. Лицо ее стало суровым, лоб слегка нахмурился, а глаза глядели вверх с молитвенным выражением. Она громко вздохнула, за ней вздохнули и другие женщины, даже Розалька. Петр перекрестился; по его примеру перекрестились и оба сына: рослый и крепкий Клеменс с разгоревшимися от любопытства глазами и бледный, хилый Ясюк, разинувший рот еще шире, чем всегда. Вдруг Петруся одним взмахом воткнула открытые ножницы в корешок книги и, сунув указательный палец в одну проушину, показала на другую Агате.
– Держите, тетя!
Агата сделала, как ей велели. Книга, проткнутая ножницами, повисла, широко раскрыв обветшалые, пожелтевшие страницы.
– Ну, теперь говорите, – приказала Петруся, – называйте всякие-всякие имена, говорите! На чье имя евангелие повернется, тот и есть вор.
Розалька первая выскочила с вопросом.
– Антон Будрак? – спросила она, страстно желая, чтобы книга завертелась, потому что как раз накануне она подралась с женой Будрака, когда полоскала на пруду белье. Но книга даже не дрогнула.
– Левон Козявка? – тонким дискантом спросила Параска, так как это был самый докучливый заимодавец ее мужа. Но книга осталась неподвижной.
Фамилии одна за другой сыпались из уст женщин и мальчиков, радовавшихся тому, что и они могут играть какую-то роль в таком важном деле. Однако книга не отвечала. Наконец, Петр, до этой минуты не назвавший ни одного имени, произнес низким, глуховатым голосом:
– Якуб Шишка.
Недаром полчаса назад в хате кузнеца подозрение пало на человека, носившего это имя. Палец Петруси легонько дрогнул, так легко, что никто этого не заметил и даже сама она не почувствовала, но книжка медленно и едва уловимо повернулась, описав маленький полукруг.
– Ага! – хором вскричало семь голосов.
Петруся бережно и почтительно вытащила ножницы из корешка евангелия и, нагнувшись, благоговейно поцеловала старый переплет. Примеру ее последовали остальные. Целовали книжку поочередно все женщины, целовали, чуть не чмокая, оба подростка; долгим и скорбным поцелуем приложился к ней Петр и тотчас, светя себе лучиной, унес ее в клеть. Тут снова женщины и мальчики хором крикнули «Ага!», и в этом возгласе заключались самые противоречивые чувства: возмущение, радость и благодарность – благодарность к чему-то, что помогло им открыть вора. Что это было – они не спрашивали и не могли разгадать. Но они думали и верили, что существует некая сила, оказавшая им эту услугу при посредничестве Петруси. В этот же вечер огневая Розалька бегала по всей деревне, а забитая Параска с хнычущим ребенком на руках плелась из хаты в хату, и обе наперебой – одна быстро и горячо, а другая медленно и вяло – рассказывали обо всем, что случилось и делалось в хате старосты.
Потом носились еще какие-то смутные слухи о том, что у Петра с Якубом что-то произошло. Будто бы Петр, вопреки обычному своему хладнокровию, в приступе ярости избил Якуба в собственной его хате, угрожая привлечь его к суду, если тот не сознается и не отдаст украденных вещей. Якуб уже знал по опыту, что от суда не всегда можно увильнуть, а на старости лет ему не хотелось в третий раз отсиживать в тюрьме. Когда же снохи его и дочери с малыми детьми на руках бросились к ногам старосты, моля не разорять их хозяйство, старик заплакал, во всем покаялся и возвратил Петру оба окорока и пять скатков холста. Остальной холст, по его уверению, он где-то потерял, а колбасы – надо же было случиться! – съели собаки. Он плакал, бил себя в грудь и клялся спасением души, что все это так и было. Снохи и дочери, зная, что было это вовсе не так, забились в угол и молчали. А вдруг Петр поверит – тогда пять скатков холста и колбасы останутся у них. Петр не поверил, но гнев его уже немного остыл, к тому же он видел, как бедна хата Якуба и сколько в ней ютится народу. А было там душ тринадцать – стариков, молодых и детей. Столько народу погубить за вину одного, да и самому не обобраться хлопот... Петр махнул рукой, забрал то, что ему вернули, а насчет остального только буркнул сквозь зубы:
– Господь воздаст мне за мою обиду в царствии небесном...
И больше он не упоминал об этой истории, но другие жители деревни долго не могли ее забыть. Прежде всего не забыл Якуб и с чех пор, встречаясь с Петрусей, в сердцах сплевывал и бормотал:
– Сгинь, пропади, нечистая сила!
Ничто на свете не могло поколебать в нем уверенности, что преступление его открыла этой женщине некая таинственная, одной лишь ей ведомая сила. Он возненавидел Петрусю и вместе с тем начал ее побаиваться. Бояться ее стали и некоторые женщины, но были и такие, что души в ней не чаяли. К примеру, молодой Лабудовой, которую трясла лихорадка, Петруся посоветовала весной, когда вылупится первый цыпленок или утенок, глянуть на него и поскорей завязать узелок на переднике или платке.
– Как рукой снимет, – уверяла она.
И правда, сняло как рукой. Лабудова уже чахла, дурнела, день ото дня теряла силы – и вдруг избавилась от лихорадки, а ведь у нее был молодой муж и сварливая свекровь, заставлявшая ее работать, – мудрено ли, что так велика была ее благодарность Петрусе. Другую женщину, которая не могла разродиться, она напоила снадобьем, приготовленным из десяти разных трав, и оно тоже сразу подействовало. В хате Петруси всегда полно было всяких сухих трав, и каждая предназначалась для другой болезни. От горла она давала брунец, от кашля – царский скипетр и просвирняк, от ломоты в пояснице – тысячелистник, от колик в животе – чебрец и мяту. Против одних болезней она советовала белый клевер и вишневую кору, содранную сверху вниз, против других – розовый клевер и ту же кору, но содранную снизу вверх. Детей, когда у них делались судороги, она клала на доску посредине очерченного мелом круга; страдавших коклюшем лечила соком репы, но поила им не из посудины, а из той же репы, выдолбленной в виде чаши. Словом, всяких средств, помогающих при болезнях, распространенных среди жителей деревни, у нее были неисчерпаемые запасы. И Петруся не только знала их, но всегда давала с готовностью и большой охотой. Другая брала бы за это яйца, лен, холст, кур, мерочку-другую ржи и бог весть что еще. Она – нет. Никогда и ничего не спрашивала она за свои советы, а если иная бабенка и приносила ей чего-нибудь в переднике или за пазухой, Петруся не принимала. Оттолкнув протянутую с приношением руку, она говорила:
– Не хочу, не надо, на что оно мне? Это я по дружбе...
И она действительно старалась удружить людям. Бывало, идет она по деревне, увидит какую-нибудь горемыку или заморыша-ребенка, остановится и давай расспрашивать:
– А это что? А где больно? А может, это с горя? А какое горе?
Расспросив, что и как, она то даст целебной травки, то чем-нибудь другим пособит горю, а если ничего не надумает, так с взрослым хоть потолкует о его беде и покачает головой, а ребенка возьмет на руки, расцелует его исхудалое тельце и тогда уж пойдет своей дорогой. Старая Аксена, постоянно слыша, как люди ходят к ее внучке за советом, год или два молчала, потом отчего-то встревожилась и стала на нее ворчать. С высоты своей печки она брюзжала:
– И чего ты, как сука, язык вывешиваешь перед людьми? То-то пей да так-то делай! Вот увидишь, отблагодарят тебя за это, еще ведьмой сочтут!..
Петруся облокотилась на черен метлы и задумалась. С минуту поразмыслив, она начала:
– Вот видите, бабуля, когда господь дал мне счастье, весь свет мне стал уж очень люб... И прежде он был мне люб, а когда Михалек женился на мне, стал еще милее... А теперь – что же? Михал со мной день ото дня все ласковей... и добра у нас всякого прибавляется, и деток прибавляется, и живется мне на свете все лучше, и весь свет мне все более и более люб, и все, что есть на свете, любо... и теплое божье солнышко, и ясные божьи звездочки, и деревья, что шумят листвой, и пахучие цветы, и разные люди, и всякая живая тварь... Все мне любо... Даже Куцый люб... Куцый! Куцый! На-на!
Она бросила корку хлеба безобразной пегой дворняжке, погладила ее жесткую шерсть и снова принялась мести, распевая на весь дом:
Ой, в долине ль, под горушкой,
Сеют люди просо,
Ой, не к девке ли в избушку
Парень ходит босый...
А у Аксены еще не прошла охота к воркотне.
– Ох, молодая, дурная! – шептала она, но солнечный луч, падавший в окно, ласково пригревал ее старую голову, а горницу наполнял запах жарившегося в печке сала и веселая звонкая песня внучки. Так могла ли она упрекать эту счастливую ветреницу или ворожить ей беду? И бабка сама счастливо улыбалась, растягивая тонкие губы от уха до уха, затем, склонив голову набок, чутко прислушивалась, не хнычет ли, проснувшись в своей люльке, маленькая Кристинка. А то у нее руки уже устали прясть, и она с радостью покачала бы на коленях свою правнучку!..
IV
После Стасюка и Кристинки родилась Еленка, а после Еленки явился на свет Адамек, так что в хате кузнеца было уже четверо детей; все они росли веселыми и здоровыми, а старшему как раз сравнялось шесть лет, когда жители Сухой Долины разожгли на распутье костер из осиновых дров. На огонь костра, словно бабочка, что на погибель свою летит к яркому пламени, первой пришла Петруся. Стало быть, это она и была той злой и нечистой душой, из-за которой в нескольких дворах у коров пропало молоко. Если бы вместо Петруси на огонь явилась другая женщина, против нее тоже возникли бы сильные подозрения, взбудоражив общественное мнение деревни; однако многим они могли бы показаться неосновательными. Для установления такого факта с полной достоверностью нужен был ряд предшествующих фактов. А никто не стал бы отрицать, что нынешний случай с Петрусей веско подкреплялся ее прошлым. Никому не известная девочка пришла сюда когда-то со своей старой бабкой, которую гнала по свету неведомо какая – добрая или злая – сила. Старуха, видно, немало поскиталась на своем веку и знала больше, чем все жительницы деревни вместе взятые. А откуда она все знала? Потом она ослепла. А не была ли то кара божья за какие-нибудь лихие дела, которые она творила втихомолку, спознавшись с нечистым? А любовь, от которой сох по ее внучке, нищенке и приблуде, один из самых богатых хозяев, Степан Дзюрдзя? А то, что замуж вышла Петруся за парня, который шесть лет ее не видел, но не забыл? А что разгадала она вора? А все ее снадобья и другие средства? Ведь это по ее совету все девки теперь жгли веники, чтобы привадить в дом гостей, и по ее наущению никто никогда не поднимал с земли веревку, завязанную узлами, – чтобы не завелись бородавки. Правда, такого рода житейская мудрость достаточно распространена была в Сухой Долине, да и во всей округе помимо Петруси и еще до ее появления в этих местах. Правда, и сейчас, как и при дедах-прадедах, ни одна здешняя женщина от рождества до крещения ни за что на свете и разу не покрутит веретена, не то весной вся домашняя птица передохнет от головокружения; на воздвижение ни одна не пойдет по грибы или ягоды, чтоб не навести к себе в хату лесной нечисти, а когда поспеют хлеба, ни одна даже ненароком не сожнет по-особому спутанных или сломанных колосьев, потому что так путает и ломает стебли злокозненная рука на погибель той, что их срежет серпом. И много-много таких примет и правил еще от дедов-прадедов знали жители Сухой Долины, но Аксена и ее внучка знали несравненно больше. А теперешнее богатство кузнеца и его жены? Хата вроде домика в шляхетской усадьбе средней руки, возок на шинах, словно бричка, резвая упряжная кобылка, коровы, овцы – всего полно. А в хате – самовар, и блестящие ложки, и несколько белых тарелок. Шутка ли – такое богатство? Откуда это у них? Давно уже Степанова Розалька, а за ней и другие бабы не перестают удивляться и кричать во все горло, что кузнечиха, будто какая барыня, дома чаи распивает, платья носит из покупного ситца, в костел голову повязывает полушелковым платком, и сам он ходит в куртках да сюртуках, в ладных сапогах и городских картузиках, а сермягу и мужицкую баранью шапку на нем уж и не увидишь. Розалька просто бесится, а сырая Параска только ревет, спрашивая себя и других, откуда у кузнеца и кузнечихи такое богатство? Соседки, особенно молодая Лабудова, которая очень любит Петрусю, вспоминают, что как будто Михал привез кое-какие деньги с собой и заработал их своим ремеслом, что и теперь он очень трудолюбив и к нему, словно на богомолье, приезжают люди с заказами, что земля у него урожайная, что Петруся хорошая хозяйка и т. д. Но Розалька и Параска, а за ними и другие бабы презрительно покачивают головами и взглядом просят высказаться Якуба Шишку, который обычно участвует в этих разговорах; приосанившись, он говорит:
– Черт через трубу носит деньги ведьме. Вот откуда у них богатство.
Теперь старый Шишка торжествовал.
– А что, – повторял он, кто пришел на огонь? Из-за кого у коров пропало молоко?
Деревня была большая, и не всех занимал этот вопрос. Но во многих хатах в тот вечер бурлило, как в котле. Мужчины удивлялись и в то же время негодовали, пожимали плечами и стискивали кулаки, но говорили мало, как это всегда бывает, когда водка не развяжет им языки. Зато бабьи языки мололи не хуже мельницы. Быстрая, как белка, Розалька, шипя, словно змея, шмыгала из хаты в хату и со двора во двор, пока не пропели полуночные петухи. Степан с ребенком на руках вошел в пустую хату, вздул огонь, разжег лучину и, воткнув ее в щель в стене, наклонился, приблизив суровое морщинистое лицо к уснувшему в его объятиях сыну. Теплится ли еще жизнь в этом существе с уродливой головой, едва прикрытой тонкими льняными волосами? Глаза у него закрыты, и желтые ресницы касаются одутловатых щек, желтых, как воск. При свете лучины Степан вглядывался в лицо сына. Почему его сын рос таким хилым, когда сам он был одним из самых рослых и сильных мужиков не только в своей деревне, но и во всей округе? Горестно сжатые губы Степана зашептали над ухом ребенка:
– Ох, бедняжка ты, бедняжка! Когда ты был в утробе матери, батька твой колотил свою жену, до того ее ненавидел... а чуть ты немного подрос, гадина-мать лопатой ударила тебя по голове...
Выражение скорби смягчило его суровое лицо. Он поцеловал в лоб спящего ребенка, мальчик проснулся и обвил ручонками его шею:
– Тятя, есть!
Одной рукой прижимая к груди ребенка, другую Степан сунул в бездонную глубину печи и вытащил из нее горшок с остатками чуть теплой похлебки. Затем он достал деревянную ложку и принялся кормить сына. Похлебка капала с ложки и изо рта ребенка, стекая на шесток, ребенок, торопливо глотая, перхал и смеялся; по изборожденному бесчисленными морщинами лицу Степана тоже скользнула улыбка. Но вскоре он опять сурово сдвинул брови, и с губ его негромко сорвалось проклятие. Почему у него, богатого хозяина, в доме такое запустение, что собственного ребенка приходится кормить остатками холодной похлебки, а самому и вовсе нечего поесть, когда он голоден? В клети-то у них всего полно. Да, но в доме пусто. Один только у них ребенок, а жена вывесит, как сука, язык и бегает по всему свету.
– Сука, – выругался он. – Ох, была бы та твоей матерью, не так бы ты выглядел...
Ребенок был до того слаб, что сразу уснул, едва отец уложил его на набитый сеном тюфяк, а Степан принес из клети краюху хлеба с куском сала, поел, уселся на лавку и, прислонясь к стене, задремал. Весь день он сегодня пахал, умаялся до того, что его совсем разморило, и в полусне раскачивался всем телом взад и вперед.
Однако спать не ложился. Ждал жену. Было ли то проявлением супружеской нежности? В этом должна была удостовериться Розалька, вернувшись в полночь домой. А возвращалась она в отличном настроении. Петрусю, наконец, поймали сегодня на том, что она наводит порчу, и Розалька была счастлива, что теперь не только вся деревня, но и Степан станет, наверное, брезговать ею. Эта надежда наполняла все ее существо жгучим наслаждением. Она ведь шла за Степана не по принуждению и не из корысти, а по любви. Люди отговаривали ее, стращали лютым его нравом.
– Уж я-то с ним управлюсь, – говорила она. – Он лютый, да и я лютая, и то еще неведомо, кто возьмет верх. Пускай бьет, только бы любил.
Но вскоре она убедилась, что он ее не любил, а взял лишь потому, что умерла его мать и в доме понадобилась хозяйка. А ту он любил, да как любил! О, если бы не боялась она суда и тюрьмы, сто раз уж она бы ее убила! Но теперь ее разлучница и без того убита. Ведьма, с нечистым спозналась, порчу наводит. Теперь и Степан, как увидит ее, только плюнет. Надежда эта веселила Розальку, от счастья она даже преисполнилась нежности к мужу. Тихонько она проскользнула в хату и, увидев мужа, сидевшего на лавке, как белка, подскочила к нему, села рядом и обняла его за шею. Глаза ее светились, как два черных огонька, тонкие губы открыли в улыбке ряд белоснежных зубов. Закинув руку на шею мужу, она хотела было прижаться к нему, как вдруг он поднял кулак и ударил ее по спине с такой силой, что она слетела с лавки и упала на колени. А Степан уже кричал, допытываясь, где она так долго сидела, почему не приготовила поужинать да почему не пришла к ребенку. Тогда и Розалька вспыхнула гневом, вскочила с пола и, подбоченясь, начала скакать перед ним, ехидно смеясь и выкрикивая:
– Ведьма твоя Петруся! Ведьма твоя милушка! Ведьма твоя любушка ненаглядная! Ведьма! Ведьма!
Степан сорвался с лавки и, схватив ее за волосы, снова швырнул наземь. Крик и шум разбудили мальчонку; увидев родителей, дерущихся посреди хаты, он быстро выскользнул из-под рядна и тихо, пугливо озираясь, залез под лавку. По опыту он уже знал, что после каждой драки мать хватала его за волосы или за рубашку и, как щенка, выбрасывала из постели. Большей частью отец поднимал его с пола и долго ходил с ним по горнице, целуя и укачивая на руках, но, когда он уж очень разъярялся, случалось, тоже пинал его ногой...
Тем временем Петруся на минутку зашла в кузницу и, перекинувшись с мужем несколькими словами, поспешила домой. За день она наработалась в огороде, пропалывая свеклу и капусту, а перед заходом солнца на часок убежала в поле нарвать своих любимых трав. Она знала, что успеет вернуться во-время, чтобы сготовить ужин.
Аксена, весь день просидевшая на травке в саду, куда ее утром вывела внучка, уже забралась к себе на печку вместе с тремя старшими детьми. Самый маленький спал в люльке. Летний вечер звездами заглядывал в окна, и в сумраке, окутывавшем горницу, эти четыре человеческих существа смутно, как тени, чернели и двигались где-то под самым потолком. В тишине, нарушаемой лишь глухими ударами кузнечного молота, скрипел с пришепетом голос слепой бабки и серебряными колокольчиками звенели тонкие детские голоса. Она то с величайшей серьезностью, то посмеиваясь сухим, дребезжащим смешком, что-то рассказывала детям; они поминутно возгласами и вопросами прерывали ее речь. Чаще и смелее других обращался к ней шестилетний Стасюк, первенец и любимец отца, уже немного помогавший матери нянчить маленького и уже немного опекавший слепую бабку: иногда он кормил ее, взобравшись на печь, или водил за руку по двору и саду. Теперь что-то крайне заинтересовало его, и тоном балованного ребенка он приставал к прабабке с бесконечными расспросами.
– Где он был, бабуля? Где был Адамек до того, как пришел к нам в хату? Где он был раньше?
Стасюк хотел знать, откуда пришел младший братишка, месяц назад появившийся у них в хате, и что он делал до того, как пришел сюда. Вволю посмеявшись, старуха сказала:
– В лесу был Адамек, в лесу был твой миленький братик до того, как сюда пришел.
– А что он там делал? – снова послышался вопрос.
– Зайчиков пас в лесу, – ответила бабка.
– А я где был раньше, пока не пришел сюда?
Старуха, уже не задумываясь, ответила:
– Ты сидел на высоком-высоком дереве и в воздухе пас ворон...
– А я? А я, бабуля? А я?
– Ты, Кристинка, сидела на дне синей водицы и пасла рыбок...
– А где Еленка? Бабуля, а Еленка?
– А я, бабуля? А я где была?
Должно быть, прабабка поцеловала Еленку, потому что в хате прозвучало звонкое чмоканье. Потом с довольным, старчески дребезжащим смехом она сказала:
– Еленка – та сидела в густой траве и пасла букашек...
Вдруг стукнула дверь, и по горнице разнесся пряный запах полевых трав.
– Это ты, Петруся? – проскрипел в темноте пришепетывающий голос.
– Мама! – зазвенел детский хор.
– Все вы тут? – спросила Петруся.
– Все.
– Спит Адамек?
– Спит.
– Ну и слава богу. Вот сейчас разожгу огонь и сварю картошку, сегодня только нарыла в огороде.
– Ох, хороша картошечка... молодая... – предвкушая удовольствие, прошамкала бабка.
– Хороша... ох, хороша... – повторил детский хор.
Широкое пламя запылало в печке и осветило хату, в которой за последние годы произошли кое-какие перемены. Но перемены эти были к лучшему. Больше стал достаток, и больше всяких новшеств. Между окнами стоял небольшой комод, а на нем два медных подсвечника и лампа со стеклом. На окнах появились занавески из цветастого ситца и душистая герань – вся в красном цвету; за стеклами в шкафчике белели тарелки, а на стене висело несколько картинок в блестящих рамках. Все это в разное время приносил домой Михал. Всякий раз, уезжая куда-либо по делу, он непременно привозил домой какую-нибудь хорошенькую вещицу, а потом радовался, как дитя, своим приобретениям и заставлял радоваться жену. Да если б он и не заставлял, она радовалась бы сама. Ей любо было глядеть на яркие краски ситцевых занавесок и золотистый блеск медных подсвечников, а если что огорчало ее, так разве лишь то, что слепая бабка не могла видеть всей этой красоты и великолепия, в котором она сейчас утопала. Зато она долго и подробно обо всем ей рассказывала и каждую новую вещь давала пощупать. Однако и старые вещи как были, так и остались в хате. Лавки, столы, домашняя утварь, три стула с деревянными спинками, ткацкий стан Петруси, в одном углу большая куча железного лома, а над ней на стене несколько новеньких, только что из кузницы топоров, пил, кочерег и клещей. Петруся разостлала рядно на ткацком стане и высыпала из передника травы. Потом занялась ужином; дети птичками слетели с печи и босиком бегали вокруг матери, щебеча обо всех чудесах, которые в сумерки рассказывала им бабушка.