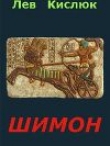Текст книги "Дзюрдзи"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
И так далее – до конца. Все то же и так же, как Петрусе. Розалька не мешала ей, не прерывала, а через минуту снова спросила:
– А ты зачем к кузнечихе ходила?
Но Франка еще не выболтала всего, что, как молитва, засело у нее в голове.
– А иной раз, – плакалась она, – и месяц, и два, и три на меня и не глянет, а так же к другим девкам пристает...
– Ты зачем к кузнечихе ходила?
– Я и верю и не верю, что господь милосердный даст мне такое великое счастье...
– Ты зачем к кузнечихе ходила?
Несмотря на всю дипломатию, которую на этот раз Розалька решила пустить в ход, она уже готова была взорваться. Франка, сама не зная, почему и зачем, поцеловала ей руку и, смахнув пальцами слезу, захныкала:
– Помоги, тетка, выручи из беды, по гроб буду за тебя бога молить...
– Ага! – протянула Розалька, и глаза ее блеснули в темноте, как два огонька.
– Так ты ходила к кузнечихе такое средство просить?
– А то!
– И дала она?
– Дала... дай ей бог доброго здоровья...
Розалька повисла всем своим гибким телом на шее Франки и быстро, настойчиво, страстно зашептала ей на ухо, требуя ответа. С минуту девушка не сдавалась, испуганно и стыдливо отворачивая лицо. Она стыдилась и страшилась своей тайны. Но Розалька обняла ее одной рукой, а другой стала совать ей в рот огрызок своего огурца, привалившись с такой сердечностью, что обе они едва не упали в траву. При этом Розалька осыпала ее ласковыми словами, называла голубкой, зозулей и рыбкой. К таким нежностям Франка в своей суровой сиротской доле не привыкла. Ей льстило, что так с ней обходится замужняя женщина, хозяйка зажиточной хаты. Она поцеловала Розальке руку и, величая ее теткой, снова принялась жаловаться и причитать. Розалька утешала ее, перемежая утешения расспросами, а через полчаса, когда они обе собрались уходить, черные глаза Розальки даже в темноте светились радостью и торжеством. Она выпытала у девушки все, что хотела знать, и, неожиданно оставив ее одну в кустах терновника, стрелой понеслась к деревне. Во весь дух мчалась она по затихшей деревенской улице, пока не добежала до ворот Петровой хаты. Вначале она хотела бурей ворваться туда и выпалить все, что узнала. Но внезапно у нее возник другой план. Теперь она никому еще ничего не скажет, а вот когда в семействе Петра стрясется беда, когда Клеменс захочет во что бы то ни стало жениться на Франке, а отец воспротивится этой женитьбе и между отцом и сыном начнутся ссоры да раздоры, она придет к ним и скажет, кто всему виной. А любопытно, что тогда сделает Петр; он ни за что не согласится, чтобы сын его женился на ком попало, а тем более на девушке из воровского дома. Сам он никогда не воровал и не захочет иметь снохой внучку вора. Ох, и будут же, будут в этой хате ссоры да всякие горести! Ох, и будет же, будет за это кузнечихе, достанется ей и от Петра и от всех порядочных людей! Тогда-то ей зададут, ох, и зададут же этой проклятой, долю ее сгубившей, из-за кого она мужниной любви не знала, из-за кого столько синяков у нее на теле, сколько на небе звезд. Пускай бы бил, но любил. А он и не любит и бьет смертным боем, а все из-за той...
Стоя в темноте возле хаты Петра, Розалька заплакала, потом утерла передником слезы и медленно побрела дальше. Чего ей было спешить? Она ведь наперед знала, что ее ждет дома. С утра захворал ребенок, а известно: как заболеет мальчишка, Степан свою жалость к нему вымещает на ней лютой злобой. Будто ее это вина, что ребенок уродился такой никудышный. Правда, когда ему было два года, она раз хватила его лопатой по голове так, что он разума лишился и недели три или четыре был немой. Да разве оттого он такой хилый и несмышленый? Какое! Уж такая во всем у нее доля поганая – и все тут!
V
В хату Петра и в самом деле пришла беда, но не сразу и не та, которой ждала Розалька. В солнечный октябрьский день просторная горница была полна народу: люди приходили с советами и утешениями. Уже несколько лет Петр не был старостой, однако уважительным обхождением, разумными речами, а больше всего, пожалуй, своим богатством снискал особый почет и расположение у жителей Сухой Долины. Оттого, как только весть о коснувшемся его несчастье разошлась по деревне, один за другим стали наведываться соседи – расспросить о подробностях, поговорить с горевавшим хозяином, поохать и покачать головой. Заходили часто, потому что летние и осенние работы почти закончились, а от цепа и гумна легче на часок оторваться, чем от плуга и пашни. Петр велел младшему сыну молотить рожь, а сам собирался с утра отправиться с плугом в поле рыть картофель. Но уже близился полдень, а он все не мог уйти из хаты. Мысль о картошке не давала ему покоя, он даже несколько раз отворял дверь, чтобы идти запрягать в плуг лошадей, но снова возвращался в горницу и садился на лавку у стены. Петр не жаловался, даже не вздыхал, но руки у него бессильно опускались на колени, ни к чему не было охоты, а на лбу собирались толстые складки. С входившими соседями он коротко здоровался и снова погружался в молчание. Время от времени он поднимал руку ко лбу и шевелил губами, как будто крестился и читал молитвы. Соседи, стоя перед ним или усевшись на лавку, задавали несколько вопросов, удивлялись, качали головами и тоже смолкали, затем, повздыхав, уходили, а на их место приходили другие. Так было с мужчинами. Но совсем по-иному обстояло с женщинами. Толпой окружив больного, лежавшего на топчане, они тараторили, давали советы и громко причитали над Агатой, которая сидела на полу возле топчана и тихо плакала. Болел Клеменс. Пригожего парня, словно коса траву, подкосила жестокая горячка. Он лежал под клетчатым одеялом неподвижный, как колода, с пылающим лицом, и слабым голосом поминутно подзывал к себе мать. Агата поднималась с пола, брала кувшин с водой и, встав на колени, подносила его к губам сына. Он с жадностью пил, а у нее текли слезы по желтому, потемневшему от горя лицу. Однако она не рыдала, не ломала руки и даже редко обменивалась словом с соседками. Агата всегда была caмой тихой женщиной в деревне: так уж она привыкла за годы мирной жизни под одним кровом со своим спокойным, серьезным мужем. Зато другие женщины, обступив топчан, галдели, как на базаре, или, глядя на больного, голосили, точно на похоронах. Лабудова, такая же, как Агата, богатая и степенная хозяйка, говорила:
– Не выживет он, я-то знаю, что не выживет. Я, может, десяток таких больных перевидала, и ни один не выжил.
Агата еще горше заплакала и, уткнув в ладони лицо, вся заколыхалась от скорби, но жена Максима, Богданка, крепкая и решительная баба, оттолкнула от постели накликавшую беду соседку.
– Почему не выживет? Будто не милует господь нас, грешных? Бог милостив: авось еще выздоровеет парень. Агата! Дайка мне горшок, живей! Слышишь, что ли, Агата? Надобно горшок ему на живот поставить!
Параска, жена Шимона, всегда голодная и озабоченная, а потому плаксивая, стояла тут же с маленьким ребенком на руках и двумя старшими, уцепившимися за ее подол; размазывая пальцами слезы по ввалившимся щекам, она жалобно тянула:
– Ой, такие богатые да счастливые, и такая на вас напасть! Ой, Клеменс, Клеменс, лучше бы ты не ездил на луг, не мок под дождем да не ночевал на прелой копне! Ой, из прелой копны вылезла эта хворь и влезла в твое нутро... Ой, бедная твоя головушка, бедная!
Парень, и правда, несколько дней тому назад ездил на дальний луг убирать скошенную отаву, по дороге вымок под проливным осенним дождем и переночевал на стожке сопревшего от сырости сена. Наутро его начало знобить, и, вернувшись домой, он надел тулуп, но на следующий день деревенские ребята собрались на пруд ловить неводом рыбу, он тоже пошел с ними, на берегу разделся, почти по плечи влез в воду и несколько часов помогал тащить невод. После этой прогулки он слег и уже два дня не вставал с постели. Он был в полном сознании, только время от времени жаловался на боли, но вдруг так застонал, что старая Лабудова сложила руки, словно для молитвы, и, переминаясь с ноги на ногу, спросила Агату:
– А свеча-то свячёная есть у вас? Вложить бы ему, бедняге, в ручки.
Будракова в свою очередь закричала, чтоб ей дали горшок – поставить больному на живот; остальные бабы зашушукались насчет ксендза и святых даров; стоявшая у окна молоденькая стройная девушка в тонкой рубашке, с заткнутым за ухо желтым цветком, все время глаз не сводившая с Клеменса, громко охнула:
– Ох, боже мой, боже!
Это была дочь Максима Будрака, самая красивая и богатая девушка в деревне; сюда она прибежала якобы за матерью, а на самом деле оттого, что тревожилась за красивого парня, однако, войдя в хату, застыдилась и молча встала у окна.
Агата, заливаясь слезами, с трудом поднялась с пола и пошла в клеть за горшком и свечой, а унылая Параска со всеми тремя детьми поплелась за ней и, не отставая ни на шаг, с тупым, нелепым упорством повторяла одно и то же:
– Ой, лучше бы он никогда не ездил на этот луг, не мок под дождем да не ночевал на прелой копне!
Едва Агата подала Будраковой горшок и, подойдя к сыну с огарком свечи, снова села на пол у его ног, как в толпе разговорившихся женщин послышался, перекрывая всех, пронзительный и свистящий женский голос:
– Ну, как же, разве это оттого, что он ездил на луг, или с дождя да копны нашла на него хворь? От другого она нашла, и не господня это воля, а кое-кого иного!
Слова эти произнесла Розалька; в этот день она несколько раз забегала в хату Петра и, с минуту поглядев на больного, исчезала, а через полчаса или час снова возвращалась. На ее подвижном лице вместо обычной горячности отразились крайнее удивление и растерянность. Она ждала совсем не того, что произошло. Выходя из ворот Петровой хаты, Розалька останавливалась и, приложив палец к губам, долго раздумывала. Потом она бежала домой что-нибудь сварить и натрепать хоть немножко льна; как раз в эту пору его трепали, а для Розальки не было ничего милее льна, и, несмотря ни на что, она не могла о нем забыть. К тому же Степан, молотивший рожь, уже несколько раз кричал ей с гумна, чтобы она не уходила из дому и собиралась идти с ним в поле – рыть картошку. Таким образом, в этот день она разрывалась на части. Ей и лен хотелось трепать, и муж ее звал, да тут еще в хате Петра у нее было важное дело. А ничто на свете не терзало ей сердце так, как это дело; поэтому она снова побежала в хату Петра и, услышав рассуждения Параски о причинах болезни Клеменса, крикнула:
– Ну, как же! Не оттого, что он ездил на луг, и не с дождя и сопрелой копны нашла на него хворь! И не господня это воля, а кое-кого иного!
Женщины – все, как одна, обернулись к ней, оглянулась даже Будракова, стоявшая над больным с горшком в руке, а Розалька, сложив на животе маленькие, темные, беспокойные руки, проговорила:
– Это на него напустили!
– Что? – спросили женщины хором.
– Да хворь. Кто-то на него напустил.
Теперь уже слушали и мужчины, молча сидевшие против Петра, да и сам Петр тоже стал прислушиваться к бабьей болтовне. Даже Клеменс кинул на нее помраченный болью, но разумный и вопрошающий взгляд.
– А-а-а-а! – удивленно протянуло несколько женских голосов. – Кто же это сделал?
У Розальки блеснули глаза; переступая с ноги на ногу, она отвечала:
– Я знаю кто. Та, что дала ему приворотное зелье. Видать, не такое оно было, как надо, оттого наместо любви напустило хворь.
Кое-кто из мужчин пренебрежительно махнул рукой, а Клеменс, взглянув на Розальку, сконфуженно натянул одеяло на подбородок и, несмотря на боли, прыснул со смеху. Узнав, что кто-то давал ему приворотное зелье, он застыдился, но еще больше обрадовался. В то же мгновение он снова застонал от жестокой боли в пояснице, однако поднял потускневшие глаза на хорошенькую дочку Будрака, словно желая ей сказать: «Ну что? Видишь? Вот я какой!»
Но девушка побледнела от страха и испуганно уставилась на Розальку; остальные женщины сперва разинули рты, а затем забросали вопросами соседку, сообщившую столь удивительную весть. Она с обычной своей живостью обернулась к Петру.
– Поди сюда, Петр, – позвала она, – тебе я скажу. Никому не скажу, а тебе скажу. Ты отец, тебе и надо мстить за обиду сына.
Петр встал и вслед за Розалькой, схватившей его за руку, вышел в сени. Добрую четверть часа они там разговаривали в полутьме. Тем временем в горнице все затихли. Будракова ставила на живот больному горшок, словно огромную банку. Со двора послышался мужской голос, нетерпеливо звавший Розальку. Она крикнула из сеней:
– Сейчас! Сейчас!
Степан с плугом, запряженным парой лошадей, остановился возле дома двоюродного брата и, поджидая жену, ругал ее на чем свет стоит. Лишь через четверть часа Петр возвратился в горницу; он был заметно взволнован и сердит. На его нахмуренном лбу еще резче обозначились морщины, а всегда ласково глядевшие глаза жестко поблескивали из-под под мрачно насупленных бровей. Однако сразу он ничего не сказал; ссутулясь и опустив голову, сел на лавку и, сплюнув, пробормотал:
– Сгинь, пропади, нечистая сила!
Потом, обратив на сына испытующий взгляд, он спросил:
– Клеменс! Пил ты недавно мед с внучкой Якуба, Франкой? Пил или нет? Да ты отвечай!
Парню трудно было ответить на этот вопрос. Он смутился и натянул одеяло уже до носа.
– Не приставайте, батя, и без того кости ломит, – простонал он.
– Я не зря к тебе пристаю, а чтоб знать, – возразил Петр и почти просительно прибавил: – Как отец, спрашиваю тебя: пил ты в корчме мед с Якубовой внучкой, Франкой?
Хорошенькая дочка Будрака так вся и вспыхнула. Она знала, что Клеменс бегает за некрасивой, бедной Франкой и не раз хотела по-настоящему на него обозлиться, но не могла. Такая она от природы была незлобивая. Поэтому она только отвернулась к окну и громко высморкалась в пальцы. Однако продолжала внимательно слушать, ожидая, что будет дальше.
– Ну, – допрашивал сына Петр, – пил ты или не пил?
– Пил, – жалобно отмстил Клеменс. – Да что ж тут такого, что пил?
Петр безнадежно тряхнул головой.
– Ну, – сказал он, – так с этим медом ты и хворь свою выпил. Девка подсыпала тебе в мед поганого зелья. Не на радость да любовь, а на погибель, на смерть ведьма дает это зелье...
Женщины всплеснули руками. Заплаканная, измученная Агата посмотрела на мужа почти безумным взглядом.
– Ведьма! – хором закричали в хате.
– Кузнечиха! – сквозь стиснутые зубы докончил Петр, встал с лавки и пошел в клеть.
Через минуту он вернулся, неся в руках старинную книгу, по которой Петруся некогда угадала вора. Подойдя к сыну, он перекрестил его евангелием, которое затем положил ему на подушку, над самой головой.
Все это он делал, чуть слышно приговаривая:
– Может, господь еще смилуется над нами, несчастными. Может, силы небесные одолеют бесовскую силу. Может, ты выздоровеешь, сынок, и сам этой лиходейке отплатишь за свою обиду. Может, весной мы еще будем пахать вместе с тобой; может, я еще попирую на твоей свадьбе.
Он чертил в воздухе бессчетное множество крестов, прижимал священную книгу к голове сына, а по его сухим, бледным щекам катились крупные слезы. Весть, сообщенная отцом, как и слова его, поразили и взволновали Клеменса; голова у него сильней запылала, ярче заблестели глаза, он впал в беспамятство, стал бредить и громко стонать. В хате поднялся крик и плач, женщины вопили, что его не спасти, что надо посылать за ксендзом, что ему уже и ксендза не дождаться; Лабудова зажгла освященную свечу и вложила ее в руки больному; дочка Будрака упала на колени возле окна и, громко рыдая, закричала:
– Упокой, господи, душу его!
Петр, потеряв голову, бросился запрягать лошадей, чтобы ехать за ксендзом, и, дрожа всем телом от горя и злобы, изрыгал сквозь стиснутые зубы страшные проклятия:
– Чтоб ей ноги сломать, чтоб ей света белого за слезами не видеть, ведьма проклятая, богоотступница, душу свою христианскую дьяволу продала!
Увидев в руках сына зажженную свечу, Агата в первый раз пронзительно вскрикнула, с быстротой молнии накинула платок на взлохмаченную голову и выскочила из хаты. Она бежала сперва по деревенской улице, потом свернула на узкую, вьющуюся вдоль плетней тропинку, которая вела задами к дому кузнеца.
Стояли погожие дни бабьего лета. Над землей высилась небесная лазурь, бледная, но чистая-чистая, без единого, даже самого легкого облачка. Побледневший, словно уменьшившийся солнечный диск бросал ясный, ничем не омрачаемый свет, золотистой пеленой ложившийся на голые, темные поля, которых уже не могла защитить скудная тень обнаженных деревьев. Раскинувшиеся по холмам рощи сверкали золотом и всевозможными оттенками пурпура, свежий, пронизанный сухой прохладой воздух был так недвижен и тих, что ни малейшее дуновение не шевелило серебряных паутинок, висевших на ветвях деревьев, на кустах вдоль межей и на ботве и огородах, а земля на горизонте выглядела, как покрытый выпуклой резьбой круглый щит под шлемом из тонкого прозрачного хрусталя. В тихом хрустальном воздухе залитый мягким солнечным светом хуторок кузнеца с клочком вспаханной земли и огородом, бурым от засохшей ботвы, являл картину глубокого покоя, оживленную поблескивающими на солнце стеклами окошек. Тишина стояла в поле и в огороде, на белевшей за огородом песчаной отмели и дальше, за отмелью, на отливавшей серебром глади воды. Нарушал ее лишь шум человеческого труда; то были два звука: мерные, твердые и сильные удары кузнечного молота и такой же мерный, но более частый и менее громкий стук мялки. Казалось, частая дробь мялки вторила тяжелым ударам молота, и в этих звуках, в завитках дыма, поднимавшихся из трубы, в пламени, полыхавшем за открытыми дверями кузницы, в разносившихся по саду детских голосах и оглушительном пении петухов била ключом, одушевляя мягкую гармонию и умиротворенную тишину окружающей природы, чистая, здоровая, трудовая жизнь.
Михал чинил в кузнице поломанные во время осенней пахоты плуги; Аксена сидела на засохшей траве в саду под золотой яблоней и, пользуясь последними солнечными днями, грела свои старые кости, а возле нее маленький Стасюк, к восторгу младших девочек, дул в деревянную свистульку, издававшую пронзительно-визгливые звуки. В низкой полутемной горнице, куда с трудом проникал свет сквозь цветастые ситцевые занавески на окнах, заставленных горшками с геранью, миртом и пижмой, сейчас не было никого, кроме спавшего в люльке ребенка. На полу, на лавках, табуретах и даже на трех парадных стульях лежали темные снопы вымоченного и высушенного льна, а в просторных сенях целый угол чуть не доверху был завален беловатыми кочанами капусты. Недаром эти последние погожие дни зовутся бабьим летом. Именно в эту пору на деревенских тружениц градом сыплются всевозможные работы. Петруся с самой зари сегодня снимала с гряд и носила домой капусту, а теперь, поставив возле хаты длинную выдолбленную колоду, накладывала в нее лен и мяла его ходившей на стержне доской, очищая мягкие волокна от сухой и жесткой оболочки. Она стояла босая, в подоткнутой юбке, грубой рубашке и красном бумажном чепчике, из-под которого на шею и лоб выбивались темные густые волосы; все быстрей и быстрей стучала доска мялки, а сухая кострика взлетала в воздух, окутывая ее с головы до ног золотившейся на солнце пылью, оседавшей на одежде. Работа была тяжелая: Петруся уже в нескольких местах до крови ссадила руку; в горле у нее першило от сухой пыли; она часто и шумно дышала, а на лбу и щеках ее выступили крупные капли пота. Однако она ни на минуту не прерывала работы и была так поглощена ею, что не слышала ни скрипа отворившейся калитки, ни торопливо приближавшихся шагов и подняла голову, лишь когда возле нее раздался хриплый от гнева и слез женский голос:
– Черт тебе в помощь! Чтоб ты из этого льна себе и детям своим саван соткала!
Петруся подняла голову, и глаза ее встретились с блестящими глазами Агаты. Она выпрямилась, руки ее упали вдоль тела. Слова Агаты, видимо, испугали ее.
Уже вчера Франка прибегала к ней с вестью о болезни Клеменса. Она бы сразу полетела к бывшим своим хозяевам узнать, что у них слышно, утешить их, может быть помочь, но знала, что там о ней дурно говорят и вовсе не обрадуются ее посещению. Агата сама к ней пришла и начала с проклятий. Лицо несчастной матери потемнело и осунулось, но, не привыкнув к ссорам и брани, она и теперь не накинулась на Петрусю, как сделали бы другие, а стояла, почти не двигаясь, в своих низких башмаках и большом платке, покрывавшем голову, молча и сурово глядя на молодую женщину. Эта неподвижность, упорный взгляд и проклятия поразили Петрусю: она ахнула и попятилась назад, как от призрака.
– Чего вы хотите, тетя? – едва пролепетала она.
Но Агата, словно для долгой речи ей не хватало дыхания, только несколько раз повторила, качая головой:
– Ох, ты! Ох, ты! Ох, ты! Ох ты, негодяйка! – наконец, разразилась она. – Да ты столько лет ела наш хлеб, да мы тебя, как путную, любили и голубили, а ты... За что ты нам сына отравила?.. А?
Петруся всплеснула руками.
– Я вашего сына отравила? Я?
Агата шагнула вперед и подошла к ней так близко, что теперь их разделяла только узкая мялка. Вытянув шею, она впилась в лицо Петруси жгучим, ядовитым взглядом. Слова слетали с ее языка с протяжным шипением.
– Что ты с ним сделала? Скажи, что сделала? Какого зелья девке дала, чтоб она его напоила? Что, может, не давала? Скажи, что не давала! Соври, что тебе стоит? Ты и так уже пропащая, черту продалась, бога гневить не боишься! Ну, скажи, что не давала!
Разрумянившееся от работы лицо Петруси вспыхнуло огненным румянцем; заломив руки, она вскрикнула:
– Ага!
Наконец, она поняла, почему в хате Петра ей приписывали болезнь Клеменса; от внезапного ужаса сердце ее сжалось, потом бешено заколотилось. А может, это от зелья, может, и вправду от ее зелья он захворал? Испуганные глаза ее налились слезами; она повернулась боком к Агате и, застыв неподвижно, как столб, онемела.
– Ага! – теперь уже крикнула Агата. – Не станешь божиться, что не дала! Ведь дала. Я по лицу твоему вижу, что дала и что Розалька правду говорила! Ну, а раз так, отпусти теперь, что напустила! Слышишь? Дай чего-нибудь такого, чтобы выгнало отраву из его нутра. Раз ты ведьма, тебе все ведомо... Раз ты можешь испортить, можешь и отвести порчу... Отпусти, что напустила! Слышишь? Отпусти...
Вытянув над мялкой обе руки, Агата теребила за плечи и за рубашку немую, остолбеневшую женщину; в ее гневном, ненавидящем взгляде появилось выражение тревоги и мольбы. То с ненавистью, то с мольбой она повторяла:
– Тебе все ведомо, ты можешь... как напустила, так и отпусти...
Петруся дернулась, вырвала из ее пальцев свою рубашку и, ломая руки, простонала:
– Что я напустила?.. Отвяжитесь вы от меня!
Агата, ослабевшая от горя и слез, вдруг, как лань, метнулась к Петрусе, повалилась перед ней наземь и обняла ее колени.
– Петруся, миленькая, зозуля! Спаси ты его! Дай ему чего-нибудь такого, чтобы вышла отрава из его нутра... Ты же сама ее давала... Как напустила, так и отпусти... Я тебе за это всего дам – чего только захочешь... Льну дам, и шерсти, и яиц, и полотна, и денег, коли захочешь; мы оба с Петром ничего не пожалеем, только отпусти, что напустила... чтобы он остался живой, голубок наш миленький, опора наша на старости лет... Ты ведь знаешь... Ясюк-то у нас никудышный... А этот – правая рука у нас... Один ведь работник... Спаси ты его.. тебе все ведомо, ты можешь... Как напустила, так и отпусти...
Она припала к коленям Петруси, целовала краешек ее платья. Отчаяние несчастной матери, ее горестные мольбы, видимо, терзали Петрусю. Она ведь и сама была матерью, а с этой женщиной когда-то столько лет прожила в дружбе и согласии. Обхватив голову руками, она заголосила:
– Ой, боже мой, боже! Что ж я буду делать! Не напускала я на него хворь и отпустить не могу...
Агата вскочила с земли и каким-то свистящим голосом спросила:
– Не напустила? Может, побожишься, что не напустила?
Петруся снова повернулась к ней боком и оцепенела. В голове у нее было темно, как в осеннюю ночь, и только вихрем кружились слова.
– И напустила и не напустила... Может, и не от этого, а может, от этого...
Не в силах дольше выносить эту муку, она отпрянула от снова накинувшейся на нее женщины и с гневом, смешанным с жалостью, крикнула:
– Отвяжитесь, тетка... Чего вы от меня хотите? Идите к знахарке, у нее просите какого-нибудь средства для сына, а не у меня!
Но Агата не унималась и в ярости бессчетное множество раз обозвала ее ведьмой. Она не проклинала Петрусю: не умела она этого, да и не было у нее такой привычки, но призывала гнев божий на головы ее и ее детей и грозила мщением Петра и всех честных людей. Потрясая кулаком, она говорила сквозь стиснутые зубы:
– Погоди, погоди! Достанется еще тебе когда-нибудь от людей за все наши обиды, и сам черт, твой дружок, тогда не спасет тебя от мщения людского...
Вдруг Агата спохватилась, что, пока она тут ссорится с ведьмой, сын ее, может быть, уже лежит там мертвый,– обеими руками она сжала голову, бросилась прочь со двора и побежала назад, в деревню. Петруся где стояла, там и опустилась на землю и, закрыв руками лицо, громко и горько расплакалась. Однако плакала она недолго. Из горницы донеслось хныканье проснувшегося ребенка; Петруся вскочила и побежала в хату. Должно быть, она там кормила и забавляла мальчика: слышно было, как она что-то ласково говорила ему, затягивала песенку и прерывала ее коротким смешком и звонкими поцелуями. Видно, лепет ребенка и движения маленьких ручонок смешили ее, и она снова его целовала. Потом послышалось мерное постукивание полозков колыбели, а потом в горнице воцарилась тишина. Адамек опять уснул, а Петруся с кучей мокрого белья вышла во двор. День выдался прекрасный, и нужно было до вечера выполоскать белье в пруду. Всего шагов двести или триста отделяло пруд от последних домов Сухой Долины. По одну сторону его тянулась та песчаная отмель, на которой некогда, по совету старой Аксены, целыми днями играл больной сын Петра Дзюрдзи; дальше пруд опоясывала полукругом узкая полоса луга. Здесь на лугу издавна пасли скотину. Летом на этом берегу в зеленой чаще щебетали птицы, квакали лягушки, пестрели желтые и голубые цветы и алели ягоды калины, а в тени широко раскинувшейся ивы поблескивали белой корой стройные березки. Теперь на фоне лазурного неба они казались покрытыми тонкой резьбой золотыми колоннами, и под ними, под зарозовевшими, вечно трепещущими осинами, под ивами, купающими в воде серебристые ветви, на сухой траве, усеянной шуршавшими под ногами, увядшими листьями и седым пухом одуванчиков, стояло несколько женщин, склонившихся над тихой гладью воды.
Они тут стирали или полоскали выстиранное дома белье, а их голоса и четкие, мерные удары вальков далеко разносились по опустевшему нолю. На всем поле виднелось только двое работавших людей: крестьянин, идущий за плугом, и крестьянка, следовавшая за ним на некотором расстоянии; она собирала вырытую картошку в передник, а когда он наполнялся доверху, ссыпала ее в стоявшие в междурядьях мешки. Делянка, на которой работали эти люди, примыкала к узкой полосе пастбища. Крестьянин, идущий за плугом, был Степан Дзюрдзя, а крестьянка, собиравшая картофель, – жена Степана, Розалька. Это была мрачная чета. Он, сильный и хмурый, шел молча, едва склонившись над плугом, и только время от времени протяжным низким басом понукал лошадей:
– Но-о! Но-о! Но-о!
Она, вся изогнувшись, так что смуглое лицо ее почти касалось земли, ползала на коленях, руками разгребая темный песок, и своим тонким, гибким телом напоминала извивающегося червяка. Однако совместная работа с мужем, пусть и тяжелая, видно, не была в тягость Розальке: она ни на миг не останавливалась и то и дело дружелюбно заговаривала с идущим впереди Степаном.
– Ну, слава богу! Картошка в этом году большущая, как репа! – говорила она.
А потом снова:
– Любопытно мне знать, как там Клеменс? Помер уже или еще живой?
Либо еще:
– Степан! А хорошо бы и будущее воскресенье поехать в костел, взять с собой Казюка и помолиться господу богу, чтобы он стал здоровый...
Мужчина не отвечал, будто и не слышал, что она говорила. Тем не менее в ее голосе, так часто раздраженном и шипящем от злобы, теперь звучали сердечные нотки. Она поминутно обращалась к нему, вызывала его на разговор, раз даже засмеялась и, присев на корточки, запустила картофелину прямо ему в спину. Он только оглянулся, что-то угрюмо буркнул и пошел дальше за плугом, окриком подгоняя лошадей:
– Но-о-о!
Правда, он не рассердился, но и не улыбнулся, доброго слова не сказал.
Женщина снова согнулась над бороздой и молча, как придавленный червяк, грустно поползла по темной земле. Вдруг она подняла голову. Степан остановил лошадей, обернулся к пруду лицом и, делая вид, что налаживает плуг, смотрел в ту сторону, откуда берегом шла женщина с перекинутым через плечо мокрым бельем. Он смотрел на нее с таким напряжением, что расправились и разгладились мышцы на его лице и оно расплылось в казавшейся глуповатой, а в действительности – блаженной улыбке. Глаза Розальки также устремились к пруду. В приближавшейся женщине она узнала Петрусю и вскрикнула, словно дотронувшись до раскаленного железа.
– Ты чего встал, как столб! – взорвалась она и, повысив голос, потребовала, чтобы он шел дальше. Мука всей ее жизни снова кольнула ее острой болью, пробудив в ней бешеную злобу.
Между тем Петруся подошла к женщинам, собравшимся на берегу, и приветливо поздоровалась с ними. Ответил ей лишь один голос и то как-то слишком тихо. Это молодая Лабудова, сноха одного из самых богатых хозяев в деревне, любимая мужем и всем его семейством, осмелилась, хотя и не без опаски, выказать ей свое расположение. Остальные женщины либо молча опустили вальки на мокнувшее в воде белье, либо, подняв головы, окинули ее взглядом, в котором любопытство и робость смешивались с гневом и отвращением.
Теперь она понимала, что это значило, и встала в сторонке, под раскидистой ивой, к стволу которой была привязана спущенная на воду лодка. В этой лодке деревенские мальчишки ездили удить плотву и карасей, а женщины, живущие по другую сторону пруда, нередко переезжали на этот берег, чтобы сократить себе путь в деревню. Петруся встала возле лодки, погрузила в воду принесенное белье и принялась, как другие, бить его вальком и полоскать. Однако это не мешало ей слышать разговоры, которые вели между собой ее соседки. Сначала они тихонько шептались, но надолго их не хватило: разве могли они долго сдерживать свои чувства и голоса! И вскоре они заговорили громко о том, что занимало сегодня всю деревню: о болезни Клеменса и о ее причинах. Рассказывали, что Петр поехал за ксендзом, что больному уже два раза давали в руки зажженную свечу, что мать чуть не умирает от горя и что, если Клеменс умрет, все хозяйство Петра пойдет прахом, оттого что сам он сразу состарится, а младший сын – это все знают – дурень и растяпа. Несколько голосов заохало: