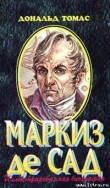Текст книги "Маркиз де Сад"
Автор книги: Елена Морозова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
К всеобщему изумлению, гражданин депутат Жак Анту-ан Дюлор извлек на белый свет давние истории о маркизе-живорезе, опубликовал их в своем памфлете под названием «Список бывших герцогов, маркизов, графов, баронов и т. д.» и сделал поистине убийственный для де Сада вывод: «Этот человек, которого тюрьма спасла от эшафота, который тюремные оковы должен был расценивать как милость, каким-то образом сумел причислить себя к несчастным жертвам, заточенным на основании судейского произвола. Этот отвратительный мерзавец живет среди цивилизованных людей и безнаказанно причисляет себя к числу граждан». После таких инвектив де Сада тотчас разоблачили как автора «ужасного» романа «Несчастья добродетели», выдержавшего к тому времени шесть изданий и превзошедшего тиражи бесцензурных, то есть порнографических сочинений.
Но «Несчастья добродетели» вышли анонимно, и, возникни необходимость вынести на их основании вердикт, принадлежность романа де Саду пришлось бы доказывать. Если бы де Сад был простым гражданином, а не занимал довольно высокие посты в секции и не был бы автором революционных брошюр, издававшихся на средства республики многотысячными тиражами, доказательствами можно было бы пренебречь. Но Донасьен Альфонс Франсуа успел поднатореть в революционном формализме и бюрократии и использовал каждую зацепку, чтобы выступить в свою защиту. Возможно, поэтому, когда Констанс начала хлопотать о его переводе в Пикпюс, власти сочли возможным не препятствовать ей, чтобы до поры убрать с глаз долой неуживчивого заключенного.
Маркиз не справился с повседневной ролью санкюлота, красный колпак не мог скрыть его «образ мыслей». Его обмолвки, недоговоренности, его сочувствие королю, смена настроения, наверняка произошедшая с ним после 10 августа и сентябрьской резни в тюрьмах, его воинствующий атеизм не остались незамеченными. «С тех пор, как он стал являться на заседания секции, начиная с 10 августа, он постоянно прикидывался патриотом. Однако истинных патриотов ему одурачить не удалось <…> Враг республиканских принципов в целом, он в частных беседах постоянно приводил примеры для сравнения из греческой и римской истории с целью доказать невозможность установления во Франции республиканского правления» – было написано в «характеристике», выданной секцией маркизу.
* * *
В Пикпюсе де Сад вел размеренную жизнь, много гулял в саду, писал, читал, быть может, заводил интрижки. Верная Констанс навещала де Сада почти каждый день, и, кажется, он нисколько не возражал, что путь к нему она проделывала пешком. В это же время в Пикпюсе находился автор еще одного «возмутительного» романа – Шодерло де Лакло, чьи «Опасные связи» в свое время ставили на одну доску с сочинениями маркиза. Но эти два автора были такими разными людьми, что, встречаясь в коридорах, даже не здоровались.
Постановление от 26 прериаля (14 июня) 1794 года коренным образом изменило жизнь пансионеров Пикпюса. В двух шагах от дома Куаньяра, на площади Поверженного Трона, установили гильотину: земля в центре Парижа отказывалась впитывать потоки крови, лившиеся с эшафота, и «национальную бритву» перевезли на окраину. Чтобы трупы не везти далеко, решили выкопать рвы в саду заведения Куаньяра. Пришли рабочие, отгородили половину сада и вырыли два глубоких рва, куда по ночам стали свозить тела казненных. Там же, в саду, подручные Сансона разбирали имущество, оставшееся от обезглавленных. И мрачный прямоугольник гильотины, и страшные рвы, которые время от времени засыпали негашеной известью, чтобы побороть смрад разложения, были прекрасно видны из окон верхних этажей пансиона. И пансионеры, привыкшие считать себя забытыми властью, затаились: окна стали закрывать ставнями, прекратились прогулки по саду. «За тридцать пять дней мы похоронили тысячу восемьсот человек», – писал де Сад.
Террор добрался до пансионеров Куаньяра, ряды их поредели, и те, кто оставались после переклички, отправлялись к себе в комнаты, гадая, когда настанет их очередь. Оторванные от внешнего мира, лишенные газет и свиданий, они проникались уверенностью, что мир за стенами Пикпюса скоро прекратит свое существование, ибо в нем больше не останется людей. Не у всех рассудок выдерживал такое испытание; де Сада спасало его перо. Недаром он накануне ареста писал: «Ночи, проведенные с пером в руке, есть и будут лучшими воспоминаниями моей жизни. Ах, как летит мое перо, преодолевая преграды, которыми окружили меня со всех сторон! Когда ум возбужден, буквы приобретают поистине удивительную силу! Факел философии всегда будет загораться от факела желания, его не погасит время, и тысячи верховных существ, как бы они ни старались, не сумеют задуть даже его искру». Считается, что именно в Пикпюсе в основном была написала «Философия в будуаре».
8 термидора (26 июля) 1794 года общественный обвинитель Фукье-Тенвиль вынес приговор двадцати восьми заключенным. Под номером одиннадцатым в списке значился гражданин Донасьен Альфонс Франсуа Сад. Среди приговоренных не было ни грабителей, ни разбойников, ни убийц, вина их заключалась только в том, что бюрократическая машина смерти, однажды запущенная, требовала новых жертв. 9 термидора черная, открытая для всеобщего обозрения повозка начала свой скорбный объезд тюрем, собирая очередную жатву для «вдовы Капета». Из заведения Кауньяра должны были забрать двоих – Сада и графа Бешон д'Аркьена. Стараниями Констанс (или все же из-за неразберихи, царившей в переполненных тюрьмах?) комиссар, выкликавший заключенных, поставил против имени Сада «Отсутствует» и удовлетворился одной жертвой.
В этот день Париж полнился слухами: говорили, что Робеспьер арестован, и тут же возражали сами себе: нет, Конвент встретил его очередную речь аплодисментами! А потом вновь утверждали, что смещен не только Робеспьер, но и все его правительство… На одной из улиц народ попытался задержать телеги, везущие осужденных, и освободить несчастных, но примчавшийся отряд Национальной гвардии разогнал толпу, и телеги беспрепятственно проследовали к площади Поверженного Трона. Последние жертвы Террора, среди которых должен был находиться и маркиз де Сад, были обезглавлены уже после ареста Робеспьера. Полагают, что маркиз видел эту казнь из окна своей комнаты. Второй раз карающая машина государства осуждала его на смерть, и второй раз он избегал ее. Наверное, именно поэтому он так яростно выступал против любых законов, ограничивающих свободу человека.
Падение Робеспьера означало конец Террора. «Подозрительных» стали выпускать из тюрем. В связи со сменой политического курса секция Пик дала гражданину Саду совершенно новую «характеристику»: «Мы, нижеподписавшиеся граждане секции Пик, удостоверяем, что знаем гражданина Сада, доверяли ему выполнять различные обязанности как в самой секции, так и в лечебницах, и он исполнял их с рвением и усердием; мы удостоверяем, что за все то время, пока мы его знаем, поведение его всегда было поведением истинного патриота и не давало основания сомневаться в его благонадежности».
15 октября 1794 года де Сад покинул Пикпюс и вернулся домой, на улицу Нев-де-Матюрен.
Глава IX.
ГРАЖДАНИН ЛИТЕРАТОР
Выйдя из тюрьмы, де Сад убедился, что политическая власть сменилась и он больше не должен доказывать свою благонадежность, писать заказные агитки, выступать на подмостках политического театра, а может всецело отдаться любимому занятию, то есть сочинительству. Правда, для этого необходимо было решить вопрос: чем оплачивать повседневные нужды; поэтому получение денег стало задачей чрезвычайно актуальной. Тем более что Констанс для оплаты его пребывания в Пикпюсе пришлось наделать немало долгов, которые также требовалось отдавать, так что первейшей заботой Сада стало добиться снятия секвестра, наложенного на его имущество после ареста. Исполненный оптимизма, де Сад писал Гофриди: «Полагаю, мы можем быть уверены, что спокойствие наконец-то воцарилось навеки. После смерти негодяев тучи рассеялись, и покой, которым мы вскоре сможем наслаждаться, станет лучшим лекарством для наших ран».
Но до покоя было еще очень далеко. В столице царили спекуляция, дороговизна и инфляция, на протяжении 1794– 1795 годов неоднократно вспыхивали мятежи санкюлотов, в мае 1795-го подняли мятеж роялисты, в провинции хозяйничали банды «поджигателей», поджаривавших пятки крестьянам, чтобы заставить их отдать последнее. Страну со всех сторон окружала враждебная монархическая Европа, война с которой была неизбежна. В сентябре 1795 года была принята новая конституция, согласно которой во Франции сохранялась республика во главе с Директорией из пяти человек и двухпалатным парламентом: Советом старейшин и Советом пятисот. Те, кто за время Революции успели сколотить себе состояние, теперь хотели им воспользоваться. Париж, по свидетельству современников, превратился в настоящий вертеп. Театры были переполнены, любимым развлечением стали балы, где щеголи-инкруаябли (буквально: «невероятные») и щеголихи-мервейезы (буквально: «чудесницы») состязались в экстравагантности нарядов. Молодые люди носили длинные рединготы с широкими обшлагами, прическу «собачьи уши», длинные волосы сзади собирали в хвост или заплетали в косу; дамы ввели в моду античный стиль и состязались в прозрачности туник. Устраивали «балы жертв», куда допускались только родственники казненных. На таких балах женщины зачесывали волосы наверх, а на шею надевали тонкие красные ленточки. Обувь а-ля античные сандалии способствовала возникновению моды носить кольца на пальцах ног. Про тогдашних модниц писали: «Придумав одежду, буквально не прикрывавшую ничего, они таким образом нашли способ оскорблять общественную стыдливость, не нарушая благопристойности». Сумел ли де Сад воспользоваться воцарившейся свободой нравов и разгулом преступных страстей, не сдерживаемых никакими законами, ибо прежние законы были отменены, а новые еще не приняли? Сведений об этом не сохранилось, но можно предположить, что он делал попытки, но подняться до уровня правивших бал термидорианцев у него катастрофически не хватало денег.
Когда сняли секвестр, де Сад аккуратно собрал все «справки» и отправил их в Прованс с просьбой как можно скорее прислать причитавшиеся ему доходы. Но желания его как обычно опережали действительность: часть его земель по-прежнему оставалась отчужденной, а на тех, что вернулись в его распоряжение, урожаи были невелики, и продавались они государству, платившему самые низкие цены. Гофриди сделать ничего не мог, ибо как ярый роялист все еще продолжал скрываться. Вдобавок поступавшие доходы в основном были в бумажных ассигнатах, которые постоянно обесценивались. В общем, вопрос об источниках существования оставался открытым. Де Сад решил попытать счастья на государственной службе. Несмотря на свойственные ему феодальные предрассудки, зарабатывать пером он, в отличие от многих своих собратьев по классу, никогда не считал зазорным. Он стал рассылать письма должностным лицам с просьбой о вакансии – либо на дипломатической службе, либо в библиотеке, либо в музее. Ни от кого ответа не последовало: подозрительное прошлое, солидный возраст, авторство (пусть и отрицаемое) непристойного романа, дети в эмиграции – словом, кандидатура для государственного служащего неподходящая. Де Саду оставалось одно – браться за перо и зарабатывать литературным трудом, тем более что «неприличные» сочинения в галереях Пале-Рояля пользовались повышенным спросом.
У гражданина литератора были уже готовые труды, и даже почти сверстанные. Речь шла прежде всего о романе «Алина и Валькур»; незадолго до своего ареста де Сад подверг рукопись правке «в соответствии с духом времени» и сдал в типографию печатника Жируара. Теперь место казненного Жируара заняла его вдова, она и издала восемь небольших томов с изящными офортами. Отсылая их Гофриди, де Сад отправил в Прованс и небольшое рекламное объявление, где предлагал всем желающим заказывать книгу по отпускной цене издательства – всего сто ливров. Издание «Алины и Валькура» автора не обогатило, но позволило какое-то время продержаться на плаву. За короткое время роман переиздавался трижды и, возможно, выдержал бы и большее число изданий, если бы не плагиатор, дважды выпустивший под разными названиями историю Леоноры и Сенваля. Протест, заявленный де Садом, резонанса не получил, но плагиатор, попавшийся на другом мошенничестве, все же понес заслуженное наказание. Кража именно этой части романа вполне объяснима: она значительно динамичнее обрамляющего ее повествования в письмах, а мода на эпистолярный жанр к этому времени уже прошла.
Несмотря на политические перемены, де Сад выпустил «Алину и Валькура» с внесенной правкой, сделанной еще до ареста. Возможно, именно чтобы внести коррективы, де Сад и хотел забрать рукопись из издательства Жируара, но это у него не получилось. «Самое необычное, что произведение это написано в Бастилии. Автор его, находясь во власти сил деспотизма, тем не менее разглядел грядущую Революцию; столь необычная прозорливость вполне закономерно пробуждает к сочинению его живой интерес», – гласило предисловие издателя. Вряд ли во время правления Директории такие реверансы были необходимы, но, по крайней мере, вреда от них для репутации автора не было. Тем более что в романе, «написанном за год до революции во Франции», можно было найти некоторые идеи, которые впоследствии звучали в речах рьяных революционеров.
Так, один из персонажей романа, португалец Сармьенто, состоящий на службе у правителя Бютуа, предлагает Сенвалю жаркое из бедра девицы, а когда тот в ужасе отвергает угощение, Сармьенто объясняет, что отвращение к такой пище является всего лишь следствием привычки и национального предрассудка. «Над нами больше властвует привычка, чем природа; природа всего лишь произвела нас на свет, привычка же нас лепит; только глупец верит в существование нравственной доброты: всякая манера поведения, совершенно безразличная сама по себе, становится или хорошей, или дурной с точки зрения страны, где ее оценивают». Речь Сармьенто в защиту каннибализма напоминала предложение Морелли, полагавшего, что для поддержания боевого духа каждый гражданин должен в обязательном порядке раз в неделю покупать пищу в «национальной мясной лавке, построенной по проекту гражданина Давида, где будет выставлено на продажу мясо гильотинированных». Разница заключалась в том, что пополнением лавки ведало государство, уничтожавшее людей по идейным мотивам, а на сковородку к Сармьенто поступали жертвы жестоких природных страстей правителя Бютуа и его подданных.
По мнению де Сада, жестокость является «одним из наиболее естественных чувств, присущих человеку», поэтому общество не имеет права препятствовать человеку проявлять данные ему от природы чувства и страсти. Взгляд де Сада на общество очевидно противоречил воззрениям эпохи социального оптимизма, внушенного просвещенным разумом, полагавшим возможным настолько идеологизировать индивида, что это позволило бы создать общество всеобщего равенства, включая равенство вкусов, привычек и пристрастий. В таком обществе и преступление, и оправдание преступления было основано на идеологическом выборе, правильность которого определяла власть и созданные ею законы, которых вечный бунтарь де Сад не терпел никогда. «Я хочу совершать преступления, чтобы потакать своим страстям, но никогда не совершу преступления, чтобы способствовать развитию страсти к преступлению у другого», – писал он.
Однако общество без законов, где всем правят исключительно преступные страсти и естественные потребности, может существовать только среди дикарей, написала здравомыслящая мадам де Сад после прочтения рукописи «Алины и Валькура». Такое общество уничтожит самое себя, признал де Сад устами Сармьенто, и тут же добавил: «Но природа создает, чтобы разрушать», а если разрушение является результатом порока, значит, порок является законом природы. А империей больше, империей меньше – природе все равно.
Пытаясь представить себе идеальное общество, де Сад создал государство Тамоэ, где благодаря мудрому правлению Заме почти не было законов, тюрьмы были упразднены, а преступления перестали называть преступлениями, отчего количество их уменьшилось само собой. В результате народ Тамоэ стал «кротким, чувствительным, добродетельным без законов, благочестивым без религии». Подвох первой заметила мадам де Сад, позволившая себе не согласиться с тем, что, если зло назвать добром, оно от этого изменится. «Получается, что зло и добро заключено исключительно в словах, а сам поступок значения не имеет; в таком случае мы получаем равенство принципов, и людоед получает такое же право поедать себе подобных, как и Заме делать своих подданных счастливыми. Уравняв добродетели с пороками, мы начинаем мыслить как португалец (Сармьенто. – Е. М.). Они (Заме и Бен Маакоро. – Е. М.) руководствуются одними и теми же принципами, только правят по-разному: один при помощи жестокости, другой при помощи благодеяний, но мне нисколько не нравится, что, следуя принципам, Заме может согласиться с людоедством». По мнению Рене-Пелажи, планы Заме по строительству государства справедливости могли осуществиться только в том случае, если бы у его подданных не было «ни страстей, ни пороков», иначе говоря, если бы они были не люди, а ангелы. А вдруг в государстве Заме появится сумасшедший, – вопрошала она, что тогда сделает с ним правитель?
Но де Сад, чей «образ мыслей» был непоколебим, вносил изменения только под давлением реальной угрозы собственной безопасности, поэтому замечания супруги остались без последствий. Тем более что в то время весь пыл своей души маркиз вкладывал в осуждение законодательной системы, упрятавшей его за решетку. В доработанном поневоле варианте мудрый Заме, «предвидевший» революцию во Франции, решил не передавать бразды правления сыну, ибо хотел, чтобы после его смерти народ «наслаждался благами свободного республиканского правления», к которому Заме подготовил его как заботливый отец. В дальнейшем же, как был уверен Заме, счастливые – ибо они исповедуют республиканские принципы – народы Франции и Тамоэ воссоединятся.
С изданием «Алины и Валькура» де Сад, кажется, действительно чуть-чуть опоздал. Термидорианская публика, уставшая от газет, число которых по сравнению с концом 1789 года сократилось до ста с небольшим, от ораторского слова и театральных пьес, от листовок и памфлетов (либо пасквилей), возвращалась к чтению длинных романов. Вымышленные истории, угодившие вкусам читателей, раскупались нарасхват. А читатели, привыкшие за годы революции к эротико-политическим памфлетам, в которых истинные патриоты, воплощавшие в себе здоровые семейные ценности, без всяких эвфемизмов и ограничений описывали и разоблачали разврат загнивавшей аристократии, продолжали с удовольствием поглощать фривольные сочинения, далекие от прославления гражданских доблестей, а напротив, напоминающие о «сладостях жизни». Отъявленный либертинаж прекрасно уживался со свободой, порнография – с морализаторством. Авторы памфлетов, выставляя себя хранителями морали, писали непристойным языком разврата, их опусы приближались к тем непристойным сочинениям восемнадцатого столетия, о которых говорили: их «читают руками». Казалось, при таком обилии непристойной литературы де Сад мог бы, наконец, перестать скрывать свое имя. Но это только на первый взгляд. Порнографический лексикон де Сада, из-за которого он наравне с Ретифом, Мирабо и другими своими современниками попал в «запретные писатели»[13]13
В «Аду», как назывался спецхран Французской Национальной библиотеки, наряду с сочинениями де Сада хранились порнографические романы и Ретифа де ла Бретона, и Мирабо.
[Закрыть], – это, пожалуй, самая банальная часть его сочинений, ибо в отличие от Ретифа или Андреа де Нерсиа эротизм у де Сада был, в сущности, поводом для создания стройного здания собственного «образа мыслей»: философии зла, преступления и атеизма. О чем бы и каким бы языком ни писал де Сад, он упорно твердил одно: страсть к разрушению заложена в природе, природа – безликая и равнодушная сила, не нуждающаяся ни в особом культе, ни в поклонении, но карающая любого, кто смеет ей противиться, кто сверяет свои действия с заповедями выдуманного Бога, препятствующими осуществлению потребностей, заложенных природою. Истинный сын Просвещения, он отвергал идею прогресса, поэтому кирпичики, из которых сложено здание его философии, всегда одни и те же. Возможно, поэтому чтение «программных» сочинений де Сада вполне может наскучить: постулаты своей философии он излагает многократно.
В 1795 году в продаже появились два небольших томика под названием «Философия в будуаре», посмертное произведение автора «Жюстины». Завлекающий эпиграф «Мать предпишет дочери прочесть ее» пародировал эпиграф «Мать запретит дочери читать его», предпосланный к памфлету «Маточное буйство у Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI» (1791), Во втором издании автор несколько изменил название: «Философия в будуаре, или Аморальные наставники» и добавил подзаголовок: «Диалоги, предназначенные для воспитания молодых девиц». Связав анонимного автора нового сочинения с «Жюегиной», де Сад почему-то решил похоронить его. Возможно, таким образом он хотел обезопасить себя от повторного обвинения в «крайней безнравственности», едва не стоившего ему жизни, и заодно обезопаситься на будущее, так как в это время за его рабочим столом рождалась «Новая Жюстина». Этим заявлением он также хотел привлечь к новой книге любопытство читателя, который в свое время активно раскупал тиражи «Злоключений добродетели».
«Философия в будуаре», состоящая из семи диалогов, или, точнее, картин, ибо повествование у де Сада очень «зримое», были написаны в Пикпюсе, в комнате, из окна которой можно было видеть гильотину, а изо рва, куда сваливали трупы казненных, доносились запахи разложения. С 14 июня по 27 июля на площади Поверженного Трона, были казнены тысяча триста шесть человек (из них сто девяносто семь женщин); тела их были закопаны в двух рвах Пикпюса. Больше половины казненных были выходцами из народа: революция пожирала собственных детей. Можно только предполагать, какие чувства испытывал в то время де Сад, убежденный противник смертной казни и одновременно признававший за человеком право на убийство «из-за природного пристрастия к преступлениям», истребившего на бумаге сотни бессловесных жертв и вынужденного проживать в тени гильотины и каждодневно быть свидетелем кровопролития, жертвой которого он в любую минуту мог стать сам. Де Сад не описывал этих чувств никому, только в годовщину казни короля написал Гофриди: «Гильотина, сооруженная прямо у меня на глазах, принесла мне в сотню раз больше вреда, чем все бастилии, вместе взятые».
Отгородившись от ужасов окружавшего его мира листами бумаги, испещренными торопливым размашистым почерком, которым уже написана «Жюстина» и будет написана «Жюльетта» (письма в секцию гражданин Сад писал четким округлым почерком), де Сад выстроил роскошный будуар, комнату между спальней и гостиной, где либертены-аристо-краты во главе с мадам де Сент-Анж и Дольмансе взялись обучить искусству либертинажа юную Эжени. Используя себя в качестве наглядных пособий, они посвятили девицу во все таинства любви, в том числе и однополой, и принялись энергично формировать ее вкусы. Ученица оказалась необычайно способной и любознательной, и главный учитель Дольмансе, утверждавший, что «вкусы человека в разврате схематически сводятся к трем: содомия, святотатственные фантазии и жестокость», счел необходимым ознакомить ее с теорией либертинажа, ибо только слово способно придать наслаждению подлинную утонченность и беспредельность. Бессловесных либертенов не существует.
Как предупреждает заголовок, главное в садическом будуаре – это философия, поэтому стремительные эротические вакханалии, по содержанию мало чем отличавшиеся от тогдашних порнографических сочинений, сменялись длинными рассуждениями на темы религии, нравственности, преступления и – в духе времени – революционной морали. Наверное, иначе и быть не могло: идея литературной мести прочно засела в голове де Сада, и если в «Ста двадцати днях Содома» он изничтожал век Людовика XIV, породивший ненавистные ему «письма с печатью», то в «Философии в будуаре» он язвительно высмеивал якобинскую идеологию, доводя до абсурда революционную теорию.
«Предоставлять человеку выбор – значит, искушать его», – убеждает Эжени Дольмансе, обрушиваясь на Бога, наделившего человека свободой выбора. «Добродетели создают только неблагодарных», «Никогда не давай милостыню», «Нет ни одного действия, которое было бы истинно преступным, и ни одного, которое можно было бы назвать добродетельным. Все зависит от наших обычаев и климата; то, что именуется преступлением здесь, нередко является добродетелью в ста лье отсюда», – поучают либертены свою воспитанницу. Отвечая на вопрос Эжени, необходимо ли благонравие обществу, Дольмансе извлекает брошюру под названием «Французы, еще одно усилие, если вы хотите быть истинными республиканцами!», купленную им во Дворце равенства, и зачитывает памфлет, выворачивающий наизнанку все республиканские ценности.
Автор памфлета требует для истинных республиканцев такой веры, которая поднимала бы душу гражданина к «драгоценной свободе – единственному кумиру современности». Чтобы стать свободными, французы не должны иметь дела с «Богом, лишенным протяженности, что, впрочем, не мешает ему пронизывать собою вселенную; с Богом всемогущим, который, однако, никогда не может добиться осуществления своей воли; со всеблагим Существом, порождающим только лишь недовольных; с Существом, любящим порядок и правящим в полнейшем хаосе. Одним словом, мы не желаем считать Богом существо, противоречащее природе и порождающее путаницу; существо, под влиянием которого человек совершает ужасные вещи. Подобный Бог заставляет нас содрогаться от негодования, поэтому мы обрекаем Его на забвение, из которого гнусный Робеспьер недавно попытался его извлечь». Адресуя христианскому Богу свои обычные инвективы, де Сад не мог не бросить камень в огород Верховного существа, культ которого пытался установить Робеспьер. Противник любого Верховного Божества, каким бы именем его ни называли, Существа, ограничивавшего его свободу, де Сад не мог простить якобинцам введения нового культа, который они стали насаждать на опустевшем месте отринутого ими христианства. По мнению де Сада, теизм, предложенный Робеспьером, являлся «самым непримиримым врагом той свободы, которой мы служим».
При новом правительстве неизбежны новые нравы, ибо множество мелких заблуждений, почитавшихся во времена правления королей преступными, в обществе свободных людей «совершенно ничего не значат». Во времена монархии воровство и распутство считались уголовными преступлениями. Но в республике воровство не является преступлением, ибо помимо укрепления храбрости, ловкости и силы оно способствует поддержанию имущественного равенства среди граждан. Поэтому наказанию надо подвергать не грабителя, а того, кто был настолько беспечен, что позволил себя ограбить.
Некоторые рассматривают проституцию, прелюбодеяние, кровосмешение, насилие и содомию как преступление, ибо они якобы наносят вред «нашему долгу по отношению к другим людям». Но все эти так называемые нравственные преступления совершенно безразличны для республики, провозгласившей высшей ценностью свободу своих граждан, «ведь ни одна человеческая страсть не требует большей свободы, нежели разврат».
И гражданин Сад старательно описывает республиканские учреждения разврата, мало чем отличающиеся от тех, которые, к примеру, представлены в памфлете под названием «Патриотический бордель, организованный королевой французов для услаждения депутатов нового законодательного собрания» (1791). «В городах должны существовать различные помещения, удобные, просторные, опрятно убранные и безопасные во всех отношениях, где причудам наслаждающихся распутников будут предоставлены лица любого пола и возраста, любое создание», – пишет гражданин Сад. В «патриотическом борделе» также все предусмотрено: «Все страсти, все вкусы обоих полов получат там полнейшее удовлетворение: мужчина сможет насладиться мужчиною, а женщина женщиной. Все желания, все проявления чувств будут утолены. После наслаждений естественных, получаемых от совокупления мужчины и женщины, можно свободно перейти к наслаждениям противоестественным, а затем сравнить ощущения».
Мария-Антуанетга и данная ей анонимным автором в помощницы Теруань де Мерикур добровольно приглашают женщин в бордель: «Замужние женщины с огненным темпераментом, которых перестанут удовлетворять их мужья, имеют право прийти сюда, дабы получить недостающее. Девушки, а также монахини могут прийти сюда, дабы набраться опыта». Де Сад предлагает всем женщинам заниматься проституцией на основании закона: «Закон должен обязать женщин заниматься проституцией, если они сами того не желают. Более того, женщины в силу закона будут вынуждены посещать дома терпимости». Необходимо снять с женщин все ограничения и перестать считать прелюбодеяние преступлением.
Сняв с супружеской измены клеймо преступления, гражданин Сад делает то же самое с кровосмешением, которое «должно стать законом любой формы правления, основанной на братстве». «Найдете ли вы где-либо, я вас спрашиваю, предрассудок, равный по гнусности тому, когда мужчине вменяют в преступление наслаждение с тем, кто является для него самым близким человеком в силу естественного чувства?» – вопрошает он. И находит отклик у виднейшего якобинца Сен-Жюста в его рассуждениях о природе и гражданском состоянии: «…кровосмешение… является преступлением со стороны того, кто предается ему в нечестивости: это действительно кровосмешение. Но оно перестает быть кровосмешением и становится добродетелью у того, кто совершает его с невинным сердцем». Оправдание инцеста можно найти и в сочинениях Ретифа.
Устранив преступления, надо устранить и жестокие законы, и прежде всего «свирепость смертной казни», ибо законы, «посягающие на жизнь человека, являются неисполнимыми, несправедливыми и недопустимыми», тем более что «смертная казнь никогда не устраняла последствий преступления», так как «преступления совершаются ежедневно даже у подножия эшафота».
Но нельзя наказывать убийцу – ведь он, в отличие от закона, не подлежащего воздействию страстей, совершил преступление по причине страсти, внушенной ему природой; следовательно, природа, подчиняться которой велит разум, нуждается в преступлениях. Природе нет дела до жизни и смерти как одного индивида, так и вида в целом.