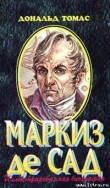Текст книги "Маркиз де Сад"
Автор книги: Елена Морозова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
2 апреля 1790 года Донасьен Альфонс Франсуа де Сад вышел из Шарантона на свободу.
Глава VIII.
ТЕАТРЫ ГРАЖДАНИНА САДА
Итак, долгожданная свобода. Наконец-то Донасьен Альфонс Франсуа мог идти куда угодно, делать все, что ему угодно, начинать новую жизнь, о которой он мечтал с самого первого дня своего заключения. Однако восторг быстро сменился растерянностью. Попав в заточение в одном государстве, он вышел на свободу в другом. На первый взгляд вроде все было как прежде, но и таявшие с каждым днем стены некогда неприступной Бастилии, и королевские указы, подписанные «Людовик, милостью Божьей и Конституции король французов» (а впереди еще король «милостью нации»), свидетельствовали о глубоких переменах, произошедших за время пребывания де Сада в тюрьмах абсолютизма. Революция свершилась и набирала обороты.
Немного истории: на разборе Бастилии было занято восемьсот рабочих; камни от стен крепости были использованы для фундаментов домов, строительства мостов и даже на украшения: парижские модницы носили кольца, серьги и колье из отполированных мелких осколков камней бастильских стен.
Создана Национальная гвардия – вооруженная сила революции, во главе которой стоял маркиз де Лафайет, герой борьбы за независимость американских колоний. Национальное собрание приняло на себя функции собрания Учредительного; большую часть его депутатов пока составляли сторонники конституционной монархии.
Была принята Декларация прав человека и гражданина, первая статья которой гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Неотчуждаемыми правами человека и гражданина провозглашались свобода личности, свобода слова, свобода совести. Семнадцать статей Декларации вылились в чеканный лозунг революции: «Свобода, равенство, братство», в котором маркиза де Сада (как, впрочем, и гражданина Сада) устраивала только первая его часть. Принятая Декларация об отказе дворянства и духовенства от феодальных привилегий также вряд ли была встречена им с восторгом: крупный землевладелец де Сад не терпел ущемления своих прав сеньора даже со стороны короля. Было проведено решение об испытании новой «машины для казни», названной гильотиной по имени ее изобретателя доктора Жозефа Игнация Гильотена. Продукт рациональных технологий сочли более «гуманным» и постановили казнить преступников посредством гильотины. Этот механизм был сооружен «для использования» весной 1792 года.
5 октября 1789 года начался поход на Версаль; огромная толпа народа, главным образом женщин, презрев грязь и слякоть, двинулась к резиденции короля. Шествие возглавила «амазонка революции», бывшая актриса и содержанка, красавица Теруань де Мерикур, преподавшая де Саду первые уроки «политпросвета». В политику Теруань толкал бурный темперамент и желание встать вровень с мужчинами. 10 августа 1792 года, когда она вместе с восставшими парижанами шла брать Тюильри, она увидела журналиста-роялиста Сюло, опубликовавшего о ней целый ряд грязных статей, и – по одним источникам – в упор застрелила его, по другим – отсекла ему голову, а по третьим – выдала разъяренной толпе, которая без промедления разорвала его на куски. Есть предположения, что Теруань принимала участие в сентябрьской резне 1792 года в Париже, но они отвергаются большинством исследователей.
В 1790 году Теруань жила в той же гостинице, где поселился бывший «узник деспотизма» гражданин Сад. Неординарные личности познакомились, но свелось ли их знакомство только к дружескому «политпросвету» или же отношения вылились в нечто большее, неизвестно. Через много лет один из современников де Сада, присутствовавший на обеде у директора шарантонской лечебницы Кульмье, услышал, как маркиз заявил, что Теруань де Мерикур была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Во всяком случае, он всегда отзывался о ней с восторгом и вполне мог наделить некоторыми ее чертами свой главный женский персонаж – Жюльетту. Но только некоторыми, ибо испытания «главным удовольствием» либертенов, а именно розгами, Теруань не выдержала: когда в мае 1794 года разъяренная толпа «вязальщиц», или, как их иногда называли, «женской гвардии Робеспьера», схватила ее и, обвинив в защите жирондиста Бриссо, высекла розгами, рассудок у нее повредился. Умерла она в 1817 году в приюте для умалишенных.
Среди врачей, лечивших Теруань, был знаменитый психиатр Эскироль, чей доклад о спектаклях маркиза де Сада с участием пациентов шарантонской лечебницы послужил одним из поводов запрета этих спектаклей. По мнению Эскироля, некоторые спектакли действительно могли действовать успокаивающе, но терапевтический эффект их Эскироль полностью отрицал. Возможно, для образа Жюльепы де Саду больше подошла бы Олимпия де Гуж, которая активно выступала за равноправие женщин, была автором «Декларации прав женщины и гражданки» (1791), десятая статья которой гласила: «Никто не должен быть наказан за свои убеждения. Если женщина имеет право взойти на эшафот, она должна иметь право подняться на трибуну». Подняться на трибуну женщинам не позволили, а Олимпию в числе многих других женщин в 1793 году отправили на гильотину.
Прежде чем идти дальше, скажем несколько слов о розгах, обладавших для де Сада едва ли не сакральным значением. Во время революции наказание розгами стали проводить публично и оно приобрело оскорбительный характер. Революционными жертвами публичных порок часто становились неугодные толпе аристократки или монахини. Бывали случаи, когда орава рыночных торговок врывалась в женские монастыри, оскорбляла сестер-монахинь, гонялась за ними с розгами и нещадно их избивала. Из орудия наслаждения розга превращалась в орудие позора.
* * *
Больше всего де Сада наверняка порадовала свобода печати: в 1790 году в Париже вместо двух десятков газет, существовавших до революции, издавалось уже четыреста. В этом же году был отменен институт наследственного дворянства и все связанные с ним титулы, и маркиз с гордостью присвоил себе звание «литератор», получить которое он стремился уже давно. Тем более что никто толком не мог сказать, какими талантами должен быть наделен носитель сего звания. К примеру, можно ли так было назвать некоего Дравеньи, написавшего за пять революционных лет более ста сорока патриотических пьес? Скорее, сей господин должен был удостоиться звания графомана. Де Сад с полным правом взял себе почетный титул литератора: его рабочий стол был буквально завален сочинениями, написанными великолепным литературным языком, в дружбе с которым состояли далеко не все новоиспеченные «литераторы».
Вопрос с самоопределением в новом обществе был решен, но прочие проблемы, и прежде всего бытовые, стояли перед Донасьеном Альфонсом Франсуа во всей их остроте. Де Сад вышел на свободу пятидесятилетним стариком, грузным, обрюзгшим, с одутловатым лицом. По его собственным словам, он «из-за отсутствия физических упражнений настолько растолстел, что даже передвигался с трудом». Но несмотря на полноту, на одолевавшие его мигрени, ревматизм, слабость зрения и многие другие недуги, ум его был ясен, а в минуты хорошего настроения он с иронией называл себя «самым толстым человеком» в Париже. Именно таким предстает де Сад на портрете, который создал в тридцатые годы XX века известный американский фотохудожник Мэн Рэй: грубо высеченный могучий профиль маркиза вырисовывается на фоне охваченной пламенем Бастилии.
Первым пристанищем на свободе стал для де Сада дом его бывшего парижского поверенного Милли, адрес которого ему еще в Шарантоне сообщила Рене-Пелажи. Супруга де Сада также растолстела, страдала одышкой и редко выходила из монастыря Сент-Ор. Поначалу де Сад хотел поселиться там вместе с ней, но Рене-Пелажи в краткой записке отказала ему и сообщила, что подает прошение в суд о раздельном проживании. Разговаривать с Донасьеном Альфонсом Франсуа она отказалась наотрез. После двадцати семи лет преданного служения капризному и часто неблагодарному супругу Рене-Пелажи решила общаться с ним только через своего поверенного. Скорее всего, она боялась вновь попасть под влияние его непостоянной натуры: когда де Сад хотел, он прекрасно исполнял роль обаятельного обольстителя.
Сообщение о разрыве не произвело впечатления на Донасьена Альфонса Франсуа: он был уверен, что это всего лишь очередная причуда, очередной тихий протест, который, как всегда, ни к чему не приведет. Но если, пребывая в тюрьме, де Сад на любое роптание отвечал вулканическим извержением гнева, теперь он решил смолчать, понимая, что развод неминуемо повлечет за собой раздел имущества и выяснение денежных отношений. Денег у него не было, а он крайне в них нуждался. Первый заем, чтобы расплатиться с милосердными братьями и кое-как обустроиться, пришлось сделать у мадам де Монтрей – кто еще в революционном Париже мог ссудить крупной суммой «узника деспотизма»? Друзей у него в столице не было, а официальные власти были не склонны швыряться деньгами. К примеру, когда в марте 1791 года к ним обратился Латюд, и, утверждая, что умирает с голоду, потребовал десять тысяч франков компенсации за годы, проведенные в тюрьмах абсолютизма, ему было отказано под предлогом того, что он состоял в переписке с мадам Помпадур – то есть «пресмыкался перед куртизанкой». Конечно, у де Сада был источник доходов – его имения в Провансе, и он немедленно написал Гофриди, прося срочно прислать ему денег. Возможность обратиться с такой просьбой к управляющему наверняка доставила маркизу немало удовольствия – он вновь получил право распоряжаться собственным имуществом! Но пока письмо и надлежащие бумаги о его освобождении дошли до Гофриди, пришлось вновь обращаться к теще.
После гостиницы Донасьен Альфонс Франсуа снял квартиру у своей дальней родственницы, очаровательной сорокапятилетней умницы Маргариты Фаяр Дезавеньер. Она была вхожа в театральные круги (ее пьеса «Полина» была принята к постановке «Комеди Франсез») и не возражала ввести в них обаятельного родственника, грезившего о лаврах драматурга. Правда, постепенно к этим грезам все чаще присоединялась мысль о театральных сборах: гражданину литератору хотелось получать дивиденды с имевшихся у него рукописей. И основные свои надежды он возлагал на пьесы. Еще в Бастилии де Сад писал аббату Амбле: «Самая лучшая повесть зачастую имеет всего 200 читателей, в то время как самая слабая комедия (пьеса) собирает от четырех до пяти тысяч зрителей».
Однако для начала нужно было освоиться с новой жизнью. Для него она была вдвойне новой, так как за годы заключения он отвык жить на свободе. Если бы он освободился при Старом порядке, то, возможно, немедленно уехал бы к себе в Ла-Кост и за стенами любимой крепости вновь предался своим «фантазиям». Но ему подарил свободу новый мир, приспосабливаться к которому в пятьдесят лет было трудно, и особенно трудно было вновь выстраивать отношения с людьми. За время заключения де Сад привык к одиночеству и к созданному им собственному миру, который больше напоминал театр масок, чем подлинную жизнь. Легче всего ему давались отношения с женщинами, и, на его счастье, первыми его шагами руководили именно женщины: Теруань де Мерикур, Маргарита Фаяр Дезавеньер и очаровательная юная кузина Дельфина, супруга Ста-нисласа де Клермон-Тоннер. Умеренный роялист, Клер-мон-Тоннер постепенно стал привлекать де Сада к участию в заседаниях клуба «Беспристрастных», созданного в противовес якобинскому клубу. Маркиз охотно общался со сторонниками ограниченной монархии, ибо не имел ничего против короля. Но возврата к Старому порядку не хотел – он слишком досадил ему.
В новой жизни Донасьена Альфонса Франсуа устраивало далеко не все. К примеру, он долгое время вынашивал мысль отправиться в Прованс и расшевелить «нерадивого» Гофриди, который либо не присылал денег, либо присылал, но не столько, сколько хотелось бы де Саду. Но «великий страх», охвативший французскую провинцию после падения Бастилии, массовая паника, основанная на слухах о нашествии бандитов и убийц, грабежи и поджоги феодальных замков, не прекратившиеся после отмены феодальных повинностей, заставляли Донасьена Альфонса Франсуа постоянно откладывать поездку. Забегая вперед, скажем, что он отважится совершить это путешествие только в 1797 году, после чего с грустью поймет, что его Прованс утерян безвозвратно, и у него впервые возникнет мысль о продаже Ла-Коста. Но пока его замку ничто не угрожает – может, потому, что он представляет собой незавидную добычу. А свои обязанности по отношению к сеньору крестьяне давно уже перестали выполнять – за отсутствием сеньора. Тем более что среди соседей де Сад слыл отнюдь не чудовищем, а всего лишь завзятым волокитой, не пропускавшим ни одной юбки, что в глазах деревенских жителей было делом житейским. Еще во времена устройства театра де Сад завязал приятельские отношения со многими жителями Ла-Коста, и теперь эти связи позволили ему сделать заем в пятнадцать тысяч ливров у одного из своих арендаторов. Свободная жизнь постепенно налаживалась.
Огромной ложкой дегтя в новой жизни маркиза де Сада стал развод с Рене-Пелажи, повлекший за собой раздел имущества, чего де Сад боялся больше всего, ибо согласно брачному договору он был обязан вернуть бывшей супруге ее приданое. Конечно, он немедленно обвинил мерзких Монтреев, и прежде всего гнусную змею тещу, сумевшую уговорить Рене-Пелажи на такой гадкий поступок. Мысль о том, что жена хотела спасти состояние семьи ради детей, ему в голову не приходила. Иначе ему пришлось бы признаться в своей привычке безрассудно тратить деньги, не думая ни о детях, ни о жене, ни о собственном будущем. Но он знал, что о детях и о жене всегда есть кому позаботиться, иначе зачем ему было жениться на дочери Монтреев? Положение спас управляющий Рейно, выступивший представителем интересов де Сада. Умный и рассудительный, Рейно уговорил мадам де Монтрей и мадам де Сад не требовать у Донасьена Альфонса Франсуа возврата приданого – денег у него все равно нет. Не сажать же его снова в тюрьму! И Рене-Пелажи согласилась получить в счет приданого ипотечное право на имущество, принадлежавшее ее супругу, при условии, что он станет выплачивать ей ежегодное содержание в четыре тысячи ливров. А после развода к главному управляющему Гофриди полетело горькое сентиментальное письмо: «О, мадам де Сад! Какие изменения произошли в душе вашей! Какие ужасные изменения! Друг мой! Мой дорогой адвокат! Если бы вы только знали, сколь недостойно поступила со мной эта женщина!.. Пишу вам, а из глаз льются слезы. Более я ничего не могу сказать». Однако Донасьен Альфонс Франсуа недолго оплакивал свою участь: он понял, что у Рене-Пелажи не хватит ни сил, ни мужества требовать с него означенные четыре тысячи, а значит, их можно не платить. И он не выплатил их ни разу.
Переписка де Сада с Гофриди – настоящий роман в письмах, написанный гораздо более эмоционально, чем, к примеру, «Алина и Валькур». Кипевшие в личных посланиях маркиза негодование и обида в любой строчке могли смениться на ностальгию, отчаяние, лицемерие, лесть. Де Сад требовал, негодовал, рвал и метал, Гофриди подолгу молчал, а потом пускался в пространные объяснения, почему он не смог прислать господину (гражданину) Саду требуемую сумму. Сад, которого никогда не интересовало хозяйство, возмущался: зачем ему знать, что что-то там сгорело, а что-то не выросло, что-то не продали, а баранов не успели остричь? Ксавье Франсуа Гофриди – единственная ниточка, связывавшая его с Провансом, но, как и в отношениях с Ре-не-Пелажи, де Сад то и дело проверял эту ниточку на прочность. Де Сад и Гофриди знали друг друга фактически всю жизнь, за это время отношения их переросли рамки отношений магнат – управляющий, и за этими рамками именно магнат не мог обходиться без своего управляющего.
Только Гофриди де Сад мог адресовать из революционной столицы такие строки: «Вы спрашиваете меня, дорогой адвокат, каков мой образ мыслей, дабы вы могли следовать ему. Разумеется, вопрос сей далек от утонченности, и я, к величайшему своему прискорбию, вряд ли смогу правильно на него ответить. Прежде всего, будучи литератором, я здесь каждодневно обязан работать то на одну партию, то на другую, что порождает определенную подвижность моих мнений и, несомненно, влияет на мои внутренние убеждения». Только с ним он мог делиться своими политическими размышлениями: «Я против якобинцев, я их смертельно ненавижу; я обожаю короля, но ненавижу злоупотребления Старого порядка. Многие статьи Конституции мне нравятся, но многие приводят в возмущение. Я хочу, чтобы дворянству вернули его былой блеск, ибо лишение дворянства его привилегий не приведет ни к чему хорошему; я хочу, чтобы король был главой нации; я не хочу никакого Национального собрания, а хочу двухпалатный парламент, как в Англии, парламент, определенным образом ограничивающий королевскую власть, поддерживаемую нацией, непременно разделенной на два сословия; третье сословие (духовенство) совершенно бесполезно, я не сторонник его существования. Таков мой символ веры. Так кто же я теперь? Аристократ или демократ? Пожалуйста, адвокат, скажите мне, ибо я сам уже ничего не понимаю». Когда Гофриди, который всегда придерживался монархических взглядов, был вынужден скрываться после неудачного участия в роялистском заговоре, де Сад ничтоже сумняшеся призвал его к себе в Париж, не думая о том, какой опасности подвергнется в столице заговорщик-управляющий. Но де Сад не имел привычки думать о ком-либо, кроме себя, поэтому его порыв наверняка был искренним, и он действительно хотел сделать как лучше…
Переписка с Гофриди во многом была для де Сада такой же отдушиной, какой была его переписка с Рене-Пелажи. Он жаловался управляющему на потерю рукописей, на провал своих пьес, на жестокость супруги, на происки мадам де Монтрей – и одновременно упрекал его в шпионаже в пользу все той же мадам де Монтрей… Де Сад бесцеремонно выплескивал на управляющего все свои эмоции, чаще всего отрицательные, а когда ему требовались деньги, любой отказ или отсрочку воспринимал как заговор. Маркизу всегда казалось, что Гофриди недостаточно расторопен. Но именно рассудительность, неторопливость и нелюбовь к переменам сделали возможным сосуществование де Сада и Гофриди, хозяина и подчиненного, связанных мостиком из бумажных листочков-писем – как личных, так и деловых. Отношения вспыльчивого магната и флегматичного управляющего осложнялись еще тем, что долгое время на имущество де Сада был наложен секвестр, а из-за путаницы с именами снять его было крайне сложно. В один из дней, когда финансовое положение маркиза было действительно не блестящим, он, разозлившись, написал Гофриди оскорбительное и незаслуженно жестокое письмо. И у старого нотариуса (а Гофриди к этому времени было уже за семьдесят) лопнуло терпение: он в одностороннем порядке снял с себя тяжкое бремя управляющего имуществом де Сада. Когда маркиз остыл и осознал, что своим гневным выпадом лишил себя давнего друга, то направил управляющему письмо с извинениями – кажется, впервые в жизни. Гофриди извинения принял, однако от дел отошел и писать маркизу перестал. Возможно, если бы в то время де Сад не оказался в Шарантоне, он продолжал бы писать Гофриди. Но в Ша-рантоне у него появилась новая забота – театр, и образ управляющего постепенно померк, отодвинулся в дальний угол памяти. Когда же де Саду пришла нужда в поверенном, способном проследить за исполнением его последней воли и соблюсти интересы мадам Кене, он вновь обратился к Гофриди. И в конце письма приписал: «Быть может, теперь вам будет интересно узнать новости и обо мне? Так вот, я обделен счастьем». Кому еще де Сад мог сказать такие слова?
* * *
Мадам Констанс Кене (в девичестве Ренель), тридцати трех лет от роду, актриса на вторых ролях, брошенная мужем, с маленьким сыном на руках, в меру хорошенькая, спокойная, рассудительная, получила от Донасьена Альфонса Франсуа прозвище «Чувствительная» и заняла место Рене-Пелажи. Она заботилась об одежде гражданина Сада, о его столе, о перьях и бумаге, вела его небольшое хозяйство. Де Сад полностью доверял Констанс, она стала его опорой в трудные минуты и прошла с ним весь оставшийся ему путь, до самого конца. Когда де Сада поместили в Шарантон, она добилась разрешения проживать в лечебнице вместе с ним.
Какие чувства соединяли этих двух не слишком молодых людей, что побуждало Констанс в течение четверти века преданно служить маркизу, читать его рукописи и переписывать их набело, выполнять его капризы и терпеть вспышки его гнева, заботиться о его здоровье и содержать его, когда у него кончались деньги? Двадцать пять лет выдерживает не всякий брак… Какие чувства связывали их: нежная дружба? любовь? страх одиночества? удивительное взаимопонимание? Одно точно – корыстные соображения руководить Констанс не могли: извлекать деньги из революционного воздуха де Сад не умел, рассчитывать на баснословные доходы от его сочинений не приходилось, а земля в провинции стремительно обесценивалась. Когда де Сад захотел купить дом в Париже, ни один из управляющих не сумел выручить для него нужной суммы. Попытки протиснуться в ряды наследников состоятельной тетушки тоже ни к чему не привели.
Наверное, Констанс Кене, моложе де Сада на семнадцать лет, была похожа на Рене-Пелажи в юности; во всяком случае, красота ее тоже была неброской. По складу характера и той самоотверженности, с какой она погрузилась в омут под названием Донасьен Альфонс Франсуа, она напоминала его бывшую супругу. Но в отличие от Рене-Пелажи Констанс была самостоятельной, имела множество знакомых в самых разных кругах и в любую минуту могла расстаться с маркизом, ибо никакие иные интересы, кроме нежной привязанности, их не связывали. Наверное, Рене-Пелажи недоставало именно самостоятельности, де Сад действовал на нее словно удав на кролика и безнаказанно этим пользовался. А когда у него бывал очередной приступ дурного настроения, жена наверняка напоминала ему тещу, и всю свою ненависть к Председательше он обрушивал на беззащитную Рене-Пелажи. В отношениях с Констанс де Сад, скорее всего, старался сдерживаться, понимая, что в любую минуту она может его покинуть, а он не сумеет найти ей замену. Несмотря на внутренний «изолизм», он привык, что рядом всегда есть кто-то, готовый в любую минуту подставить свое плечо под груз его проблем. Во время Террора Констанс без преувеличения спасла Донасьена Альфонса Франсуа, сумев перевести его из тюрьмы в пансион Куаньяра, и де Сад был ей за это благодарен. Точно никто не знает, как она сумела раздобыть денег на подкуп нужных людей в Конвенте и трибунале, какие гарантии предоставила заимодавцам и не пришлось ли ей расплачиваться также и вполне определенного рода услугами. Союз де Сада и Чувствительной, милой, но не слишком образованной, многим напоминал союз Жан-Жака Руссо с его подругой Терезой Левассер. Но в отличие от Руссо, который заставлял Терезу рожденных от него детей отдавать в воспитательный дом, де Сад поселил у себя шестилетнего Шарля, сына Констанс, и время от времени не без удовольствия занимался его воспитанием, внушая мальчику почтение к матери.
Осенью 1790 года де Сад снял маленький дом на улице Нев-де-Матюрен, куда вскоре к нему переехала Констанс. Рядом проходила модная улица Шоссе д'Антен, на которой проживали крупные финансисты, содержанки, бывшие министры, а также давний недруг – Мирабо. Соседство с де Садом вряд ли произвело впечатление на Мирабо, скорее всего, он даже не знал об этом, так как с головой ушел в политическую борьбу. Но де Сад, узнав о своем соседе, пережил немало неприятных минут. Впрочем, вскоре на него обрушилась новая напасть: отправленные из Ла-Коста для нового жилища мебель, утварь и книги прибыли в Париж в ужасном виде: поломанными, разбитыми, залитыми чернилами и вареньем. «Дорогой адвокат» Гофриди сложил все заказанные ему предметы в один ящик. К таким неприятностям де Сад относился философски. Другое дело, когда пропадали рукописи. «Можно отыскать кровати, шкафы, столы, но нельзя отыскать утраченные идеи», – писал он Гофриди. К каждой бумажке, испещренной темной вязью строк, он относился поистине благоговейно. Недаром он, невзирая на четыре поколения благородных предков, с легкостью отрекся и от титула, и от дворянских корней, заменив их скромным званием «литератор».
Не все так легко расставались со своим дворянским прошлым. После взятия Бастилии началась первая волна эмиграции. Бывший жених Анн-Проспер де Лонэ, Антуан Франсуа де Бомон, прежде чем уехать, письменно выразил свое несогласие с лишением его «благородства, присущего французскому рыцарю». Никто не вправе отменять «единожды приобретенное благодаря добродетелям дворянское звание», – писал он.
Господин литератор был готов доказать, что не зря присвоил себе новый титул. И хотя в его портфеле были и повести, и огромный философский роман, уповал он в основном на пьесы, ожидая от них не только славы, но и денег. Театр еще до революции «покончил с аристократами» в монологе Фигаро из комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1778). «Вы дали себе труд родиться, только и всего!» – говорил Фигаро своему господину графу Альмавиве, выражая требование третьего сословия уравнять его в правах с дворянством. Знаменитая фраза Людовика XVI о том, что поставить эту пьесу означает разрушить Бастилию, оказалась пророческой. Не разглядев разрушительной силы «Безумного дня», Мария-Антуанетта поставила комедию у себя в любительском театре, Бастилия была разрушена, над ее руинами взвился лозунг «Свобода, равенство, братство», театр вошел в моду и очень быстро начал политизироваться. Охватившая всех жажда обновления порождала заказные пьесы-однодневки, дышащие революционным энтузиазмом, их ставили во время празднеств, а для празднеств использовали любой повод: возвращение Неккера, создание Национальной гвардии, освящение знамен новых батальонов. Парижане проводили время на улицах, уличная жизнь требовала зрелищ, и любая церемония превращалась в театральное действо. Устное слово восторжествовало над словом печатным. Утром народ слушал речи ораторов, в обед читал газеты, где были напечатаны те же самые речи, а вечером отправлялся в театр, где смотрел пьесы, «способствовавшие формированию правильного мировоззрения граждан».
Если при Старом порядке театральных залов в Париже было чуть больше десятка, то после закона от 13 января 1791 года, согласно которому любой гражданин был вправе открыть свой театр, они стали расти как грибы. Привилегированный театр «Комеди Франсез» распался на две труппы – роялистский Театр Наций и республиканский Театр Республики. В начале революции репертуар тяготел к классицистической трагедии: ставили Корнеля, Расина, Вольтера, трагедии революционного классицизма Мари-Жозефа Шенье («Карл IX», «Кай Гракх»), Антуана Арно («Лукреция»), Шарля Ронсена («Людовик XII»). Конфликты носили мировоззренческий характер: против деспотов, чье время ушло, действовали герои, наделенные гражданскими доблестями и выступавшие за интересы всего народа, такие как Спартак, Вильгельм Телль, народный трибун Гракх. Большим успехом пользовались комедии «реального факта», в которых перевоспитывались аристократы или побеждали герои из третьего сословия. С приходом к власти якобинцев на первый план выступили постановки, разоблачавшие тиранов (Сильвен Марешаль. «Страшный суд над королями», 1793), и так называемые «пьесы большого зрелища», когда на сцену выводились целые армии, гремели взрывы и захватывались дворцы. Пьесы эти строились непременно на борьбе идей, главным героем был выходец из народа, побеждавший с помощью и при поддержке народа. Кое-где, как, например, в пьесе «Преступления дворянства» (май 1794), принадлежавшей перу успешной в то время сочинительницы гражданки Вильнёв, появляются детали, имеющиеся и в сочинениях литератора Сада. Так, в «Преступлениях дворянства» возникли элементы «черного» романа: злобный аристократ де Форсак запирает в мрачном подвале свою дочь и ее возлюбленного, крестьянина Анри, чтобы влюбленные умерли в муках голода. Но штрихи эти терялись среди сцен борьбы крестьян против жестокого аристократа. Де Сад наверняка мог бы ставить такие масштабные действа, но вот сочинять…
«Я совершенно не могу сопротивляться своему призванию; меня неумолимо притягивает театральное поприще, и что бы ни произошло, я не смогу от него отказаться», – писал де Сад о своем пристрастии к театру, естественно, предполагая, что он будет сочинять пьесы, а театр их ставить, ибо отдельной должности режиссера-постановщика в те времена не существовало. А так как драматургом он оказался слабым, то судьба, желая вознаградить маркиза за многие несправедливости, позволила ему во второй половине жизни создать в шарантонской лечебнице для душевнобольных свой собственный театр, на представления которого съезжался весь Париж. И хотя утверждали, что зрителям было любопытно взглянуть на «сумасшедших на сцене», нам кажется, что ездили смотреть именно постановки блестящего режиссера де Сада.
Пьесы, созданные де Садом незадолго до революции и извлеченные им из «Портфеля литератора», не могли конкурировать ни с сочинениями великих классицистов (автор не умел прославлять добродетель), ни с современными пьесами – автору был чужд идеологический подход к героям и пафосное восхваление достижений революции. О месте и роли пьес в творчестве де Сада много спорят, но в одном едины все: пьесы маркиза слабее его романов и рассказов. Автор разрывался между своим «образом мыслей» и необходимостью явить зрителю торжество добродетели, так как на сцену допускались только высоконравственные произведения. А писать о добродетели с энтузиазмом и подъемом, как требовали веяния времени, де Сад не мог, точнее, мог, но только когда речь шла о поругании оной добродетели. Если судить по сложным постановочным сценам в его романах, которые вполне можно представить как длинную череду живых картин, прокомментированных устроившимся в уголке дивана философом, де Сад был превосходным режиссером и сценографом, но отнюдь не мастером выстраивания сложной интриги – таковой нет ни в его пьесах, ни в романах. А сюжеты повестей в подавляющем большинстве заимствованы из разных источников. Мечтая увидеть свои пьесы на сцене, де Сад не мог писать их тем же дискурсивным языком, что и «ужасные» романы, не мог открыто проповедовать зло. Но он не мог и создавать живые характеры, не умел убеждать зрителя в том, во что не верил сам, и в результате получались банальные комедии положений и искусственные драматические конфликты. Театр де Сада не давал зрителю ни реальных сцен жизни, ни новых идей, ни новых героев, ни востребованных временем тем и сюжетов.