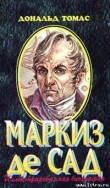Текст книги "Маркиз де Сад"
Автор книги: Елена Морозова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Единственной пьесой, увидевшей сцену, стала сделанная в 1791 году переработка «Эрнестины», одной из лучших повестей сборника «Преступления любви». В повести граф Окстьерн, негодяй и либертен, обманом увозит юную Эрнести-ну в свой дом и возле окна, за которым на площади совершается казнь Германа, возлюбленного девушки, овладевает ею. Отец девушки вызывает графа на дуэль, но в результате его козней вступает в поединок с дочерью и убивает ее. В пьесе «Окстьерн, или Несчастья либертинажа» граф, коварно овладевший девушкой и посадивший в тюрьму ее жениха Германа, везет Эрнестину к себе в замок, обещая жениться на ней. На самом же деле он намеревается развратить ее, а потом бросить. В хозяине гостиницы проснулось чувство справедливости, он помчался в Стокгольм, нашел отца девушки, освободил Германа, и все стремительно отправились в гостиницу, где еще пребывали граф и Эрнестина. Отец Эрнестины вызвал на дуэль Окстьерна, но коварный граф вновь обманул его, и он вступил в поединок с дочерью. Окстьерн был вынужден выйти на поединок с Германом, и Герман убил графа и спас Эрнестину. Либертен наказан, добродетель отомщена. Но для успеха на сцене революционного Парижа этого явно было мало. 25 июля 1791 года Мирамон, директор театра «Фейдо», написал «гражданину литератору», что поставить его пьесу он не может, потому что «стиль плох» (на полях де Сад пометил: «Это неправда!»), и перечислил неувязки сюжета (трактирщик не мог за один день съездить в Стокгольм, отыскать там отца Эрнестины и вернуться обратно; не мог уладить дела и освободить Германа, посаженного в тюрьму влиятельным графом; юная Эрнестина во время поединка не могла долго сопротивляться своему отцу, опытному фехтовальщику… и так далее).
В театре «Фейдо» отвергли и пьесу «Будуар, или Легковерный муж» (около 1788) – о ревнивом муже, подслушивающем под дверью будуара супруги. Узнав об этом, супруга и ее возлюбленный начинают вести ученые беседы. Муж успокаивается: столь мудрый разговор могут поддерживать только философы. По словам Мирамона, театр «аплодировал элегантной легкости стиля», но пьесу принять не смог, ибо она «полностью противоречит правилам благопристойности, равно как и все характеры непременно вызовут тревогу у друзей добронравия».
Тем не менее драматург и моралист Сад нашел своего постановщика: драма «Окстьерн, или Несчастья либертинажа» была поставлена 21 октября 1791 года в театре Мольера. Зал вел себя, по словам де Сада, «весьма сдержанно», а на следующий день в отчете о спектакле было написано: «Пьеса отличается живостью и пробуждает интерес, однако образ Окстьерна возмутительно жесток». Второй спектакль актерам до конца доиграть не удалось, потому что часть зрителей потребовала прекратить представление. Третий – и последний – раз «Окстьерн» был сыгран 3 декабря 1799 года труппой любительского театра в Версале.
В 1792 году Итальянский театр рискнул поставить пьесу «Соблазнитель», но революционно настроенная публика сорвала первое же ее представление. Де Сад решил, что пьесу провалили потому, что автор ее из «бывших», и, оскорбленный, в письме к Гофриди написал: «Я рожден, чтобы быть жертвой». Уверенный, что с ним обошлись несправедливо, де Сад возмущался совершенно искренне. Гнев его отчасти был справедлив: закон, согласно которому каждый театр три раза в неделю обязан был играть патриотические пьесы, причем один раз бесплатно – для народа, был принят только в августе 1793 года. Тогда же директоров театров под угрозой ареста призвали убрать из репертуара пьесы, извращавшие патриотический дух и напоминавшие о постыдном старом режиме. А у де Сада все пьесы были старорежимные. И все же автор не оставлял надежды увидеть свои детища на сцене: пытался подкупить актеров, отказывался от своей доли сборов, предлагал провинциальным театрам пьесы «оптом», был готов сам их ставить. Огромные надежды он возлагал на патриотическую пьесу «Жанна Лене, или Осада Бовэ» (1783), основанную на историческом эпизоде снятия осады с города Бовэ в 1472 году, во время которого отличилась дочь градоправителя Жанна. Тяжеловесный александрийский стих, хромавшая интрига и вдобавок, похоже, плагиат (к тому времени осада Бовэ и ее героиня Жанна Лене были показаны на сцене уже в двух разных спектаклях) побудили актеров «Комеди Франсез», куда была отдана драма, решительно ее отвергнуть. Но так как пьеса попала в театр по протекции, формулировку отказа смягчили и написали «отправить на доработку». Впрочем, метания по театрам с пачкой пьес под мышкой имели и кое-какую положительную сторону: если пьесу принимали к рассмотрению, автору обычно предоставляли право бесплатно посещать театр довольно долгое время. Так, в «Комеди Франсез» Донасьен Альфонс Франсуа ходил бесплатно целых пять лет.
В уличных манифестациях 1789 года зарождались новые национальные праздники, первым из которых стал день 14 июля. В 1790 году его отметили как праздник Федерации, ставший, по свидетельствам очевидцев, самым грандиозным революционным торжеством. Местом его проведения было избрано Марсово поле; в строительстве праздничных сооружений принимал участие весь Париж. Люди с заступами и лопатами, прихватив корзинки с едой, шли на Марсово поле как на трудовой пикник и под ритмичную мелодию куплетов «Са ira!», названных историком Жюлем Мишле «моральной опорой», бодро орудовали лопатами. В результате с двух сторон эспланады были сооружены трибуны со скамьями для зрителей, с третьей стороны – крытые трибуны для короля, офицеров и депутатов, с четвертой – триумфальная арка с тремя проемами. И при подготовке к празднеству, и во время его проведения в сердцах людей царила радость, пьянящее чувство свободы и единения нации, и даже дождь, разразившийся в самый разгар торжеств, не смог помешать их проведению. Посланцы провинций с песнями и танцами возлагали цветы на алтарь отечества, а зрители на трибунах, спрятавшись под зонтиками, радостно их приветствовали. Когда же выглянуло солнце, Талейран, епископ Отенский и депутат, отслужил торжественную мессу, а затем король, председатель Национального собрания и Лафайет принесли присягу на верность Федерации. Франция была провозглашена конституционной монархией. В этот день, наполненный патриотическим энтузиазмом, чувством единения нации со своим королем, де Сад тоже стоял на трибуне; всеобщее ликование охватило даже такого закоренелого индивидуалиста, как «божественный» маркиз. Правда, описывая свои впечатления от торжеств, де Сад не преминул пошутить: «Это зрелище описать в деталях невозможно, его надо видеть. Я находился на прекрасных местах, но тем не менее в продолжение шести часов дождь беспрестанно барабанил по моей спине. Это обстоятельство все омрачило, и многие заявляли, что таким образом Господь хотел сказать, что причисляет себя к аристократам». В первую годовщину революции подобные шутки еще сходили с рук, а перлюстрация писем еще не приняла массовый характер.
Зрелище гражданину Саду понравилось, и он почувствовал, что не прочь и сам принять участие в подобном спектакле. Следующей столь же торжественной церемонией, состоявшейся 4 апреля 1791 года, стали похороны Мирабо, «самые пышные и самые народные похороны, которые состоялись до перенесения праха Наполеона», как писал Мишле. Из писем де Сада к Гофриди известно, что маркиз присутствовал в рядах той молчаливой толпы людей со скорбными лицами, что выстроились вдоль улиц, по которым гроб с телом великого оратора несли в недавно построенную церковь святой Женевьевы, предназначенную теперь для упокоения праха великих людей. А когда на 11 июля 1791 года назначили перенесение в Пантеон праха великого Вольтера, де Сад, к тому времени вступивший в Общество драматических авторов, тотчас попросил включить его в состав депутации, которой, как было ему известно, предстояло следовать впереди траурного катафалка, то есть находиться в самом центре событий. Он даже пожелал произнести небольшую похвалу нации. Со стороны де Сада, недавно вышедшего на свободу, желание это достаточно дерзкое, ибо оратором он никогда не был, а во время долгого заключения все свои обвинения и слова в защиту излагал на бумаге. Впрочем, возможно, он и рассчитывал выступить по бумажке – как Робеспьер, который всегда зачитывал свои речи. Воздух свободы пьянил бывшего маркиза, и он вместе со всем народом не упускал ни единого повода выразить свои патриотические чувства и заодно подтвердить свою благонадежность. Создатель пока никому не известной содомской утопии, построенной на принципах паноптикума, всеобщей прозрачности, он, возможно, уже кожей ощущал, как власть с каждым днем стремилась сделать видимым каждого подчиненного ей гражданина, и, как мог, доказывал свою благонадежность, совершая общественно значимые поступки.
Одним из шагов по пути создания системы «видимости» граждан было деление Парижа на сорок восемь секций, декрет о котором был принят в мае 1790 года. Секция, иначе говоря, собрание активных граждан, осуществляла власть на местах: выдавала вид на жительство, свидетельства о благонадежности, делила граждан на пассивных и активных, определяла врагов нации, а во времена Террора выявляла неблагонадежных. В 1793 году в секциях были созданы местные революционные комитеты. Улица, на которой жил де Сад, входила в состав секции площади Вандом, впоследствии переименованной в секцию Пик. Это была одна из самых активных и революционно настроенных секций Парижа, членом которой был сам Робеспьер, проживавший на улице Сент-Оноре.
Де Сад и Робеспьер не могли не встретиться хотя бы на одном из заседаний секции, которые де Сад посещал регулярно. Бывшие воспитанники коллежа Людовика Великого вряд ли хоть раз перекинулись словом. Скорее всего, невысокий, худощавый и подчеркнуто аккуратный Робеспьер удостоил невысокого, толстого и не слишком аккуратного «бывшего» презрительным взором и отвернулся. Де Сад заметил его надменный взор, но у него хватило благоразумия промолчать. Многие современники выделяли надменность и желчность как основную черту характера вождя революции, надменность в полной мере была присуща и де Саду. При Старом порядке за подобный взор де Сад мог бы наброситься на адвоката с кулаками, но теперь постарался скрыться за спинами санкюлотов… А может быть, оба в тот раз были в зеленых очках, так как глаза из-за постоянного чтения и письма крайне уставали и у одного, и у другого?
Жюль Жанен, известный своим негативным отношением к де Саду, сравнил двух знаменитых членов секции Пик: «Коллеж Людовика Великого выпустил в жизнь своеобразных людей. Представьте себе, как в его просторном дворе, вокруг часовни, гулял маркиз де Сад, а спустя десять лет, другой молодой человек, скрестив на груди руки, прохаживался тут же, пугая соучеников своим исключительно мрачным видом. Юношу звали Максимилиан Робеспьер. Поистине, достойная парочка! Маркиз де Сад и Робеспьер! Первый в сочинениях своих придумал столько убийств, сколько совершил второй. Первый, у которого была страсть к крови и пороку, смог утолить только страсть к пороку; другой, у которого была одна страсть – кровь, удовлетворил ее досыта. Оба эти человека вознеслись из руин общества, и оба стали позором этого общества; первый явил собой позор столь отвратительный, что общество устами Бонапарта, возглавившего это общество, объявило его сумасшедшим; второй, напротив, явился позором столь ужасающим, что общество оказало ему честь, отправив его на эшафот. Так воздали по справедливости обоим: Робеспьер умер, как все честные люди, которых он убивал, маркиз де Сад умер среди тех несчастных сумасшедших, которых он создал».
В своих воспоминаниях некоторые современники, характеризуя Робеспьера, употребляли определение «infâme»[12]12
Отвратительный, гнусный, недостойный (фр.). «Ecrasons l’infâme» (раздавим гадину), – говорил Вольтер о нетерпимости и суеверии.
[Закрыть]. «Infâmes» называли непристойные романы и персонажей де Сада. «Смерть есть начало бессмертия», – говорил Робеспьер. «Смерть есть переход материи из одного состояния в другое», – писал де Сад. Де Сад всегда был противником смертной казни. Робеспьер в самом начале революции тоже предлагал отменить смертную казнь. Воинствующая добродетель Робеспьера стоила жизни ему самому и тысячам жертв принятых с его одобрения законов. Воинствующее стремление к злу бумажных либертенов де Сада стоило жизни тысячам бумажных жертв и заключения в сумасшедшем доме для их создателя. Де Сад ненавидел мадам де Монтрей за ее добродетели. Робеспьер ненавидел аристократов за развращенные нравы, за аморальность, несовместимую с добродетелью.
«Спасти отечество означает освободить его от смрадного дыхания либертинажа», – звучало с трибуны Конвента. Наверное, судьба специально свела в одной секции де Сада и Робеспьера, двух антиподов, рожденных философией эпохи Просвещения, чтобы показать, сколь глубоки и страшны могут быть бездны разума, если лишить его веры. Просветители сформировали культ разума, разум признал себя порождением природы, отбросил все лишнее, восторжествовал… и породил чудовищ. Если воспользоваться аналогией Александра Сергеевича Пушкина, назвавшего Робеспьера «сентиментальным тигром», де Сада можно назвать «кровожадным буйволом».
* * *
Луи Сад, как стал называть себя Донасьен Альфонс Франсуа, получил карточку «активного гражданина», так как обладал необходимым имущественным цензом. Не помешал даже неудачный на тот день выбор имени, которое после казни короля многие бросились менять на имена героев античности: Брутов, Гракхов, Сцевол. Бывший маркиз обрел право участвовать в выборах и быть избранным и начал вживаться в образ активного гражданина. Считаясь богатым, – а в то время каждый, кто имел доход свыше тысячи двухсот франков в год, считался богатыми, – он не уклонялся от налогов, и безропотно вносил все необходимые платежи, в том числе и в Провансе, куда по требованию местных комитетов он отправил шестьсот ливров на экипировку шестерых волонтеров. Он записался в Национальную гвардию, но, пока было возможно, в караулы не ходил, а вносил соответствующую сумму, чтобы за него это делали другие; но начиная с 1793 года отвертеться от личного участия в дозорах и патрулях стало невозможно.
Не намереваясь ввязываться в политическую борьбу, которая, очевидно, его не интересовала, он иногда посещал заседания как якобинского клуба, так и клуба друзей монархической конституции – для соблюдения политического равновесия. Несмотря на видимую легкость, с которой он отбросил свой титул и отрекся от дворянского происхождения, в душе он никогда не считал себя равным простолюдинам, даже тем, кому удалось многого добиться. В письме, написанном незадолго до революции, он называл таких «выскочек» «омерзительными и грязными жабами». Если судить по высказываниям де Сада, разбросанным по его письмам, его вполне устраивала ограниченная, или парламентская, монархия на английский манер. Возможно, поэтому, когда в июне 1791 года после неудачного бегства королевская семья была задержана в Варение и под конвоем доставлена обратно в Париж, де Сад, стоя в толпе, встречавшей короля угрюмым молчанием, неожиданно выскочил наперерез карете, бросил в окошко свернутое в трубочку послание и скрылся. Подобный поступок был вполне в духе эксцентричного маркиза, однако сомнительно, чтобы в его возрасте и с его комплекцией он сумел проделать его с надлежащей быстротой, дабы его не задержал конвой. Но «Обращение гражданина Парижа к королю французов» он действительно написал, а его верный издатель Жируар напечатал его. Было ли оно зачитано публично, как тогда читали воззвания, неизвестно, но документом, свидетельствовавшим о лояльности де Сада, служить могло вполне. Возможно, де Сад преследовал именно эту цель, возможно, хотел предостеречь короля от дальнейших ошибок, а возможно, пользуясь моментом, решил упрекнуть за его «письма с печатью», на основании которых он тринадцать лет просидел в заточении. А может, хотел разом убить всех зайцев. Укоряя короля за совершенные им ошибки, за «страдания бывших жертв» его деспотизма, «несчастных, которых одна только его подпись, плод заблуждения или наговоров, вырвала из лона льющей слезы семьи, дабы навеки швырнуть в казематы ужасных бастилий», де Сад, по примеру многих своих умеренных современников, основную вину сваливал на дурных советчиков – Марию-Антуанетту и нерадивых министров. «Сердце его полно исключительно добрых помыслов, злые помыслы – порождение его министров», – писал он о короле; но был ли он при этом искренен? «Воссоединитесь с нацией, верните супругу ее семье и научите ваших наследников уважать народ, которым они имеют честь править». Интересно, стал бы де Сад писать эту прокламацию, если бы чувствовал, что монархии скоро придет конец?
* * *
Неудачное бегство короля вызвало очередную волну эмиграции, на которую Законодательное собрание ответило рядом декретов, приравнявших эмиграцию к преступлению, а эмигрантов – к заговорщикам против государства. Вареннский кризис подтолкнул республикански настроенных граждан к действиям, и 17 июля 1791 года на Марсовом поле собралась огромная толпа, чтобы подписать петицию против монархии. Манифестация была мирной, но части Национальной гвардии под командованием Лафайета открыли огонь, люди разбежались, не обошлось без жертв. Несмотря на народное возмущение, депутаты пообещали наказать зачинщиков демонстрации, ибо они выступили против конституции. Но никакая конституция не могла поднять престиж власти короля, и в обществе после некоторого затишья вновь задули ветры, предвещавшие бурю.
Сыновья де Сада эмигрировали, но у бывшего маркиза даже мыслей подобных не возникало. Да и что бы он стал делать в эмиграции? Служить в армии он не мог по состоянию здоровья, имущества, которое можно было бы вывезти, у него не было, друзей, которые могли бы поддержать его за границей, – тоже. А здесь он был литератором, активным гражданином, у него была собственность, обустроенный быт, верная Констанс и издатель, всегда готовый напечатать любые его труды. А главное, он надеялся снискать славу на литературном поприще. За два года свободной жизни он сумел создать себе определенную социальную нишу, свой мирок, ограниченный тремя измерениями: письменный стол – секция – театрально-литературный мир Парижа. За письменным столом писались письма, шлифовались написанные ранее произведения, создавались новые фантазмы. В секции, большинство членов которой составляли мелкие рантье и ремесленники, то есть люди не бедные, грамотные, но не аристократы, де Сад чувствовал себя прекрасно; до революции в Провансе его круг общения также составляли люди из третьего сословия, и он привык находить с ними общий язык. Несмотря на неудачи с пристройством на сцену своих пьес, в театральных кругах он пользовался определенной известностью, равно как и среди издателей. Несомненно, де Сад тревожился о сохранности и доходности своих владений, но пока беды и разрушения обходили их стороной, и деньги из Прованса поступали более или менее исправно. Официально доход гражданина Сада равнялся восьми тысячам франков в год, то есть он считался сверхбогатым человеком. Но по бумагам гражданин Сад выплачивал четыре тысячи бывшей жене, тысячу – мадам Кене, да и рента поступала нерегулярно. Так что по подсчетам де Сада на жизнь оставалось не более тысячи франков в год. Поэтому он даже предпринял попытку получить от муниципалитетов Ла-Коста, Мазана и Сомана новую «справку о доходах», на основании которой он, видимо, хотел потребовать снижения налога. Гражданин Сад осваивался в новой жизни.
Тем временем над революционной Францией сгущались тучи интервенции: Австрия и Пруссия заключили против Франции военный союз и стягивали войска к ее границам.
Монархическая Европа приготовилась к наступлению. В апреле 1792 года Франция первой объявила войну, но, несмотря на патриотический энтузиазм масс, терпела одно поражение за другим. Руководители якобинцев Марат, Дантон и Робеспьер призывали народ к революционной войне, на декрет «Отечество в опасности» откликнулись санкюлоты, повсюду началось формирование отрядов волонтеров. Под звуки новой «Песни Рейнской армии», сочиненной саперным инженером Руже де Лилем, в Париж вступили отряды федератов из Марселя. Вскоре «Марсельеза», как стали называть принесенную в столицу песню, превратилась в боевой гимн всего французского народа, а в дальнейшем и в национальный гимн. Манифест герцога Брауншвейгского, в котором Пруссия и Австрия извещали о своих намерениях покончить с анархией во Франции, восстановить власть короля и покарать бунтовщиков, вызвал бурю негодования во всей стране, а комиссары парижских секций потребовали от Законодательного собрания немедленного низложения Людовика XVI и созыва национального Конвента. К такому повороту событий монархическое большинство депутатов не было готово, и народ стал готовиться к восстанию.
Ощущал ли де Сад приближение бури? Вряд ли, ведь его всегда интересовали только собственные дела. Во всяком случае, не обладая политической прозорливостью, он на всякий случай решил записаться в конституционную гвардию короля, полагая таким образом еще раз напомнить о своей верности конституции. Командовавший полком герцог де Косее-Бриссак в приеме в гвардию де Саду отказал, однако фамилию его из списка кандидатов не вычеркнул, что сыграло свою зловещую роль во время Террора и стало одной из причин ареста гражданина Сада. Ни разгон демонстрации на Марсовом поле, ни появление на улицах столицы грозных и исполненных революционного энтузиазма марсельских федератов впечатления на Донасьена Альфонса Франсуа не произвели.
Он почувствовал приближение восстания непосредственно накануне, так как подготовка к нему шла в парижских секциях совершенно открыто. В то время в собраниях секций принимали участие как «активные», так и «пассивные» граждане, и по причине изрядной толкотни де Сад решил на эти собрания не ходить, посчитав, что его отсутствия никто не заметит. Но набат, ударивший около полуночи в предместье Сент-Антуан, не мог остаться неуслышанным. И пока в ратуше новая Коммуна устанавливала власть секционных комиссаров и назначала нового командующего национальной гвардией (им стал Сантерр), гражданин литератор внимал набату и перед его глазами разворачивались картины Варфоломеевской ночи. Разумеется, это всего лишь предположения…
В те дни секция площади Вандом еще не входила в число самых революционных секций Парижа, число «пассивных» граждан и люмпенов в ней было невелико, тем не менее и ее граждане отправились к мосту Сен-Мишель и к Новому мосту, откуда на Тюильри двинулся батальон марсельцев под командованием Муассона и повстанцы из секций. На площади Карусель, перед воротами дворца Тюильри, были установлены пушки. Понимая, что швейцарские гвардейцы и жандармы вряд ли будут в состоянии защитить короля от народного гнева, прокурор Редерер уговорил Людовика XVI вместе с семьей отправиться в Законодательное собрание. Желая спасти свою верную гвардию, король отдал приказ сложить оружие, но в неразберихе приказ то ли вовсе не дошел до швейцарцев, то ли дошел слишком поздно, но в результате швейцарские гвардейцы оказались единственными солдатами, до последнего защищавшими Тюильри. Но силы были неравные, вдобавок жандармы в основном перешли на сторону восставшего народа, и дворец был взят штурмом. Часть швейцарцев, видя, что сражение проиграно, попыталась отступить, но парижане не позволили уйти защитникам монархии и убивали их прямо на улицах. Дворец был варварски разграблен, уничтожены запасы вин, хранившихся в дворцовых погребах, а королевские лакеи, не покинувшие дворец, были убиты – под горячую руку. Как писали очевидцы, к вечеру 10 августа сад Тюильри напоминал заснеженное пожарище: на земле лежали трупы вперемежку с обломками мебели и прочей утвари, покрытые, словно снегом, перьями из распоротых подушек и перин. Через много лет в Люцерне был поставлен памятник солдатам швейцарской королевской гвардии, защищавшим последнего французского короля.
10 августа жертвой озлобленной толпы пал родственник де Сада Станислас Клермон-Тоннер, сторонник конституционной монархии, друг Лафайета, выступавший в своих речах против Марата и Робеспьера. Толпа вытащила его из дома, обвинила в предательстве интересов нации, а при попытке оправдаться буквально разорвала на куски. Впоследствии, оправдываясь перед революционным трибуналом, де Сад заявил, что 10 августа он с другом был на площади Карусель. Но в тот день де Сад вполне мог отправиться к Клермон-Тоннеру за политическими новостями и собственными глазами увидеть страшную смерть неугодного толпе политика.
Но даже если он и не видел гибели супруга несчастной Дельфины, на площади Вандом его ожидало не менее впечатляющее зрелище: у подножия статуи Людовика XIV работы Жирардона лежали головы роялистов, казненных секцией Фельянов. Одна из десяти голов, как говорят, принадлежала журналисту Сюло. А весь следующий день все, кто хотел, могли видеть посередине двора Тюильри сваленные в кучу обнаженные и изуродованные тела ста восьмидесяти швейцарцев. Спустя много лет де Сад сравнил эти трагические события с ночью святого Варфоломея: «На следующий день после Варфоломеевской ночи придворные дамы Екатерины Медичи вышли из Лувра, дабы поглазеть на обнаженные тела гугенотов, убитых, раздетых и сваленных к стенам замка…» 16 августа 1792 года на площади Вандом сбросили с пьедестала статую короля и на ее место водрузили статую Свободы. Падение королевской статуи стоило жизни одному человеку.
* * *
Кажется, только после 10 августа Донасьен Альфонс Франсуа осознал, в какую страшную ловушку он попал: аристократ, дети в эмиграции, и вдобавок он приобрел печальную известность как автор «Злоключений добродетели». Не говоря уже о его посещениях политического клуба, основанного Клермон-Тоннером и его единомышленниками. Тем временем Законодательное собрание под давлением Коммуны приняло декрет об отрешении короля от власти и о созыве национального Конвента. По настоянию той же Коммуны, ставшей подлинным органом власти восставшего народа, избирательное право было предоставлено всем гражданам мужского пола, достигшим двадцати одного года. Король был заключен в замок Тампль, родственникам эмигрантов было запрещено покидать места своего жительства, а местным властям предписано взять их под особый контроль. Не-присягнувшим священникам велено в течение двух недель покинуть Францию, заставы Парижа закрыли, установили строгий контроль за выдачей паспортов, закрыли роялистские газеты… В департаменте Буш-дю-Рон, на территории которого располагался Ла-Кост, собрали пятьсот неприсяг-нувших священников, посадили на тартану «Святая Елизавета» и отправили в Италию, в Рим. Революция, прежде являвшаяся де Саду в облике прекрасной Теруань, теперь обратила к нему жестокий лик медузы-горгоны. В письме к Гофриди Сад писал: «День десятого августа отнял у меня все: родных, друзей, покровительство, помощь; за три часа вокруг меня возникла пустыня. Я один!»
Обстановка в Париже накалялась. Ходили слухи о заговорах аристократов, цель которых – освободить короля и восстановить монархию. Для суда над заговорщиками, роялистами и сторонниками ограниченной монархии, был учрежден Чрезвычайный трибунал. Обыски, проводимые в домах аристократов, обнаруживали все новых шпионов, сотрудничавших с врагами нации. Австро-прусские войска перешли границу Франции, и скоро возникла реальная угроза увидеть врага под стенами Парижа. Из провинции в Париж тянулись священники, надеясь найти в столице защиту от произвола местных комитетов.
Первые дни наступившего сентября были исполнены тревоги: враг у ворот, аристократы устроили заговор, а Дантон призвал граждан, вооружившись отвагой, бесстрашно идти в бой. Тревога, страх, накал страстей, отсутствие реальной власти у Собрания и попустительство Коммуны стали причиной убийств узников тюрем сначала в Париже, а затем и по всей Франции. Набат, призывавший граждан встать на защиту отечества, был воспринят как сигнал к «народной мести», и толпы санкюлотов двинулись взламывать двери тюрем и убивать заключенных. Воцарилось поистине «салическое» безумие, но жертвы его были уже не выдуманными персонажами. В тюрьме Форс выпустили заключенных проституток, и тут же, во дворе, вынудили их заняться своим привычным делом. Остальных женщин безжалостно зарубили саблями, в том числе и свирепую вдову отравителя Дарю, красавицу, мечтавшую сжечь Париж.
Воры и разбойники искали в тюрьмах «своих» и отпускали их на свободу. Но уголовников в то время в заключении было немного: большинство из них выпустили в августе, чтобы освободить место для аристократов и священников. Санкюлоты зверски расправились с принцессой де Ламбаль, подругой Марии-Антуанетты. Над ней надругались, а потом отрубили голову и, насадив на пику, отправились к Тамплю, где долго расхаживали под окнами королевы, предупреждая «австриячку», что и ей не миновать этой же участи. В тюрьме аббатства убийствам попытались придать форму законности – в списках против имен заключенных делали пометы: «казнен по приговору народа» или: «осужден народом, казнен на месте». К тюрьмам поспешили депутаты, пытались уговорить народ разойтись, но, получив в ответ угрозы, отступили. Никто из вождей революции не сделал попытки остановить кровавое безумие: его считали справедливой народной местью. Со 2 по 6 сентября в Париже было убито около тысячи трехсот человек. Примерно столько же узников толпа, состоявшая из ремесленников, мелких торговцев, военных и жандармов, решила пощадить.
Конституционный епископ аббат Грегуар назвал историю королей мартирологом наций; в мартиролог жертв революции, открытый именем коменданта Бастилии, сентябрь 1792 года вписал сотни новых имен. Об этих днях де Сад писал Гофриди: «3 сентября погибли десять тысяч узников. Ничто не может сравниться с ужасом сей резни». Де Сад всегда был склонен преувеличивать, но в данном случае наверняка преувеличил совершенно искренне. Трагический и одновременно героический сентябрь 1792 года явился едва ли не самым насыщенным временем революции. 20 сентября в битве при Вальми революционная армия одержала первую победу над войсками европейской коалиции. 21 сентября открылось первое заседание вновь избранного Конвента. 22 сентября Франция была провозглашена республикой. Одним из вновь созданных органов управления новой республикой стал Комитет общественной безопасности, в задачу которого входила борьба с внутренней контрреволюцией.
9 сентября секция площади Вандом была переименована в секцию Пик, а пика, как известно, являлась символом санкюлота. Секция, прежде бывшая вполне умеренной, быстро попала под влияние радикально настроенных люмпенов и стала одним из форпостов борьбы с проклятым прошлым. Пережив страшные дни сентябрьской резни и с горечью сообщив Гофриди о гибели всеми уважаемого епископа Арльского, де Сад осознал, что, в сущности, в глазах ярых санкюлотов он сам принадлежит прошлому и в любой момент может стать жертвой «справедливого народного гнева». Живо ощутив нависшую над ним смертельную угрозу, де Сад пошел по единственно возможному для него пути – поставил свое перо на службу секции. Сочинять пьесы на злобу дня он не умел, писать памфлеты против заключенных в тюрьму короля и королевы вряд ли считал для себя возможным, а изливать желчь в опусах вроде «Список монашек и ханжей, высеченных торговками разных кварталов Парижа, с обозначением их имен и приходов» или «Розовый список», где рядом с именами парижских публичных женщин указывали их адреса и стоимости услуг, ему, пожалуй, в голову не приходило. Оставались политические сочинения, в которых за выспренней революционной риторикой можно было спрятать свое истинное лицо. Опасаясь обвинений в роялизме, а значит – в предательстве интересов народа, Сад стал напоминать всем и вся о своем заключении в Бастилии. Громко именуя себя жертвой «тирана», он постоянно задавал себе вопрос: почему освободившая его революция не хочет позволить ему самому свободно устраивать собственную жизнь, а, наоборот, подчиняет его своему контролю и уравнивает с санкюлотом, готовым рубить головы ради установления царства морали и добродетели?