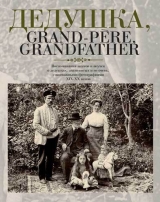
Текст книги "Дедушка, Grand-pere, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков"
Автор книги: Елена Лаврентьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Елена Владимировна Лаврентьева
Дедушка, Grand-père, Grandfather…
Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX–XX веков
Предисловие
«…И эту божественную радость никто не отнимет»
Честно говоря, идея этой книги принадлежит не мне, а издательству «Этерна», воодушевленному успехом книги «Бабушка, Grand-mère, Grandmother…». По сей день в редакцию издательства звонят благодарные читатели с вопросом: «А будет ли книга про дедушек?»
Собрать интересные воспоминания и материалы о дедушках оказалось не так просто. У многих моих друзей и знакомых дедушки были убиты на полях сражений, другие погибли в сталинских застенках. И тем не менее…

Из коллекции В. О. Штульмана
Моя замечательная приятельница Светлана Андреевна Долгополова, проработавшая двадцать семь лет главным хранителем в музее-усадьбе Мураново, называет это явление «профессиональной благодатью». Лучше не скажешь! Действительно, стоит только погрузиться в какую-то тему – как на тебя, будто из рога изобилия, начинают сыпаться необходимые знания, нужные книги, интересные собеседники, невероятные факты, совпадения, маршруты…
Так случилось со мной и в этот раз. Благодарю всех, кто откликнулся, кто согласился поделиться сокровенным, кто предоставил семейные архивы и альбомы, кто познакомил меня с внуками, достойными памяти своих дедов!
О моем дедушке я расскажу ниже, а сейчас приведу письмо неизвестного деда к внучке, датированное 1916 г., которое я когда-то нашла на блошином рынке в Измайлове:
«Уважаемая раба Божия Татьяна! Поздравляю тебя с днем Ангела. Желаю от Господа Бога здоровья и благополучия на многие годы сей жизни: с тем чтобы, проводя настоящую жизнь в бушующем море всевозможных скорбей и печалей, в волнах его, с Божию помощию, в терпении и смирении плыть к тихой пристани и, дай Бог, доплыть по его мудрому промыслу до момента определенного срока и возрадоваться великою радостию, где уже не будет печалей, скорбей и горьких воздыханий, по слову Господа нашего Иисуса Христа, а будет жизнь вечная, блаженная, радостная, и эту божественную радость никто не отнимет. Прославляй Творца день и ночь вовек!
Твой дед. 1916 г.»
Пусть и у нас, на земле, никто не отнимет «эту божественная радость» – память сердца!
Елена Лаврентьева
Андрей Зенков
Человек, остановивший мгновения
Как прекрасно, когда маленький ребенок тянет за палец седоволосого старца и пищит: «Деда, дед!..» В этой умилительной сцене весь смысл жизни, говорим мы, тут и преемственность поколений, и передача опыта, и семейная идиллия…
И как страшно, когда понимаешь: это покрытое морщинами лицо когда-то было (и до сих пор осталось) лицом такого же ребенка, только время исказило его черты! Господи, шепчем мы, не дай мне дожить до глубокой и беспомощной старости! Когда краски жизни тускнеют, душевные порывы уступают место примитивным физиологическим потребностям и на смену острому интересу к миру приходит тупое равнодушие.
Счастлив тот, кто вопреки этой жестокой логике сохранил вкус к жизни, не замутненное грузом лет восприятие действительности! Кто на склоне лет не согнулся, не стал в душе стариком,но и не впал в детство, а остался мужчиной.
Таким был мой деда Вася, один из основателей нового направления в фотографии – художественного фотопортрета, – профессиональный фотограф Василий Алексеевич Малышев.

Василий Алексеевич Малышев
Хорошая квартира
Мир деда Васи в моих глазах был миром «техногенного будущего». Учась в пятом классе, я еще не знал точно, что такое «техногенное будущее», но, входя в огромную (по меркам стандартных «хрущоб») квартиру на Кутузовском проспекте, понимал – это оно и есть! Треноги, высотой в полтора человеческих роста, с выдвигающимися рукоятками, какими-то поворотными кругами и механизмами для присоединения камер. Мощные штативы и софиты, огромные стеллажи с книгами и еще более огромные экраны для постановочно го света. Немыслимые фотоаппараты, в которые надо смотреть сверху, в раскрывающиеся металлическими лепестками окошечки. Невероятные по мощности осветительные приборы-«вспышки» в виде метровых сачков для ловли бабочек. Только «сачки» эти были весом в полкило и по часу заряжались электричеством, стоя на особых подставках… Все это заполняло квартиру в буквальном смысле от пола до потолка. Однажды я улучил момент, когда деда не было в комнате, снял лампу и нажал на красную кнопку на рукоятке. Убийственная белая вспышка саданула в стоявшее напротив зеркало и отраженным светом ударила меня по глазам. Я ослеп. Не более чем на полминуты, но это навсегда отучило меня нажимать без надобности на красные кнопки и вообще запускать незнакомые механизмы.
В те годы фотография была еще пленочная, в студиях не хватало места, и картины(так все называли фотоработы деда) тоже висели и стояли тут же, вдоль стен, пестрым цветным ковром, заменяя обои. Некоторые из них достигали двух-трех квадратных метров, другие были совсем маленькими. И все – исключительно портреты. Ни одного пейзажа или жанровой сцены. Только люди. Их внимательные, строгие, лукавые глаза сопровождали меня повсюду, от них некуда было скрыться, и, насколько помню, именно им я обязан тем, что, гостя у деда, избавился от дурной привычки ковыряния в носу. Молодые и старые, улыбающиеся и сосредоточенные, в деловых костюмах и спортивной форме, в бальных платьях и рабочих спецовках, мужчины, женщины, дети… На одной стене висела фотография, на которую я при взрослых изо всех сил старался не смотреть, но изучил до мельчайших подробностей. Обнаженная девушка кокетливо покусывает тонкий указательный палец правой руки, левая заведена за спину. Смешение розовых тонов на бледно-лимонном фоне создавало, как я понял десятилетия спустя, ощущение свежести, чистоты, даже какой-то детскости. Особенно красноватая «гармошка» следа от трусиков чуть пониже пупка… Напомню, тогда, в начале 1970-х, в стране не только «не было секса» или эротики, но сама постановка вопроса таила угрозу карьерных неприятностей. Ни на одной выставке, ни в одном альбоме эта картина, само собой, никогда не появлялась. Но дом деда был его крепостью, точнее, его фотостудией, где он, подобно булгаковскому Филиппу Филипповичу, мог делать все, что ему заблагорассудится.
Как известно, советская власть не признавала авторитета денег. Когда в середине 1970-х годов во время очередного визита в Москву президент Финляндии Урхо Кекконен захотел приобрести понравившуюся ему картину деда «Москвичка» (цветную фотографию лаборантки Марины Пахоменко) за 1000 долларов – руководство АПН просто подарило ему эту работу, даже не поставив в известность самого автора.

Галина Уланова, 1955
Но авторитет блатабыл общепризнан. Применительно к творческим людям это можно назвать мягче – авторитетом связей, знакомств. За шесть с лишним десятилетий активной работы фотожурналистом и фотопортретистом дед снял многие сотни известнейших людей, десятки знаменитостей: Алексей Толстой и Надежда Обухова, Галина Уланова и Петр Капица, Викентий Вересаев и Георгий Жуков, Юрий Гагарин и патриарх Пимен, Фидель Кастро и Гарри Каспаров… Я беру имена из каталогов выставок, наугад, и список стремительно разрастается: политики и художники, военные и артисты, жены министров и дети членов политбюро… При этом большинство из них снимались тут же, в квартире-студии, где дед жил со второй женой, молодой певицей театра Станиславского Людмилой Бондаренко. Видели там прекрасный творческий беспорядок, так мало вяжущийся с растиражированным обликом советского журналиста, и воспринимали его «с пониманием». (Была у деда еще и коллекция импортных винных бутылок, и коллекция музыкальных брелков, и два говорящих попугая, и английский сеттер, и сотни памятных подарков от зарубежных друзей и коллег, а после очередного юбилея в квартире установилось правило: любой вошедший мог взять фломастер и на свободном клочке обоев написать приветственную реплику или эпиграмму хозяину.)
Но дед не злоупотреблял личными знакомствами в корыстных интересах. Насколько я знаю, «высокими» связями он по-настоящему воспользовался лишь дважды. В первый раз, когда пришлось придумать правильныйпредлог, чтобы НЕ вступить в партию (и при этом остаться выездным и вообще не вылететь с работы). Во второй – когда надо было отмазать меня от почетной обязанности после окончания Пединститута выполнять воинский офицерский долг, в то время как мать с отцом лежали в больнице и мне приходилось их навещать. Не знаю, кто из генералов и маршалов на какие рычаги нажимал и какие телефонные «вертушки» напрягал, но я – единственный со всего потока – так и не отслужил в рядах СА, а дед – единственный из штатных сотрудников АПН – так и не стал коммунистом. Впрочем, был еще один комичный случай, который мы шутя называли «непреднамеренным использованием говорящей фамилии в дорожно-транспортном происшествии».

Патриарх Пимен, 1980
Однажды, еще в 1950-х, дед возвращался со съемок поздно вечером, усталый и голодный. И где-то в Центре по ошибке свернул на улицу с односторонним движением. Его остановил сотрудник ГАИ (судя по всему, такой же усталый и голодный) и злобно предупредил, что сейчас заберет права. Но тут – по словам деда – произошло чудо. Гаишник взглянул на предъявленный документ Малышева В. А. и, взяв под козырек, отчеканил:
– Не извольте беспокоиться… проезжайте!
«Неужели я стал настолько знаменит? – думал дед, торопливо выворачивая на правильную дорогу. – Вот так загадка…»
Пару дней спустя ее разгадали дошлые журналисты АПН, выяснив, что на этой злополучной улочке жил в своей казенной квартире тогдашний зам. пред. Совмина Малышев Вячеслав Александрович.
– Вам, Василий Алексеевич, повезло, что на «корочке» имя и отчество значатся лишь первыми буквами, – улыбались коллеги, – теперь при встрече с милицией старайтесь ее пореже раскрывать…
Сначала снимать, потом – стрелять
Между тем в жизни деда Васи бывали моменты, когда проверка документов могла закончиться лишением не автомобильных прав, а самой жизни.
Например, когда в страшной неразберихе Гражданской войны восемнадцатилетний Вася Малышев в составе 1-го артиллерийского дивизиона сражался на Южном фронте с войсками генерала Деникина. На Дону брали верх то белые, то красные. Железнодорожные станции, села, хутора то и дело переходили из рук в руки. Это только в кино у всех красноармейцев на головах буденовки, а у всех белогвардейцев на плечах – золотые погоны. Чтоб зритель различал. Тогда, в 1918-м, отличить «своего» от «чужого» удавалось не сразу, порой лишь по реакции на проверку документов. Наслушавшись дедовских рассказов, я представлял себе это примерно так: двое в пыльных картузах (ватниках) идут по дороге, на степном перекрестке их останавливают двое в таких же запыленных картузах (ватниках) и спрашивают документы. А дальше – либо объятия («Ты как сам, браток?!»), либо – кто первый сдернет с плеча ружье…
Или четверть века спустя, когда военный корреспондент Фотохроники ТАСС Василий Малышев вместе с наступающими частями 3-го Украинского фронта участвовал в освобождении Одессы. Стратегически важный пригород Пересыпь, известный как «ключ к Одессе», стал местом ожесточенных сражений. Получив задание подготовить очередной фотоматериал, Василий Малышев и его тезка и коллега Василий Иванов так увлеклись, что в какой-то момент опередили основные подразделения и оказались в цепи штурмового отряда, атакующего Пересыпь.

В. А. Малышев, 1943
– Десантнику проще, – шутил дед, вспоминая тот эпизод. – У него в руках только автомат. И он знает, что стрелять из этого автомата – его работа. А когда мы с Васей выскочили из машины и побежали вместе с десантом, у нас кроме автоматов в руках были «лейки» (фотокамеры). Можно сказать и иначе: кромефотокамер были ещеи автоматы. И в чем заключалась наша работа, мы знали совершенно четко: сначала снимать, а потом – стрелять. И снимали, хотя пули ложились и под ноги, и свистели над ухом, и больше всего хотелось отшвырнуть «лейку» и начать строчить из автомата по засевшим за сараями фашистам.

На берегу Днестра, 1943
Они не бросили свои камеры. И отсняли все, как бы мы сейчас сказали, «профессионально», в том числе и разъяренного генерал-лейтенанта В. Цветаева, патрулировавшего только что освобожденные районы.
– Ваши документы!.. Вы что, молодые люди, с ума сошли?! Бой идет, а вы с вашими «лейками» лезете впереди передовых частей! – процитировал слова генерала дед в своих мемуарах, опубликованных в 1985 году.
– Что-то уж больно красиво он сказал, – засомневался я, прочитав книгу и обсуждая ее с дедом. – Может, фамилия обязывает?
– Если бы ты слышал, ЧТО он нам проорал сквозь близкие еще автоматные очереди и разрывы гранат, – усмехнулся дед. – Но потом понял, что его ребята выполняли свою работу, а мы – свою. И даже помог довести дело до конца – нашел место в самолете, чтобы срочно доставить негативы в штаб фронта.
И еще как минимум дважды жизнь деда висела на волоске. И уже никак не зависела ни от каких документов и удостоверений.
– Сначала во время «моей первой поездки в Румынию», – шутил деда Вася. – В 1944-м я получил очередное задание – сфотографировать состояние взлетнопосадочной полосы аэропорта городка Галаци, куда должны были садиться наши транспортные самолеты. На небольшом, но мощном штурмовике Ил-2 мы вдвоем с пилотом благополучно пересекли государственную границу, приземлились в Румынии, отсняли что надо… Но на обратном пути нас сначала накрыли огнем немецкие зенитки, а потом атаковали немецкие истребители. Вот тут у меня выбора не было: по команде пилота я развернул турельный пулемет в хвостовой части и открыл огонь.
– И попал?!
– Не знаю… я ведь никогда до этого из пулемета не стрелял, тем более в воздухе. Помню только, что пилот выжал максимальную скорость (около 550 км в час), нырнул за одно облако, потом за второе, и нам удалось оторваться. А когда приземлились, насчитали пять или шесть пробоин, в том числе в баке с горючим!

Перед вылетом в Румынию, 1943. II. А. Малышев – слева
После войны, начиная с середины 1960-х, дед много раз бывал в заграничных командировках, и не только в Европе, но и в Африке. И вот где-то то ли в Йемене, то ли в Алжире его импозантная внешность и дорогая фотокамера привлекли внимание припортовых аборигенов. В те годы Африку лихорадило. Одни европейцы уходили, теснимые народно-революционными армиями изголодавшихся по власти местных царьков. Им на смену спешили новые, часто просоветские «команды», для них СССР был как «большой брат», который если не вступится в открытую, так уж точно погрозит пудовым кулаком. Но деда приняли сначала за француза, а потом, когда он попытался объясниться на ломаном английском, – за американца. Ни те, ни другие в этой точке земного шара популярны не были.

Автопортрет, 1967
– Меня окружила агрессивно настроенная толпа, человек в тридцать, – вспоминал деда Вася. – Они что-то кричали на своем родном языке, махали кулаками, и кое-кто уже нагибался за камнем. Момент был критический. Я знал, что, пока не брошен первый камень, библейское чувство справедливости сдерживает любую толпу. Но сразу после первого броска толпа неуправляема. Меня просто растерзают, прикончат за минуту, и никакая полиция не поспеет.
Дед был человек интеллигентный. Общение с артистами, учеными и высокопоставленными политиками разных стран привило ему даже некие аристократические манеры. Плавные, всегда спокойные жесты белых, холеных рук, глубокий, вдумчивый взгляд, мягкий и негромкий голос… Ни разу не видел я деда разгневанным, тем более грубым. Но в тот момент, по его словам, он вспомнил и погромы Гражданской, и бои Великой Отечественной, вспомнил десять лет, проведенных на приполярном Севере в составе Якутской экспедиции Комитета Севера ВЦИКа, когда он бок о бок работал с людьми грубыми, часто с уголовным прошлым. Вспомнил – и послал пораженных аборигенов отборным четырнадцатиэтажным матом!
– Первым меня понял какой-то толстый мавр, эдакий Отелло, по сравнению с которым я действительно ощущал себя беспомощной Дездемоной! – смеялся дед, а мне, уже подростку, было совсем не до смеха. – Помню, он закричал что-то вроде «Русико!.. русика!..» или что-то в этом роде, и несколько человек подхватили это магическое слово. Меня отпустили, похлопали по плечу и даже указали дорогу к отелю. Все-таки наша брань не менее надежна, чем наша броня, – привез он в Москву новый каламбур, который был некоторое время популярен в тогдашних журналистских кругах.
Это осталось за кадром
Студийная, станковая фотография с тщательно подобранными красками и тонко проработанным световым фоном – это фирменный конек Василия Алексеевича Малышева. Заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата золотой медали и премии Союза журналистов СССР, кавалера многих боевых и почетных орденов и медалей. Это сейчас обработать (а чаще – исказить) цифровую фотографию может любой пользователь компьютерной программы Photoshop. А тогда, в начале 1970-х, фотопортретистов часто упрекали в подражательстве живописцам. Всемирный авторитет французского фотодокументалиста Анри Картье-Брессона, отрицавшего кадрирование при печати и провозгласившего принцип «абсолютной достоверности жизненного факта», был признан и в советской фотожурналистике. Малышев встречался с Анри Брессоном и даже обсуждал с ним право фотографа на собственный творческий метод. Себя же дед всегда считал учеником Моисея Наппельбаума и Николая Свищова-Паолы.
– Объективное изображение внутреннего мира человека через собственное субъективное восприятие, – втолковывал мне дед. Но это было для меня еще слишком сложно.
И тогда дед начинал рассказывать. Нет, он не откровенничал, не выдавал «подсмотренные через объектив» тайны чужой жизни. Скорее он учил меня, опосредованно, подспудно, умению чувствовать другого человека.
– Я спускаю затвор в тот момент, когда понимаю, что почувствовал объект съемки, – говорил дед. – Иногда это происходит почти мгновенно, чаще приходится ждать, настраивать человека или, наоборот, отвлекать, избавлять от скованности.

Я с дедом, Москва, 1969
– Виктор Шкловский, когда я приехал к нему на квартиру для съемок, с самого начала был напряжен, неосознанно пытался позировать, принимать нарочитые позы, ждал щелчка затвора… И тогда я сделал вид, что в аппаратуре что-то разладилось. «Одну минуточку, извините, Виктор Борисович, – бормотал я, бессмысленно вращая регулировку диафрагмы на своем «хассельблате». – Камера эта сложная, в ней много всего… для писателей непонятного. Ввести в заблуждение было нетрудно. Вращаю, а краем глаза вижу: расслабился Шкловский, дух перевел. И вдруг уселся в кресло, в самой что ни на есть удобной позе! Видимо, он часто так садился. Я тут же спустил затвор. Но штука в том, что почти все мои портреты до этого выполнялись в вертикальной композиции. А тут – понятно, что придется делать горизонтальный кадр.
– И как же ты, деда, вышел из положения? Лег на бок?
– Да нет, так и снимал его, как он сидел. Получилось очень неплохо. И между прочим, многие писатели, которых я снимал, лучше смотрелись именно в горизонтальной плоскости. Толстой за своим рабочим столом под лампой-канделябром, Вересаев на фоне книжных полок, Антокольский с книгами и статуэткой фавна…
– Ты всегда снимаешь один на один со своим объектом? – спросил я. – Это действительно священнодействие, без посторонних?
– Как правило, один. Но на периферии помещения могут находиться помощники, которые отвечают за фоновый свет. Их не видно, но без них работа может и не получиться. Ну а порой приходится специально нарушать тет-а-тет, все с той же целью: раскрыть образ моего персонажа.
И дед рассказал еще две истории. Знаменитый актер и режиссер Михаил Яншин, всегда веселый и общительный по жизни, в момент съемки стушевался: напрягся, стал готовиться, поправлять галстук, в общем, на глазах превращался из творческой личности в официального театрального деятеля. Не таким видел и ощущал его мой дед, хорошо знавший Яншина и до этого. Обмануть артиста, много и часто снимавшегося в кино, при помощи трюка с аппаратурой невозможно. И дед нарушает свое правило и как бы невзначай приглашает в комнату свою молодую жену.
– Семидесятидвухлетний Яншин встрепенулся, заулыбался, приосанился. А когда узнал, что Ляля – артистка Музыкального театра имени Станиславского, и вовсе расцвел. Они заговорили о ролях, о режиссерах, о гастролях… Яншин снова стал самим собой. Мне оставалось лишь начать снимать.

Михаил Яншин, 1974
Прямо противоположная ситуация сложилась на съемках ученого-физика Дмитрия Блохинцева, приехавшего к деду вместе со своей супругой. Энергичный, высокий, загорелый, в спортивной куртке, выдающийся советский ядерщик, казалось, был весь как на ладони. Он засыпал деда рассказами о своих многочисленных хобби, заграничных поездках, даже читал свои стихи.
– Казалось, можно начинать снимать. Но каким-то шестым чувством я угадывал за всем этим не то чтобы браваду, но недоговоренность. В душе этого, как принято говорить, «социально активного» человека таилось что-то глубоко личное, какие-то иные чувства, в которые он не собирался меня посвящать. Время шло… Он непринужденно болтал, я поддерживал тон, но все еще выжидал.
И тут в студию заглянула жена Блохинцева, видимо, поинтересоваться, скоро ли мужчины «освободятся».
– Ты читал «Доктора Живаго»? – вдруг спросил меня деда Вася.
– Читал.
– Помнишь то место, в конце второй части, где молодой Юра перехватывает обмен взглядами между Ларисой и Комаровским? Великолепно прочувствованная и описанная Пастернаком сцена!
Дед задумался. А потом сказал:
– Когда он такна нее посмотрел, я понял, чтодля него дороже всех поездок, стихов, а может быть, и управляемых ядерных частиц. Я спустил затвор. И все потом говорили, что получился портрет ученого, влюбленного в свою работу. На самом деле я снял мужчину, влюбленного в свою жену.

Дмитрий Блохинцев, 1973
Любовь, в том или ином ее проявлении, дед снимал много раз. Счастливую и одновременно страдающую Марину Влади накануне ее свадьбы с Владимиром Высоцким. Великолепных Екатерину Максимову и Владимира Васильева на пике их творческой карьеры. Влюбленную в своих темпераментных поклонников испанскую танцовщицу Кэти Клавихо…
И лишь однажды он заснял ненависть. Холодную и откровенную. Такой, какой ей и полагается быть. Октябрь 1946 года. Последние заседания Нюрнбергского процесса. Из всего журналистского пула на них допускались лишь двое – от каждой страны-победительницы. Одним из них был мой дед.
– «Зал 600» был по нынешним меркам не такой уж и большой, – рассказывал он. – И все равно от нас до скамьи подсудимых метров 8 – 10. Но ведь у меня в руках камера с мощным увеличением! Возможно, я был единственным человеком в зале, кто мог увидеть лица фашистских главарей вплотную, глаза в глаза! Я приближал, отдалял их лица, искал верный ракурс и, как всегда, старался понять – нет, не суть этих людей (она таилась слишком глубоко, и ее затмевал элементарный страх возмездия), но хотя бы психологическое состояние каждого подсудимого.
Заместитель Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс. Зябко кутается в плед, нервничает, бегающий взгляд, скрытая паника.
Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Безупречная военная выправка, твердый взгляд, уверенность в том, что свой долг офицера он выполнил до конца. Начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал Альфред Йодль – страшно нервничает и старается быть максимально предупредительным с трибуналом. Когда к нему обращаются, мгновенно вскакивает и застывает «навытяжку». Надеется, что пощадят. Главнокомандующий военно-воздушными силами Германии Герман Геринг. Ссылаясь на больные глаза, сидит в темных очках. Его распирает бешеная злоба и изумление: как получилось, что он, еще вчера почти всесильный, купающийся в роскоши рейхсмаршал, сегодня вынужден оправдываться и слушать страшный приговор.

На Нюрнбергском процессе, 1945-1946
Начальник Главного управления имперской безопасности СС обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер. По лошадиному длинное, холодное лицо со шрамами. Полное пренебрежение к происходящему. Думаю, он уже простился с этим миром. Приговор слушает бесстрастно, потом вдруг странно улыбается и отвешивает залу короткий поклон. И мне кажется, я понимаю этого страшного человека. Он, как и Кейтель, не раскаивается в содеянном. Но Кейтель – классический тип германского вояки, а Кальтенбруннер – убежденный палач и садист. И мы для него – даже не противники, а что-то вроде кусачих муравьев, волею судьбы взявших верх.
И еще, глядя на этих людей, я понимаю, что, если бы верх взяли они, – Кальтенбруннер превратил бы весь мир в Бухенвальд и Освенцим. И отвесил бы вслед умирающему человечеству такой же ироничный поклон.
Черный кофе, красная клубника и желтый подсолнух
– Умение различать цвета – величайший дар природы человеку, – говорил дед. – Это умение дано каждому, но нужно еще научиться различать оттенки. И уметь смешивать и сами цвета, и их оттенки. Знаешь, красный входит в тройку основных, зеленый – это смесь желтого и синего? И любой цвет спектра может стать белым или черным, в зависимости от яркости.
Этот разговор происходил летом 1974 года, накануне удивительного в моей пятнадцатилетней жизни события: дед уезжал в недельную командировку на Украину и впервые брал меня с собой.
– Будем много переезжать, снимать самых разных людей. Мне нужен помощник! – объяснял он моим родителям. На самом деле помощник у него был – молодой фотокорреспондент Володя Вяткин, считавший деда своим учителем. Володя только что отслужил в армии, был крепким двадцатитрехлетним парнем и без труда перетаскал бы за дедом всю его аппаратуру. Думаю, дед просто хотел чуть-чуть меня «профориентировать».
Честно говоря, редкие посещения его невероятной квартиры-студии на Кутузовском сформировали у меня несколько искаженное представление о журналистике вообще и фотожурналистике в частности. Мы скучали друг по другу, и, когда я приезжал, дед как мог старался отложить работу, порой даже переносил съемки, и мы веселились вовсю. По сравнению с восьмичасовым рабочим днем отца и матери по пять раз в неделю, его работа иногда вообще рисовалась мне эдаким произвольным творческим полетом под лозунгом «когда захочу – тогда и сделаю». Картину дополняла полная гастрономическая рассеянность деда Васи: в его доме часто не было хлеба, но всегда стояли распечатанные коробки с шоколадными конфетами и пирожными, могло не оказаться молока, но в баре теснились самые изысканные по тем временам вина и более крепкие напитки. Богема, да и только!

В поездке
И вот я увидел деда за работой. И какой работой! Не по восемь и не по десять часов, а буквально от восхода до заката мы мотались на машине по каким-то частным и казенным квартирам, студиям, городским и поселковым комитетам, договаривались о съемках, размечали маршруты на следующий день, отвечали на тысячи вопросов о Москве, Агентстве печати «Новости» (где дед работал все эти долгие годы), о новинках в области фотоаппаратуры, о различных методах съемки… И снимали, снимали, снимали! Все это, конечно, делали дед и Володя, я же честно таскал не слишком тяжелые штативы и к концу дня мечтал лишь об одном – добраться до очередной роскошной гостиничной кровати (принимали нас по первому разряду) и на пять часов провалиться в сон. Томный и богемный семидесятичетырехлетний деда Вася на поверку отказался тугой стальной пружиной в мягкой оболочке своих утонченных манер, которые не мешали ему, когда не оставалось времени на ресторан, вооружиться алюминиевой ложкой и хлебать сомнительное харчо в придорожной столовке. Или найти общий язык с работягами какого-то отдаленного колхоза, поначалу настроенных не очень доброжелательно к «столичной птичке» в неизменном французском берете набекрень.
– Вы делаете свою работу, мы – свою, – пояснил им дед. – Вот тебе, хлопец, наверное, удобно в свои широкие карманы прятать горилку? А мне мой берет череп от солнца прикрывает. Дед театральным жестом приподнял берет, обнажив розовую лысину. Вокруг захохотали, и инцидент был исчерпан.
А о свойстве некоторых цветов и оттенков у меня в той поездке остались свои, субъективные воспоминания.
В квартире народного художника СССР Василия Бородая мне поручили ответственное дело: держать в наклонном положении специальный зонтик, в который должна была выстрелить печально знакомая мне осветительная лампа. По задумке деда, только такой отраженный свет правильно подсветит с задней стороны золотисто-красные витражи. На их фоне пожелал сниматься их автор – Василий Бородай. Я с блеском выполнил свою работу и потом много лет показывал родным и знакомым дедовскую картину, приговаривая: «А вот там стою я и держу зонтик».
В знак признания художник угостил нас какими-то сладостями с черным кофе. По тогдашней моде он был не просто черный, но еще и без сахара. И, в духе хлебосольных украинских традиций, от всего сердца налил его не в маленькие кофейные чашечки, а в увесистые трехсотграммовые кружки.
Надо признаться, дома мы кофе вообще не пили. Изредка я пробовал хорошо разбавленный молоком сладкий напиток, который пила бабушка, «опасаясь давления». Но был я при этом очень послушным и тактичным мальчиком.
– Ешь там все, что дадут, – напутствовала меня мама перед поездкой. – Не привередничай. А то будет стыдно.

Василий Бородай, 1974
Чтобы «не было стыдно», я мучительночестно выпил крепчайший кофе по-турецки в украинской таре. До самого дна. (Думаю, мне было бы легче выпить пузырек черных чернил.) И впал в странный полуобморочный транс. Но надо было ехать дальше. Нас уже ждала у себя на квартире артистка Ада Роговцева, героиня моих любимых в то время фильмов «Салют, Мария!» и «Укрощение огня».
Я держался как мог. Увлеченные разговором с Бородаем и прошедшими съемками, ни дед, ни Володя Вяткин не замечали моего состояния. Но Ада Роговцева заметила. Она выпорхнула нам навстречу в ярком цветном платье, как настоящая райская птица. И тотчас присела и заглянула мне в лицо.
– Вы такой бледный, – сказал она. – Все ли в порядке?
– И в самом деле, – спохватился дед. – Устал, наверное?
– Слишком много выпил… кофе, – с трудом ворочая языком, пробормотал я, конфузясь.
– Да! – подтвердил Володя. – С кофе он там действительно переборщил.
Ада мгновенно порхнула куда-то вглубь квартиры и тут же вручила мне чашку со свежепротертой с сахаром клубникой.








