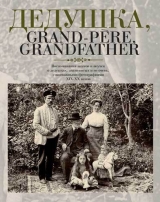
Текст книги "Дедушка, Grand-pere, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков"
Автор книги: Елена Лаврентьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Я как раз делала заготовки, – сказала она. – думаю, это поможет.
От клубники исходил блаженный аромат свежести. Я ел клубнику и чувствовал, как кофейная пелена спадает с глаз. Мне и раньше нравилась Ада Роговцева, но с тех пор я полюбил ее как свою спасительницу. Ее… и протертую клубнику.
А потом был ночной переезд в уже упоминавшийся отдаленный колхоз. Помню черную-черную южную ночь, какого-то странного провожатого, сидевшего рядом с дедом и время от времени на всю кабину запевавшего популярные оперные арии. И режущие глаз огни встречных машин.
– Как они слепят! – недовольно пробормотал дед. – Нет чтобы притушить как полагается…
– А давайте пару раз включим нашу «волшебную лампу»! – предложил я, все еще ощущая прилив сил после клубники.
– Что ты! – испугался дед.
А Володя задумчиво добавил:
– На такой скорости и на такой дороге это – настоящее оружие. Собьет в кювет только так!

Галина Бойко, 1974
В колхозе дед должен был снять доярку на лоне природы. Предполагалось, что это будет собирательный образ молодой украинской девушки-красавицы. Вместо этого, по указанию обкома или крайкома, нам представили почетную доярку края, передовицу и ударницу Галину Бойко. Была она дородная и добродушная. И не девушка, а бабушка.
Дед сначала даже растерялся, но потом повел ее в сады-огороды, повертел под солнечными лучами влево-вправо, о чем-то пошептался с председателем колхоза… И сегодня с картины на нас глядит веселая и совсем даже не старая, а мудрая молочница в красно-белом национальном сарафане и красном платке на фоне красных полевых маков. Картина стала настоящей удачей и, как мне кажется, даже пахнет парным молоком!
Доярка подарила мне на прощание огромный, величиной с таз, подсолнух. Подсолнухи я видел только в кино и принял подарок с благоговением.
Мы вернулись в Киев, и я, желая получше сохранить чудо-цветок, вынес его на ночь на балкон нашего гостиничного номера. Рано утром нас разбудил птичий концерт: чирикали воробьи, чирикали дружно и оживленно. И было их, судя по голосам, великое множество.
Я вышел на балкон и вместо правильного диска подсолнуха увидел безобразно расклеванный остов, больше похожий на кашу. Это был удар. Я так хотел привести домой настоящий сувенир с украинского поля! Но мудрый дед и тут сумел найти нужные слова:
– Стихия всегда требует жертв! – сказал он. – Греки бросали в море бочки с оливковым маслом. Испанцы швыряли в океан пригоршни золотых монет. В Карфагене, прежде чем пересечь пустыню, и вовсе резали людей. Мы славно поработали, много повидали… Будем считать твой подсолнух нашим совместным жертвоприношением этой поездке.
И я, конечно, сразу утешился.
* * *
Вот уже почти четверть века деда Васи нет с нами.
Ушли из жизни большинство персонажей его картин, тускнеют и портятся и сами работы – даже лучшие фотокраски бессильны против времени. Быть может, где-то в архивах РИА «Новости» (бывшего АПН) хранятся малышевские негативы. Да только кому они нужны в век цифровой фотографии… Так есть ли смысл в жизни, если спустя всего два-три десятка лет о нас помнят разве что наши стареющие внуки и некоторые пожилые ученики? Несомненно! Только не стоит измерять его объемы количеством фоторабот или числом написанных строк (равно как и в декалитрах надоенного молока или тоннах добытого угля).
Почти весь ХХ век мой дед служил Красоте, извлекал ее из новых и новых лиц, находил в каждом новом персонаже. Но когда я сегодня думаю о нем, я вспоминаю не его картины или рассказы, а лица людей в момент духовного взаимопонимания, возникавшего при общении с дедом.

Я с дедом на даче, 1961
– Великолепно! – говорил он, вглядываясь в эти лица своими цепкими глазами. И я видел, как уставшие после дороги путешественники отдыхали в кресле, посреди дедовской комнаты-студии. Как замученные болезнями пациенты вдруг сбрасывали с себя груз болячек и смотрели в дедовскую камеру иным, просветленным взглядом. Как улыбались грустные, как смягчались скептики. Порой это преображение длилось считаные минуты, ровно столько, сколько шла съемка. Но если человек даже на мгновение поверит, что он прекрасен, жизнь покажется ему чуточку легче, а выбранный путь – понятнее.
Дарить людям радость – что может быть банальнее? Но есть ли в этом мире подарки дороже?

С дедом в Парке культуры и отдыха им. М. Горького, 1970
Нет, я не стал фотокорреспондентом, как, наверное, мечтал дед. Моим призванием стала радиожурналистика. Вот уже двадцать лет я работаю на «Радио России», и говорить мне нравится больше, чем изображать, а рассказывать – больше, чем показывать. Возможно, в недалеком будущем я сам стану дедом, и крохотный внук сначала ухватит меня за палец, а лет через десять ужаснется: «И я стану таким… сморщенным, как ты?!»
Но я не стану читать ему морали или учить философии. Я постараюсь обыграть его в шахматы, затаскать по выставкам и вернисажам, замучить поездками по стране и миру, научить его любить этот мир и понимать людей, которые его населяют. Так, как учил меня дед.
В моей квартире висит несколько его картин. На них он сам, мои родители и я – в «нежном» грудном возрасте. Когда-то этот толстощекий малыш глядел на посетителей персональных дедовских выставок со стен Манежа, Дома журналистов, Дома дружбы с зарубежными странами…
Сегодня мой черед напомнить читателям о том, кем был мой дед, Василий Алексеевич Малышев.
В. А. Потресов
Из беженских скитаний Сергея Яблоновского
Я никогда не видел своего деда, не сидел у него на коленях, не дергал за бороду. Хотя, когда в конце 1953 года его не стало, я учился в первом классе 110-й московской мужской средней школы. Вот в том-то и дело: я ходил в московскую школу, а дед умер в Париже – в тот последний год сталинского правления расстояние между этими столицами было больше, чем от Земли до Марса.
О моем деде, Сергее Викторовиче Потресове, более известном в театральных и литературных кругах России до революции как Сергей Яблоновский, мне рассказывал отец. Иной раз, прогуливаясь по Москве, мы останавливались перед нестарым тогда еще домом в стиле модерн, скажем на углу Среднего и Малого Николопесковских или Петровки и Столешникова (дед, оказывается, любил менять жилье), и, показывая на окна в бельэтаже, рассказывал, сколько семья нанимала тут комнат, кто здесь бывал и прочие занятные, но ушедшие в дореволюционное прошлое детали.
Когда в середине пятидесятых в Москве стали появляться люди, казалось бы, навсегда исчезнувшие в тридцать седьмых, я познакомился со своим дядей Володей, братом моего отца: почти двадцать лет он провел в лагерях за то, что встречался с моим дедом в Париже. Когда речь заходила об эмигрантах, которых советская власть по разным причинам прощала, о деде речи не было: видимо, даже в после – сталинское время он представлял большую угрозу для коммунистического режима.
Чем же так насолил дед советской власти, я узнал значительно позже, когда довелось познакомиться с его архивом, обнаруженным за рубежом. Впрочем, я и раньше из эзоповских высказываний взрослых вылавливал информацию о дедовых провинностях перед властью.
И в России, и даже во Франции, где он провел тридцать три эмиграционных года, удавалось обнаружить лишь разрозненные небольшие фонды, как, например, в РГАЛИ, ИНИОНе и еще кое-где. Благодаря счастливому случаю, о котором расскажу позже, найти кое-какие материалы о нем, сохранившиеся рукописи и публикации, удалось в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Соединив обнаруженные западные архивы, отечественные фонды, по крупицам собранные книги, публикации и то, что чудом сохранили мои родственники, удалось воссоздать образ деда, видеть которого, повторю, мне, увы, не довелось.

С. В. Потресов (Яблоновский), 1910-е годы
Вот тогда я понял, что держу в руках забытое наследие, и возникла идея вернуть отечественной культуре имя моего деда, журналиста, поэта, театрального и литературного критика Сергея Викторовича Потресова, более известного под псевдонимом Сергей Яблоновский [2(15).11.1870, Харьков – 6.12.1953, Париж]. Один из известнейших в начале ХХ века фельетонистов, соредактор сытинского «Русского слова» [1]1
Ежедневная газета, выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября (9 декабря) 1917 г. Издатели – А. А. Александров, с 1897 г. И. Д. Сытин. В газете сотрудничали В. М. Дорошевич (с 1902 г. – фактический редактор), А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, В. А. Гиляровский, Вас. И. Немирович-Данченко и др. Газету называли «фабрикой новостей», и критика власти способствовала превращению газеты в одно из самых распространенных изданий России. Тираж к началу 1917 г. составлял 600–800 тыс. экземпляров. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 г. закрыта окончательно.
[Закрыть], самой крупной газеты начала ХХ века, автор бесчисленных рецензий и статей об актерах и театре, публицист, участник и руководитель московских литературных объединений, Сергей Яблоновский из-за своих убеждений и активных политических действий в 1918 году был приговорен екатеринбургской ЧК к расстрелу. Тогда ему удалось бежать на юг России, где он участвовал в Белом движении, а в 1920 году Яблоновский навсегда покинул родину. В эмиграции жил в Париже.
Стоит ли говорить, что власти, которые правили страной с 1917 по 1991 год, сделали все возможное, чтобы имя С. Потресова-Яблоновского, его произведения были навсегда забыты. Надо отдать им должное, властям это удалось довольно успешно, хотя даже в советские годы отдельные произведения опального автора все же публиковались, вероятно, по недосмотру, лени или недостаточной образованности цензоров. Я расскажу об этих редких изданиях.
Не рассуждая о долге перед историей и памятью, мол, почему я взялся за эту работу, приведу простое сравнение. Если представить полотно нашей культуры в виде мозаичного панно, легко заметить, что в нем отсутствуют значительные части, как из-за утраты отдельных кусочков смальты, так и целых фрагментов. Наибольшие потери слоев ощущаются в первой половине ХХ века. И я решил, что, располагая архивами и определенным литературным опытом, смогу восстановить хотя бы один небольшой кусочек этого полотна, вернув истории отечественной культуры имя деда вместе с трагической историей его жизни и творчества.
Многое из наследия Яблоновского нынче, разумеется, не актуально. Ведь был он в том числе журналистом, газетчиком, однако порой не знаешь, что через столетие откликнется и снова зазвенит в полную силу. Что-то из его писаний потеряно безвозвратно, а что-то не удалось пока обнаружить, как, например, книгу Сергея Яблоновского «Карета прошлого», которая, по дошедшим воспоминаниям автора, была выпущена в свет в Эстонии накануне большевистского вторжения, после чего и издатель, и тираж были уничтожены. Доверяясь упоительной лжи Воланда – «Рукописи не горят», смею надеяться, что где-то сохранились хотя бы гранки «Кареты», небольшую часть из них (с рукописными правками автора) мне удалось разыскать.
Раздумывая о том, как уничтожение культурных слоев сказывается на последующих поколениях, неизбежно вспоминаю фантастический рассказ Рэя Брэдбери. Там герой, оказавшись в доисторическом мире, случайно раздавил бабочку, а вернувшись в реальное время, ужаснулся неотвратимым переменам. В революционные и последующие годы давили вовсе не бабочек, и последствия для культуры мы ощущаем сегодня. Это и есть, пожалуй, то главное, что спровоцировало меня заняться восстановлением памяти о деде. Очень важно, чтобы потомки уничтоженных, репрессированных, распыленных по белу свету деятелей нашей культуры взялись бы за подобное дело. Знаю, кое-кто занимается этим сегодня безо всякой поддержки государства, которое, как известно, интересуется чем угодно, только не сохранением собственной истории и культуры. Но таких людей немного, а кто этого не делает, язык не повернется осудить.
Отсутствие многих документов, вольность в трактовке событий способствуют появлению ошибок не только в отдельных публикациях, связанных с вычеркнутыми из нашей истории лицами, но даже в энциклопедических изданиях. Что касается Яблоновского, то дополнительные проблемы для исследователя связаны с тем, что в отечественной журналистике одновременно фигурировали два человека, использовавшие этот псевдоним. Более того, оба, Сергей Викторович Яблоновский-Потресов и Александр Александрович Яблоновский-Снадзский, родились в один и тот же год и, если доверять сохранившимся источникам, в один день – 15 ноября 1870 года (видимо, отсюда и тянется шлейф путаницы биографий Яблоновских). Оба работали в южнорусских газетах, а затем – в «Русском слове» (по воспоминаниям моей тетки, старшей дочери С. В. Яблоновского, ее отец – до 1916 года, а заменивший его – хитрый трюк редактора Дорошевича! – фельетонист А. А. Яблоновский – с 1916-го).
Оба Яблоновских покинули Россию в феврале 1920 года на пароходе «Саратов» и вместе оказались в британском лагере для военнопленных турок Тель-эль-Кебир в африканской пустыне. У обоих имеются эссе об этих скитаниях. В ноябре 1920 года С. В. Яблоновский выехал в Париж, а А. А. Яблоновский в том же году – в Берлин, но уже с 1925 тоже жил в Париже.
Но и помимо этого ошибок в разных изданиях хватает. Так, в биографическом очерке фонда С. В. Потресова в Бахметевском архиве неверно указано, что родился он в Москве, учился на юриста, а во время революции был арестован большевиками [2]2
К счастью, последнего не случилось. По воспоминаниям моего отца А. С. Потресова, а также в опубликованных воспоминаниях дяди В. С. Потресова (см. Эдвард Радзинский. «Николай II: жизнь и смерть»: «Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II». Если бы С. В. Яблоновского арестовали, его бы немедленно уничтожили. На самом деле ему удалось покинуть Москву с поддельным паспортом на имя Ленчицкого (об этом далее) и бежать на белый юг России.
[Закрыть]. Кроме того, в ряде документов разных фондов нередко ошибочно указано его отчество – Васильевич. В «Театральной энциклопедии» неверно указаны дата смерти: (ок<оло> 1929), нелепо звучит: «в 1917 г. эмигрировал из Сов. Союза», а также, что он «окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та». Последнее, может быть, и имело место, но подтверждающих документов обнаружить мне пока не удалось. В книге «Литературное зарубежье России» неправильно отмечено, что Яблоновский уехал в Париж в апреле 1920 года, а также ему приписаны издания, в которых, в частности, печатался А. А. Яблоновский. Наиболее верно краткая биография С. В. Яблоновского опубликована в книге А. И. Серкова «Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь» (дед был посвящен в ложу Юпитер [Париж] 21 июня 1928 года), но и там есть неточности, скажем дата его смерти ошибочно указана 21 декабря 1953 года, «Саратов» назван теплоходом и т. д.
Не знаю, почему А. Снадзский взял псевдоним Яблоновский, относительно же Сергея Потресова существуют по крайней мере две версии. Из семейных историй мне известно, что дед считал: литературные таланты, которыми снабдил его Господь, почерпнуты не от орловских дворян Потресовых, а от древнего рода князей Яблоновских (его мать, А. К. Яблоновская, по семейному преданию, происходила из этого польского рода, известного помимо фигур военных и государственных значительным числом деятелей культуры и науки). Мол, поэтому дед и взял псевдоним в качестве основного.

Стихи С. В. Потресова (Яблоновского) «В лунном свете»
По другой версии, изложенной А. Свирским в романе «История моей жизни», Сергей Яблоновский признался автору, что псевдоним происходит от стихотворения «Яблоня», получившего большое признание после выхода его первого поэтического сборника (под фамилией Потресов).
Значительное число документов, связанных с именем С. В. Яблоновского, хранится в Бахметевском архиве. Пытаясь безуспешно разыскать архив С. В. Яблоновского во Франции, я случайно наткнулся на публикацию в журнале «Знамя», где печаталось до той поры неизвестное письмо В. В. Набокова к С. В. Яблоновскому с указанием места хранения – фонд С. Потресова, Бахметевский архив. Мне удалось практически полностью скопировать этот фонд (а также документы, связанные с Яблоновским в фондах других лиц), вернуть их на родину, а затем перевести в цифровую форму, обеспечив таким образом надежную сохранность. Каким образом документы Яблоновского оказались в США, могу предположить, что в архив, созданный Б. А. Бахметевым [3]3
Бахметев, Борис Александрович (1880–1951) – инженер-гидравлик, выпускник петербургского Института путей сообщения. Под его руководством были разработаны проекты Днепровской и Волховской ГЭС, осуществленные при советской власти. С 1915 г. руководил закупочной комиссией Центрального Военно-промышленного комитета в США. После Февральской революции – товарищ (заместитель) министра промышленности и торговли Временного правительства. С июня 1917 г. – посол в США. После большевистского переворота заявил, что пришедшее правительство не выражает интересов народа России. Сохранил статус посла. После отставки в 1922 г. остался в США. Основатель, директор и главный спонсор Гуманитарного фонда, основатель Фонда помощи русским студентам, а также Архива русской и восточноевропейской истории и культуры в Колумбийском университете, лучшего собрания российских материалов за рубежом, носящего имя Бахметева и до сих пор существующего на доходы от оставленного им капитала.
[Закрыть], их передала Н. И. Давыдова (1897–1978), вторая жена С. В. Яблоновского. На момент смерти Яблоновского в США проживали духовник деда и большой его почитатель писатель Гребенщиков, и они вполне могли оказаться посредниками в этом вопросе. Н. И. Давыдова состояла в переписке с обоими, и это подтверждается документами из фонда.
Неясно, правда, каким образом там оказались материалы, датированные годами жизни деда в дореволюционной России. Трудно предположить, что он сохранил их, скитаясь по югу России, египетской пустыне или во время бесконечных переездов с квартиры на квартиру в Париже. Но эти документы в Бахметевском архиве существуют, за что низкий поклон и его основателю, и хранителям.
Значительно скромнее на этом фоне выглядят российские (бывшие советские) архивы, в которых удалось обнаружить лишь разрозненные документы С. В. Яблоновского, частично переданные туда его первой женой. Но, по воспоминаниям С. С. Потресовой, многие из них утеряны. Вот что известно о родословной С. В. Потресова-Яблоновского. Его дед Потресов Иван (отчество и годы жизни неизвестны) – потомственный дворянин Орловской губернии, последний в роду помещик. По некоторым сведениям, в Орловской губернии было село Потресово, но найти его не удалось, возможно, оно бесследно уничтожено во время коллективизации или Великой Отечественной войны.
У него были дочь и два сына. Один – Виктор Иванович Потресов, адвокат, присяжный поверенный в Харькове (умер, скорее всего, около 1882 года). Он женился на Аделаиде Ксаверьевне Яблоновской, согласно семейным преданиям – последней в малороссийской ветви рода князей Яблоновских. Принять княжеский титул не пожелал (существовал закон: если княжеский род прерывается из-за того, что нет продолжения по мужской линии, то муж-дворянин последней княжны получает право взять фамилию жены и получить княжеский титул). Первый брак А. К. Яблоновской был с Александром Ивановичем Апостол-Кегичем, от которого она имела дочь Елену Александровну, а от второго брака, с Потресовым, были дети: Надежда Викторовна и Сергей Викторович Потресовы. Сестры Яблоновской, Фелиция Ксаверьевна и Конкордия Ксаверьевна, рано умерли. По воспоминаниям С. В. Потресова-Яблоновского, известно, что у его матери было имение в Пересечной, рядом с усадьбой актерской династии Рыбаковых.
Елена Александровна (урожденная Апостол-Кегич) вышла замуж за Георгия Павловича Муравьева, из мещан г. Харькова. Надежда Викторовна Потресова вышла замуж за хирурга из Харькова Тринклера.

Герб Яблоновских
Второй сын помещика – Иван Иванович Потресов, писал от имени брата, против его желания, на Высочайшее имя о присвоении княжеского титула. Умер, подавившись зубочисткой, из-за чего Муравьевы, которым он, по воспоминаниям, чем-то досаждал, якобы сказали: «Собаке – собачья смерть».
Их сестра, Мария Ивановна (урожденная и по первому браку Потресова), вышла замуж за родного деда(!). У них родился сын Иосаф, гигант, обладал невероятной физической силой, но умер молодым от гипертрофии сердца. По воспоминаниям моего отца, А. С. Потресова, муж Марии Ивановны скончался через полгода после их женитьбы. Второй брак – за Римским-Корсаковым (более о нем ничего не известно), и тоже полгода. Третий брак с генерал-губернатором Харькова, и тоже недолго – около года. Она прожила три громадных состояния и умерла в приюте для дворян (в 1930–1933 годах приют находился под Харьковом в Хорошевском монастыре), где соседствовала по комнате с Лилей Лермонтовой, двоюродной внучкой М. Ю. Лермонтова. Когда Мария Ивановна умерла, то Лилю задушили (видимо, надеялись, что от Марии Ивановны остались драгоценности). Мой отец полагал, что деньги в приют за нее вносила племянница Надежда Викторовна.
Увы, начал я интересоваться жизнью С. В. Яблоновского слишком поздно, когда не осталось никого из знавших его, а воспоминания о его детстве слишком скупы, и в них много неясного. Из некоторых источников удалось выяснить, что после смерти отца Сергей почему-то остался не с матерью, а жил в семье друзей отца, Морозовых. Тем не менее С. В. Потресов в своих произведениях вспоминает о матери с большой теплотой и посвящает ей свой первый сборник стихов. Неясно также, где и какое он получил образование, сам Сергей Викторович об этом нигде не писал. Восстановить историю его жизни и творчества удалось с помощью часто отрывочных мемуаров (в основном касающихся деятельности, встреч и т. д.), писем, дневников и воспоминаний связанных с ним людей.
Вот таким образом удалось создать достоверный очерк жизни и трудов моего деда – Сергея Потресова-Яблоновского, Итак:
Харьков. Проба пера и ощущение театра
Согласно фамильному генеалогическому древу, «наши» Потресовы – потомственные дворяне Орловской губернии, где последним помещиком в роду был Иван <…> Потресов (мой прапрадед). Потресова-Яблоновского нередко путают с А. Н. Потресовым, марксистом, партийная кличка Старовер, также эмигрантом. Из семейных преданий известно, что А. Н. Потресов приходился троюродным братом моего прадеда.

Харьков, Земельное училище
В своих воспоминаниях эмигрантка Ольга Морозова, харьковчанка, знавшая Сергея Потресова с детства, писала: «…отец его, популярный харьковский адвокат, чувствуя приближение смерти, просил своего друга, моего отца (тогда директора харьковского Землед<ельческого> училища), взять к себе его сына Сергея и сделать из него хорошего сельского хозяина. Отец взял. Так в нашей семье появился маленький худенький мальчик с большими черными мечтательными глазами. Ему было тогда 12 лет, но выглядел он не старше восьми».
Сельским хозяином Сергей Потресов не стал, как не стал и адвокатом, хоть, по некоторым непроверенным источникам, поступил на юридический факультет Харьковского университета. С детства он писал стихи, а в выборе жизненного пути сыграла роль, быть может, географическая близость имений его матери и актерской династии Рыбаковых: «Село Пересечное, Харьковской губернии. Ударение следовало бы поставить на слоге “сеч”, от глагола “пересекать”, но все ставят его на “рес” – Пересечное. В нем усадьба с хорошей библиотекой. Это имение… На столбе, стоявшем у ворот, дощечка; на ней значится: “Усадьба купца третьей гильдии Николая Хрисанфовича Рыбакова”. Того самого, который у Островского “сам” смотрел на игру Геннадия Демьяновича Несчастливцева: “Подошел ко мне Рыбаков, положил мне руку на плечо и говорит: "Ты, – говорит, – да я, – говорит, – умрем, – говорит… – Лестно"”». Усадьба Рыбакова – почти наша родовая усадьба. Павлина Герасимовна, жена артиста, Каролина и Антонина Герасимовны, ее сестры, и «сам» он были большими друзьями моей бабки. Каролина, бывшая гувернанткой моей матери, и скончалась в нашем доме. Сын Рыбакова, Костя, впоследствии артист Московского Малого театра, был мало похож на отца темпераментом – мягкий и рыхлый, но лицом походил на него чрезвычайно. В Несчастливцеве он гримировался под отца, и моя мать, увидев его в этой роли, испугалась: она увидала перед собою Николая Хрисанфовича.
<…>
Тремя поколениями мы тесно связаны с Рыбаковыми и очень часто проводили лето в этой усадьбе. Когда после долгого перерыва я приехал туда уже с женою и детьми, старые крестьянки-хохлушки, обнимая меня, говорили: «Та це-ж наш Сэрежка приехав!»
По собственному признанию, Сергей Яблоновский не любил жанр автобиографии, о его детстве известно крайне немного. В сохранившихся гранках его предисловия к книге «Карета прошлого» он писал, что о его детстве и юности читать никому не интересно, и начал с 1893 года, когда стал постоянным и, возможно, одним из главных сотрудников газеты «Приазовский край», издававшейся в Ростове-на-Дону. «Я писал в этой газете и публицистические статьи, – сообщал Сергей Яблоновский, – и беллетристические рассказы, и лирические стихи, и театральную, а также всякую иную критику».

Титульный лист сборника стихотворений с автографом автора, 1896
Работал Сергей Потресов под разными псевдонимами, публике в Харькове особенно полюбился Комар, который часто, как тогда говорилось, на злобу дня писал в рубрике «Свет и тени». Горожане охотно ходили на драму, оперу, оперетту в Асмоловский театр на Таганрогском проспекте или городской театр на Садовой. В оперетте тон задавала труппа Блюменталь-Тамарина, а вот куплеты, восхищавшие публику, сочинял как раз Комар. Однажды после инцидента, закончившегося судом чести (Сергей Потресов обругал нетрезвого метранпажа), журналист оставил газету и уехал в Петербург. Скорее всего, здесь сказалось желание провинциала покорить столицу, но было и еще кое-что.
Петербург. Встречи с Майковым и Полонским
Как-то перед этим в Ростове гостил петербургский генерал и издатель по фамилии Погожев, который загорелся напечатать стихи начинающего поэта Потресова, и, как раз к моменту конфликта в редакции «Приазовского края», в столице началась работа по подготовке поэтического сборника.
Ехал Сергей Потресов в Петербург с рекомендательными письмами актера Далматова к драматургам П. Гнедичу и И. Потапенке, критику А. Кугелю. Однажды прислуга гостиницы, передавая деду гранки будущей книги, вдруг объявила, что в соседних номерах живет еще один поэт, Минский, и тоже издает книгу. Состоялось знакомство.
Минский работал над переводом «Илиады», и Потресов, подражая ему, написал «Шахматиаду», в этой поэме с точностью до хода воспроизводил волновавшую тогда просвещенную публику последнюю решающую партию шахматного матча в Будапеште между Чигориным и Харузеком.
В Петербурге Сергей Потресов начал переводить «Метаморфозы» Овидия. Закончив работу, он отправил письмо с переводами «Метаморфоз», а также «Фаэтона» и «Нарцисс и Эхо» Аполлону Майкову. В ответном письме похвалив переводы, тот пригласил автора к себе на дачу в Сиверскую. Позже Сергей Потресов неоднократно посещал Аполлона Николаевича, привез ему изданную книгу стихов, про которую мэтр сказал, что автор поторопился.
Тогда Сергей Викторович поступил с изданием так, как, по его мнению, делали настоящие поэты: «…я уничтожал потом свою книгу везде, где ее находил. Последний эпизод этого рода произошел уже в Париже» [4]4
Публикуется по автографу (БАР, фонд С. В. Потресова), гранки неизданной книги воспоминаний: Яблоновский С. Карета прошлого. Вместо предисловия, конец 1930-х гг.
[Закрыть]. Тот «парижский» экземпляр он не уничтожил, впрочем, как и тот, который с десятком цензурных штемпелей почти через полвека после смерти деда попал ко мне как щедрый дар молодого ростовского журналиста. По впечатлению Потресова, Майков отнесся к его книге снисходительно, указав на отдельные недостатки, и призывал деда бросить журналистику. Потресов его тогда не послушал и не жалел. «Из моей поэзии, – писал он в Париже, – осталось только одно стихотворение, написанное мною в девятнадцатилетнем возрасте, “Яблоня”, положенная шесть раз на музыку. И до сих пор еще я иногда слышу, как люди декламируют и мелодекламируют:
Полная сил, ароматная, нежная,
Яблоня в нашем саду расцвела».
Перевод «Метаморфоз» Яблоновский предложил Суворину, тот, сославшись на незнание языков, направил его к Буренину, однако к издателю дед не пошел. Он отправился к Полонскому, которому некогда посылал свои стихи, и получил напутствие от известного поэта. На этом петербургские встречи закончились.
Снова Харьков
Тут как раз выяснилось, что харьковской газете «Южный край» требуется фельетонист, Яблоновский вернулся в родной город и увлекся новым делом: «Я на второй странице, – писал он позже, – со всем юным пылом налетал на то, что проповедовалось на первой; харьковцы сразу выделили меня, я быстро вошел в жизнь города, стал членом многих прогрессивных обществ».
Именно благодаря публицистическим выступлениям и театральным рецензиям и портретам в этой газете, к Яблоновскому пришла известность.

Ноты «Яблони», Н. Игнатьев, 1904
Автор антологии «Театральная критика русской провинции» А. П. Кузичева отмечала, что в 1890-е годы очевиден профессиональный рост и влияние провинциальных рецензентов, приводя такой пример: «Вспоминая свою юность, тогдашнюю неудовлетворенность собственной игрой, П. Орленев рассказывал, какую огромную, решающую роль сыграла в его судьбе рецензия С. Яблоновского. В небольшой работе молодого актера критик угадал большой талант». «Разругав в восьми строчках Далматова за роль Грозного, автор посвятил маленькой роли царевича Федора Иоанновича, которую я играл, всю дальнейшую статью <…>. Он писал: “Я уверен, что если свет рампы увидит вторую часть трилогии Толстого, я предсказываю этому актеру (он даже не назвал имени) мировую известность”. Я спросил Качалова и Тихомирова: “А что это за вторая часть трилогии?” Они мне объяснили, и я попросил их достать ее. Они на последние деньги купили трилогию А. К. Толстого и привезли мне. Когда я дошел до пятой картины: “Я царь или не царь”, вылил все оставшиеся напитки в раковину и дал себе слово ничего не пить, пока не сыграю “Царя Федора”. С тех пор почти два года я бредил этой ролью».
Помимо того что сам Харьков в то время считался городом театральным, здесь гастролировали и крупнейшие столичные театры. Постепенно актерский портрет, который до него особенно не был в моде, стал доминирующим жанром в театральной критике Яблоновского: «Развернутых статей, обзоров или театральных портретов в это время газета “ Южный край” не помещала, пока не появился Потресов. Весной 1897 г. он написал большую рецензию о В. П. Далматове в роли Грозного в трагедии А. К. Толстого (“Южный край”, 1897. № 5607. 6 мая). Раздел “Театр и музыка” стал занимать с тех пор заслуженное место, а театральная жизнь города получила интересное освещение».

Харьков, памятник А. С. Пушкину
В своей фундаментальной статье упоминавшийся петербургский театровед В. Сомина пишет: «Яблоновский напечатал цикл очерков под общим заглавием “Около театра”. Они посвящены актерам, с которыми автор был близко знаком, и все же – это не мемуары, скорее работы историко-критического жанра. Афористичные характеристики чередуются с развернутыми описаниями отдельных ролей, иногда определяется творческий метод актера. Так, Стрепетова названа “великой бабой”. Но о ней и подробно в “Семейных расчетах” Н. Н. Куликова, и главное итоговое: “Стрепетова – гений страдания, доведенного до своих крайних пределов. Переходила она и эти пределы <…>.
– Как вы это делаете? – спросил я ее.
– Разве я что-нибудь делаю. Я ничего не делаю…

С. Яблоновский «О театре», обложка
Только душу распинает, а остальное приходит само собой”. В том же журнале поместил Яблоновский “Наброски о Малом театре”, в частности в них тривиальное уже в то время сравнение Москвы с Петербургом выражено изящно и оригинально: “Москва – халат, пиджак, поддевка; Петербург – фрак, визитка, смокинг; московский актер может быть мешковат, несколько провинциален, его так легко представить себе помещиком; петербургский – элегантен, нервен, столичная штучка; московская артистка полна, круглолица, глаза с поволокою; петербургская – фигурой змеиста, лицом худощава, чуть-чуть с истерикой. Они даже говорят на двух разных русских языках <…>”».
В то же время Сомина отмечает: «Эстетическая программа критика весьма расплывчата. Он ценил классический сценический реализм и, прежде всего, актерскую индивидуальность. В 1904 году Яблоновский писал: «Уметь представить свою душу и иметь такую душу, которую бы стоило представить, вот то, что требуется от актера».








