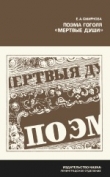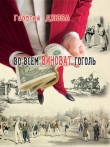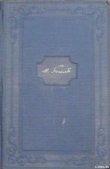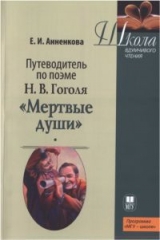
Текст книги "Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»"
Автор книги: Елена Анненкова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Пережив небольшое, но неожиданное и потому неприятное потрясение, Чичиков, пусть и не надолго, но задумывается о своем будущем, и внутренние побуждения героя, до поры до времени скрытые от читателя, проступают на мгновение сквозь заурядность его жизни, столь похожей на жизнь господ «средней руки». Оказывается, Чичикова тревожит возможность прожить, «не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени». «Герой наш, – комментирует автор, – очень заботился о своих потомках» (VI, 89). Бричка Чичикова, на которую «наскакала коляска с шестериком коней», поневоле вынуждена остановиться – и взору героя предстают две дамы, сидящие в коляске: «одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке» (VI, 90). Автор не спешит передать впечатление, которое дамы (прежде всего, «молоденькая») произвели на Чичикова. На первый план вынесена та бестолковая кутерьма, которую вызвало столкновение экипажей, и описание бытовой неразберихи таково, что сквозь незначительный, случайный эпизод начинает проступать бестолковость, бессмысленность автоматически движущейся жизни. Нелепы, беспомощны в этой ситуации все: господа, кучера, мужики, подошедшие из соседней деревни. Коням в этом эпизоде не случайно отведено немалое место. В поведении людей и коней заметно странное сходство: в их действиях если и есть какая-либо логика, то она столь глубоко скрыта, что постороннему взгляду практически недоступна. Все заняты тем, чтобы поскорее развести экипажи, но, оказывается, далеко не все готовы спешить. В этой куче людей и коней обозначается какая-то своя, особая жизнь. «Чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами» (VI, 91). Не так ли и мужики, получившие возможность понаблюдать новое для них зрелище, не спешат разрешить ситуацию, хотя и дядя Митяй, и дядя Миняй, и все прочие пытаются высвободить перепутавшиеся экипажи. Митяй и Миняй как клоунская пара, один «сухощавый и длинный с рыжей бородой», другой «широкоплечий мужик с черною, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка» (VI, 91), словно разыгрывают сценку на городской рыночной площади, где одновременно и торгуют, и устраивают народные театральные представления, и где балаганные деды зазывают народ, привлекая всех немудреными шутками. Гоголевский текст, не нарушая основной логики повествования, захватывает попутно пласты той жизни, которая располагается рядом с жизнью главных действующих лиц поэмы. Всему здесь находится место: чубарому коню, умудряющемуся засовывать «длинную морду свою в корытца к товарищам, поотведать, какое у них было продовольствие» (VI, 90); некоему Андрюшке, который из наблюдателя выдвигается в действующее лицо, усаживаясь «на присяжного» в то время, когда дядя Митяй и дядя Миняй «сели оба на коренного».
Этому бестолковому или просто непонятному движению и противопоставлено в тексте то оцепенение, в которое неожиданно впадает Чичиков, не отводящий глаз от «молоденькой незнакомки». Экипажи разъехались, дамы скрылись, а Чичиков какое-то время не может прийти в себя. Способность испытать потрясение свидетельствует о живых началах его души, даже если они сохраняются на какой-то невиданной глубине.
Пожалуй, впервые авторское лирическое размышление – о явлениях, случайно встречающихся человеку среди «черствых, шероховато-бледных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов» жизни и не похожих «на все то, что случалось ему видеть дотоле» – уравнивает дельца Чичикова с другими лицами, занятыми совсем иными трудами и привыкшими размышлять о литературных и духовных вопросах. Понятия, явно не из чичиковского лексикона («поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость…» – VI, 92) оказываются отнесены и к Чичикову, можно сказать, подарены автором герою.
Однако одухотворенное и низменное, высокое и обыденное, как мы помним, в гоголевском тексте всегда располагаются рядом. В прагматичном Чичикове признана способность испытать «чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь» (там же), но далее сказано, что герой «уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера» (VI, 92–93), поэтому размышления его о «славной бабенке» выдают прежнего Чичикова, далеко не романтика.
Меняя тональность повествования, переходя от лирического размышления и пафоса к трезвому, аналитическому взгляду на жизнь и вновь отдаваясь мечтам, которые позволяют забыть «и службу, и мир, и все, что ни есть в мире», автор и выстраивает тот всеобъемлющий образ бытия, который нуждался в особой жанровой природе.
Подъезжая к имению Собакевича, Чичиков мог заметить, что дом помещика так же крепок, прочен, монолитен, как он сам. «Вкус хозяина», проявившийся в постройке дома, и становится предметом авторской иронии, а читатель при этом может поразмышлять о соотношении красоты и пользы и о возможности (или невозможности) гармонии между ними. «Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин – удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для темного чулана» (VI, 94). Читатель может посмеяться над Собакевичем, который приказал «одну колонну сбоку выкинуть», в результате «фронтон тоже никак не пришелся посреди дома», красота, как можно догадаться, при этом была потеснена (или даже вытеснена) пользой. Однако Чичиков замечает, что «на конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна», «деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирченых стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует» (там же). Там, где приходится выбирать между «узорами» и прочностью, лучше выбирать последнее; ведь и в народной эстетике красота сама по себе не абсолютизируется, она всегда функциональна. Любопытно, что во втором томе один из любимейших героев Гоголя, Костанжогло, говорит Чичикову: «Смотрите, погонитесь так за видами, останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придет» (VII, 81).
Манилов, который любит разные «узоры», гармонии между пользой и красотой также не достиг: в его доме Чичиков замечает иную, чем у Собакевича, но также асимметричность – мебель была обтянута «щегольскою шелковой материей… но на два кресла недостало» и они были «обтянуты просто рогожею». В сопоставлении с героями предшествующих глав Собакевич выглядит если и не выигрышно, то, во всяком случае, в хозяйственном отношении, предсказуемо, надежно. Сравнение его с медведем, лишь, с одной стороны, принижает героя, уподобляет зверю; с другой – вызывает фольклорные, важные для писателя ассоциации: в славянской культуре медведь занимал особое место. Считалось, что встреча с медведем в пути служит добрым предзнаменованием, а съевший сердце медведя исцеляется от всех болезней сразу; шерстью медведя окуривали больных – от испуга и лихорадки; отвар из медвежатины пили от грудных болезней, а когти и шерсть использовали как амулет для защиты от сглаза и порчи.
В легендах утверждалась особая связь медведя и человека: человек якобы был обращен Богом в медведя за убийство родителей, за отказ страннику или монаху переночевать и другие прегрешения. Считалось, что если снять с медведя шкуру, то он выглядит как человек; у него человечьи ступни и пальцы. Он умывается, любит своих детей. Доказательство человеческого происхождения медведя охотники видели в том, что на медведя и человека собака якобы лает одинаково. Также считалось, что медведь близко знается с нечистой силой; что он может одолеть и изгнать водяного, а черт его боится. Чтобы не допустить к скоту «лихого домового», в конюшне вешали медвежью голову. Медведя опасались упоминать вслух и называли «он», «сам», «хозяин», «дедушка», «мельник», «черный зверь», «старый» и т. д. Называли и личными именами: у русских – Миша, Михайло Иваныч, Потапыч, Топтыгин. Образу медведя присуши были также брачная символика и символика плодородия [46]46
См.: Гура А. В. Медведь // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 255–258.
[Закрыть].
Аналогия Собакевича с медведем не так проста, как может показаться. Первое, что она подсказывает нам, – возможность двойной интерпретации героя. Сходство с сильным зверем, хозяином леса, выявляет уверенность Собакевича, его силу, отсутствие каких-то утонченных запросов, а вместе с тем укорененность в жизни, и, следовательно, можно сказать, укорененность героя в национальном бытии, которая ни хороша, ни плоха, а присутствует как данность. Читатель может допустить, что часть тех свойств, которыми народное сознание наделяло медведя, потенциально присуши и Собакевичу. Сила и притягательна, и опасна, может послужить во благо, но может принести и вред. Любопытные рудименты медвежьих способностей героя мелькают в тексте: Собакевич имеет привычку наступать на ноги; зная о ней, Чичиков, идя рядом с хозяином, уступает ему дорогу, но и Собакевич «казалось, сам чувствовал за собою этот грех». В народной традиции переступание медведя через человека приносит пользу; медведь-Собакевич словно хранит бессознательно в своей генетической памяти это знание и старается не наступить, а переступить через ногу рядом идущего человека, что, однако, не всегда ему удается.
Но в тексте встречаются загадочные определения. Говоря о стоящих в гостиной столе, креслах и стульях, автор поясняет: «…все было самого тяжелого и беспокойного свойства» (VI, 96). Что значит «беспокойного»? Рядом с эти словом и прилагательное тяжелый перестает быть качественным и становится относительным. А ведь только что казалось – «все было прочно», хотя и «неуклюже». Мебель Собакевича не просто похожа на медведя, она странным и даже парадоксальным образом одухотворена. Может быть, ее «беспокойство» в том, что «каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: и я тоже Собакевич! или: и я тоже очень похож на Собакевича!» (там же). Мебель похожа на Собакевича, похожа, вероятно, и на медведя. Создается впечатление, что предметы, как и гоголевские герои, озабочены своим статусом, стремятся означить свое существование, их покой и неподвижность мнимы.
Так же и в Собакевиче, сквозь безапелляционность его суждений (вспомним высказывания о чиновниках города: «дурак», «разбойник», «мошенник») проступает совершенно неожиданно (правда, единственный раз) неудовлетворенность своей жизнью. В главе VII в разговоре с председателем палаты Собакевич посетует на то, что ни разу в жизни ничем не поболел. «Нет, не к добру! Когда-нибудь придется поплатиться за это» (VI, 145), – произносит он и даже погружается в меланхолию. Прокомментировать данный фрагмент текста имеет смысл позже, в ходе рассмотрения контекста главы VII, но и здесь можно отметить, что Собакевич хотел бы пройти через все те жизненные коллизии, которые испытывают человека.
Пока же, не задумываясь глубоко о себе, а лишь осуждая других, Собакевич бессознательно сближается с авторами духовных сочинений, укоряющих человека в отступничестве от Божьей правды и веры. Слова, сказанные Собакевичем о полицеймейстере, похоже, недалеки от истины – «продаст, обманет, еще и пообедает с вами» (VI, 97). Михайло Семенович имеет право назвать своих знакомых «христопродавцами», однако высказывание его в целом приобретает и комическую интонацию, а лексика обнаруживает в нем вполне мирского человека: «Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья» (VI, 97). Собакевичу, однако, нельзя отказать в проницательности: прокурор, действительно, окажется наиболее порядочным человеком, история с Чичиковым поразила его больше других. Пытаясь понять ее смысл, прокурор «стал думать, думать и вдруг… умер» (VI, 207).
Раздавая всем нелицеприятные характеристики, Собакевич упоминает Гогу и Магогу, сравнивая с ними губернатора и вице-губернатора. В данном случае Гоголь использует библейские имена. В Книге пророка Иезекииля описывается Гог, князь в земле Магог, правящий и другими варварскими племенами. Он идет в поход против Святой земли и терпит полное поражение. Магог, как полагают, обозначает Скифию, обширную степную страну к северу и северо-востоку от Кавказа и Каспийского моря. Гог и Магог обозначают державы языческого мира, которые, несмотря на все усилия, направленные против царства Божия, не одолевают его. О Гоге и Магоге как о царях нечестивых народов говорится в сказаниях об Александре Македонском, популярных в Древней Руси; эти сюжеты перешли в народные сказки и лубочные картинки. Собакевич, таким образом, проявляет некоторую культурную эрудированность, точнее, осведомленность. Но характер его высказывания свидетельствует о том, что он знает не столько первоначальный источник – Библию, сколько народное и древнерусское книжное осмысление библейских сюжетов.
Глава построена на последовательном, но принципиально не объясняемом автором чередовании фрагментов, достаточно разнородно представляющих героя. Торг, который ведет с Чичиковым Собакевич, обнаруживает в нем «кулака», как про себя называет хозяина гость. Изворотливый, находящий со всеми общий язык Чичиков испытывает затруднение. О неподатливости Собакевича говорит и его поза, неподвижная, не меняющаяся в ходе разговора. Дважды повторяется; «все слушал, наклонивши голову», в третий раз – «слушал, всё по-прежнему нагнувши голову… Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности» (VI, 100–101). Знаменателен этот переход в тексте от описания позы, т. е. внешнего положения человека, к его душе. Чем далее движется поэма, тем настойчивее автор стремится за внешним рассмотреть внутреннее и развернуть сознание читателя к его собственной душе.
В ходе заключения торговой сделки, тем более столь сомнительной, душа Собакевичу совершенно не нужна. Но мы замечаем, что автор говорит не об отсутствии ее у героя, а о том, что она «закрыта… толстою скорлупою». Следуя христианскому пониманию человека, автор никому не отказывает в возможности возрождения, хотя и знает, что без собственных усилий человека это не может произойти.
Сам Собакевич о собственной душе думает менее всего и уж тем более не говорит о ней. А вот категория души в тексте появляется неоднократно, и хотя речь идет о покупке душ умерших крестьян, некоторые восклицания Собакевича (думающего только о выгоде), невольно для самого героя, обнаруживают странность, абсурдность и даже недопустимость происходящего. «Право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа» (VI, 105), – возмущенно говорит Собакевич Чичикову. Таким образом и проступает в гоголевском повествовании «бездна» смыслового «пространства»; герои пребывают в сугубо бытовом измерении, а автору ведомо и другое, и он готов приблизить к нему своих героев, зная о пусть скрытой «толстою скорлупою», но все же живой душе. Автора тем более удручает жизнь, чем более видится в ней, как позже будет сказано, «тьма и пугающее отсутствие света», и чем более иронизирует он над нелепыми героями, тем сильнее его желание увидеть потенциальное устремление к свету в самой жизни.
Переговоры, однако, каждый старается завершить с выгодой для себя, и это почти удается, хотя побеждает скорее Собакевич, который в ходе разговора начинает даже менять позу: он говорит, «уже несколько приподнявши голову», поняв, что может сорвать нечаянный куш. Чичиков вынужден признать: «Кулак, кулак!., да еще и бестия в придачу!» (VI, 107). Но мы замечаем, что этот кулак ведет себя подчас странно. Обходясь до поры до времени краткими высказываниями, он вдруг «вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова» (VI, 102). В какой момент прорезается этот дар слова? – когда он возмущается «христопродавцами» и когда расхваливает умерших крестьян. Но говорит он так, словно никто из них не умирал, ни каретник Михеев, ни сапожник Максим Телятников, ни плотник Степан Пробка, ни Еремей Сорокоплехин, торговавший в Москве. Конечно, ему нужно выигрышно представить «товар», но Собакевич умен, умен и его собеседник, и им не нужно притворяться друг перед другом. Однако торгующий мертвыми душами Собакевич говорит о них: «Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души, а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик» (там же).
В сравнении мертвой души с ядреным орехом содержится, конечно, комический эффект, но абсурдный по смыслу монолог Собакевича свидетельствует и о том, что он прекрасно помнит всех своих мужиков. Рассказ об их талантах увлекает, подчиняет себе героя. Он погружается в стихию народной жизни, с ее бесшабашной удалью, духовным потенциалом, с ее тайной. Собакевич словно оживляет ушедших из жизни крестьян, и в этой способности оценить дар человека он сближается с автором. Автор ему передоверяет сказать то, что сам мог бы рассказать о крестьянах. И в самом восхваляющем народных умельцев Собакевиче начинают проступать черты тех героев, полководцев, портреты которых висят на стенах его гостиной; как Багратион он готов повести народную армию навстречу невиданной победе.
Главу завершает авторское рассуждение о русском народе, о способности его выражаться сильно и метко. Не вырвавшаяся ли на минуту из-под «толстой скорлупы» душа Собакевича, проявившиеся в нем «рысь и дар слова», позволили автору так оптимистично отозваться на живо звучащее русское слово и заметить, что нет другого слова (ни у британца, ни у француза), которое «так бы кипело и живо-трепетало» (VI, 109)?
МИР КАРТИН, ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И ФОЛЬКЛОРНОГОЕще в ранних статьях, включенных в сборник «Арабески» (1835), Гоголь высказал немало интересных соображений о живописи. В Петербургских повестях он создает несколько образов живописцев, исследуя сложную природу искусства. Живя в Италии, писатель знакомится со многими европейскими мастерами и следит за судьбой русских художников, проявляя наибольший интерес и симпатию к А. А. Иванову. Гоголь был хорошим знатоком живописи, но может показаться, что в «Мертвых душах» эти знания ему оказались не нужны: в поэме искусству уделено достаточно специфическое место.
Никто из героев не увлекается живописью и не рассуждает о ней. Однако картины упоминаются уже в первой главе. Чичиков осматривает отведенный ему покой и замечает – вместе с автором, – что интерьер гостиницы не отличается оригинальностью. При рассмотрении первой главы уже шла речь о том, что в тексте неоднократно встречается местоимение тот же: «тот же закопченный потолок», «те же стены», «та же копченая люстра». В этом ряду упомянуты и «те же картины во всю стену, писанные масляными красками», но именно в них, раньше чем в других предметах, отмечена некоторая неожиданность: «…Все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал» (VI, 9). Нарушение нормы, пропорции в произведении искусства (каким бы оно ни было) быстрее бросается в глаза, чем в каких-либо предметах быта. Картина, пусть даже без какой-то конкретной цели вывешенная на стене, сразу попадает в поле нашего зрения, невольно побуждая задуматься о ее смысле. Откуда взялась столь странная «нимфа»? Что означает несоразмерность в ее облике? Бездарность художника? Личные его пристрастия к крупным формам? А, может быть, это попытка таким неудачным образом выразить ту тягу к богатырству, которая свойственна национальному характеру? То объяснение, которое предлагает автор, на самом деле далеко не все объясняет: «Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров» (там же). Даже если картина создана не российским живописцем, то «прижилась», обрела свое прочное место именно в российской гостинице. Во всем этом можно увидеть и отсутствие вкуса у «наших вельмож», и незнание ими искусства подлинного, но, вместе с тем, – тягу к нему, желание удовлетворить не всегда осознаваемые потребности души, и быстрое охлаждение к только что зародившемуся интересу или следованию моде: картина каким-то образом оказалась в провинциальной гостинице. Словом, много загадок (быть может, и не заслуживающих серьезного внимания) таит эта вскользь упомянутая картина. Говорить о ней для автора едва ли не труднее, чем о той «возвышенной, прекрасной» живописи, которая анализировалась Гоголем в статье 1831 г. («Скульптура, живопись и музыка») и в которой виделась способность соединить «чувственное с духовным» (VIII, 11).
Как ни странно, в доме Манилова картин нет, во всяком случае они не упомянуты. При всем тяготении к изысканности Манилов равнодушен к истинной красоте, предпочитая словесные витиеватые и незавершимые сюжеты об отраде дружеского общения.
А вот в доме Коробочки Чичиков находит картины. Приехав ночью, герой не очень внимателен, но главное все же улавливает – «картины с какими-то птицами». Проснувшись на другой день, он замечает, «что на картинах не все были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, что нашивали при Павле Петровиче» (VI, 47).
Соседство исторических имен и многократно упомянутых птиц бросается в глаза. Перед нами своего рода модель русского мира, гротескно представленная: историческое и бытовое располагаются рядом, но это соседство далеко от продуманности, системы; всему находится место, но логика взаимосвязи не поддается моментальной расшифровке.
Об истории в поэме Гоголя говорят прежде всего имена исторических деятелей. Они приблизительно очерчивают и время действия «Мертвых душ» – описанные события происходят после войны 1812 г.: военные действия ушли в прошлое, о них напоминают портреты, но это прошлое еще достаточно живо, хотя и вытеснено на периферию национального бытия.
Исследователи, определявшие хронологические рамки сюжета, назвали 1830—1840-е годы, но допускали и более ранние границы: 1810—1820-е. Апеллируя к упоминаемым в поэме реалиям (неурожаи, эпидемии, введение в обиход бумажных денег – ассигнаций), допускали и достаточно широкие границы. Убедительной представляется точка зрения Е. Ф. Никишаева, полагающего, что действие в поэме относится к середине 1810-х – 1820-м годам [47]47
См.: Никишаев Е. Ф. Когда Чичиков скупал мертвые души? // Филол. науки. 1976. № 1. С. 100–106.
[Закрыть]. Авторская фраза «вскоре после достославного изгнания французов», упоминание модной баллады Жуковского «Людмила», написанной в 1808 г. и еще не забытой читателями, может быть, и благодаря полемике о жанре баллады, которая развернулась в 1816 г., а также реминисценции из «Евгения Онегина» Пушкина позволяют считать, что действие могло происходить начиная с середины 1810-х до 1830-х годов.
Отечественная война и национальный герой Кутузов являют, таким образом, некий важный фон русской жизни, обыденной, подчас мелкой и пошлой, но помнящей о героическом прошлом. Убитый в результате дворцового заговора Павел I, удержавшийся на престоле всего четыре года, – напоминание о некоем важном историческом переломе, происшедшем в начале нового столетия: цареубийство произошло в марте 1801 г., и взошедший на российский престол Александр I начал проводить иную политику, чем его отец. На картине в доме Коробочки изображен не Павел I, а неизвестный человек в мундире павловской эпохи. Сошедший с исторической арены император был педантом в воинском деле и «мундиру» уделял немало внимания. В александровскую эпоху люди старшего поколения (к которым могли относиться и родители Коробочки) подчас тосковали о прежних временах, хотя в общественном сознании Павел не без основания считался правителем, который наказывал без вины и вознаграждал без причины.
Соседство птиц и Кутузова не может не удивить. Неожиданный птичий контекст способен снизить героический ореол полководца. Но если вспомнить, что птицы – не случайные существа в мифологическом и фольклорном мире, а Кутузов имел репутацию полководца, особо чтимого народом и выражающего народное понимание истории, то все встает на свои места. А «безмозглая» хлопотунья Коробочка совершает действие, подобное доблестному штурму города, хотя и в мирное время. Приехавшая в губернский город, чтобы узнать, не продешевила ли, продав Чичикову мертвые души, Коробочка нарушает то спокойное состояние, в котором город находился: «Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город» (VI, 190). Так что к Коробочке вполне применимы меткие народные пословицы: «Курица кудахчет на одном месте, а яйца кладет на другом», «Птичка невелика, да ноготок востер» [48]48
Снегирев С. М. Русские народные пословицы и притчи. М., 1998. С. 148, 225.
[Закрыть].
Больше всего картин находит Чичиков в доме Собакевича: «На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные» (VI, 95). В. А. Воропаев прокомментировал имена, названные Гоголем. В картинной галерее Собакевича висят портреты героев греческого национально-освободительного движения 1821–1829 годов: Александроса Маврокордатоса, Андреаса Миаулиса, Константиноса Канариса, Теодороса Колокотрониса. Но это менее всего «портреты» в привычном смысле слова. В доме Собакевича Чичиков видит лубочные картинки, на которых в соответствии со спецификой народной эстетики изображения известных исторических деятелей напоминают карикатуры. Реально-историческая Бобелина (точнее Боболина), отмечает исследователь, имеет весьма отдаленное отношение к лубочной Бобелине, украшающей гостиную Собакевича. Она приобрела широкую известность в России, а в 1823 г. на русский язык был переведен роман немецкого писателя Христиана Августа Вульпиуса «Бобелина, героиня Греции нашего времени». Лубок, изображающий Бобелину, был чрезвычайно популярен в народе и являлся своеобразным украшением почтовых станций и постоялых дворов [49]49
См. комментарий В. А. Воропаева в кн.: Гоголь Н. В. Мертвые души. М… 1988. С. 385–386.
[Закрыть].
Мы видим, что фольклорное и историческое в данном описании неотделимы друг от друга. Перед нами своего рода народный вариант истории. Но, следовательно, хотя и в лубочном варианте, но история в этой главе заняла свое полноправное место.
Давно замечено, что Гоголя занимала тема богатырства, и она была связана с осмыслением природы русского человека. Почитание богатырства можно найти в народной культуре. Оно воплощено прежде всего в былинах и легендах. Былинные богатыри обладают не только большой физической силой, но подчас сверхъестественными свойствами. Вместе с тем об Илье Муромце К. С. Аксаков сказал в свое время, противопоставляя его Святогору: он «не принадлежит к титанической, но к богатырской эпохе; он есть величайшая, первая человеческая сила» [50]50
Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 287. Курсив Аксакова. – Е.А.
[Закрыть]. Вот и Гоголя занимали возможности силы собственно человеческой, как физической, так и духовной. Мотив богатырства, отмечает современный исследователь, проходит через все произведение Гоголя. «Образы Собакевича, Чичикова, Ноздрева, даже Манилова и самой скопидомки Коробочки… имеют эпическую подоплеку, связаны с древнеэпическими „прототипами“, как отечественными, так и иноземными (в том числе гомеровскими) не только типологически, но и осязаемыми генетическими нитями. При этом в Собакевиче, Ноздреве ощутим и богатырский замес этих характеров, реализованный, разумеется, отнюдь не в прямой, но сложно-двусмысленной травестийной форме» [51]51
Недзвецкий В. А. Русский социально-универсальный роман XIX в. Становление и жанровая эволюция. М., 1997. С. 88–89.
[Закрыть].
Собакевич, если соотнести его с портретами-картинками, окажется на фоне истинных полководцев и героев уподоблен Багратиону, едва заметному рядом с Бобелиной и другими великанами. «Между крепкими греками» русский полководец, «тощий» и «худенький» почти не бросается в глаза. Но, может быть, в нем таким образом подчеркнута именно «человеческая сила», которая не нуждается в фольклорно-мифологическом преувеличении и не допускает лубочной карикатуры. Герой Отечественной войны, получивший на поле боя смертельную рану, заслужил право быть изображенным в человеческий, а не исполинский рост. Его богатырство – не внешнее, не сугубо физическое. Наделенный изрядной физической силой Собакевич, быть может, мечтает о силе другой. Вспомним его сожаление, что ни разу еще не поболел. Судьба Багратиона – не судьба Собакевича, но высокий, героический и жертвенный смысл жизни полководца – бессознательная мечта помещика, похожего на медведя.
Недаром имена исторических лиц появляются в главе еще раз и в знаменательном контексте. Расхваливающему своих крестьян Собакевичу Чичиков напоминает, что их уже нет в живых, что все это «мечта». «Ну нет, не мечта!», – возражает Собакевич и вспоминает наделенного необыкновенной «силищей» Михеева: «…Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!» (VI, 103). Он произносит эти слова, «обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони», «как будто призывает» их в «посредники» (там же). Непрерывающаяся связь настоящего с героическим прошлым по-своему закреплена решительным словом Собакевича.
И в доме Плюшкина мы встречаемся с картинами, вновь напоминающими о героическом военном прошлом. Среди «весьма тесно и бестолково» размешенных на стенах картин можно было увидеть «длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями» (VI, 115). Неизвестно, какое сражение изображено на гравюре. Сюжет можно истолковать и как напоминание об энергичном, действенном прошлом, и как знак бестолковости, суеты, сопровождающие исторический путь человечества. Оттеняют эти ушедшие в прошлое сражения другие изображения, становящиеся знаком иной жизни. На «огромной почерневшей картине» были изображены «цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанья морда и висевшая головою вниз утка» (там же). В прежней жизни Плюшкина (когда приобретались или вывешивались эти картины) находили себе место и исторические сюжеты, и натюрморты. И у самого героя между историей и эмпирической жизнью не было раздора, противостояния. Заняв свои места в доме, эти полотна, теперь уже почерневшие, по-своему олицетворяли согласие между героической, воинской и обыденной жизнью. Но как в судьбе человечества в целом, так и в пути отдельного человека, гармония не удерживается долго. Плюшкин «воюет» с Маврой и крестьянами; арбуза и цветов не видно в их доме, а «кабанья морда» и «утка» – лишь изображения; Плюшкин давно ходит на другую «охоту»; на улицах деревни он собирает «всё, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок… „Вон, уже рыболов пошел на охоту!“ – говорили мужики» (VI, 117).