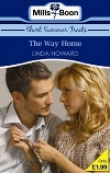Текст книги "Бедная Настя. Книга 7. Как Феникс из пепла"
Автор книги: Елена Езерская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Ваше высочество… – попыталась первой заговорить Анна, но Мария остановила ее.
– Вы тоже полагаете, что удел супруги наследника престола – производить на свет детей для продолжения рода и вести бессмысленный светский образ жизни? – не без иронии спросила она, пристально глядя Анне в глаза.
– Я считаю, – смело ответила та, не избегая ни этого взгляда, ни прозвучавшего в вопросе вызова, – что мне, как и любой вашей подданной, важнее всего знать, что та, от кого, быть может, вскоре станет зависеть судьба людей и государства, наделена не только навыками повелевать, но и сердечностью и широтой души, которые привлекают к себе сердца простых граждан.
– Достойный ответ, – после некоторой паузы кивнула Мария, делая жест, приглашающий Анну присесть на обитый бархатом табурет с витыми ножками, стоявший рядом с кушеткой, на которой устроилась великая княгиня. – Вижу, вы ничуть не изменились, баронесса, а это внушает мне надежду, что выбор, который вы сделали, обратившись первым делом не ко мне, а к его высочеству, вызван какими-то иными причинами, нежели предположением о моей неспособности решать важные дела.
– Так вы знаете? – растерялась Анна.
– При дворе не бывает тайн, и уж вы-то должны это знать, как никто другой, – вздохнула Мария, – но поскольку я подозреваю в том обычное своеволие княжны Репниной, то думаю – вы всего лишь стали заложником ее бесцеремонности.
Анна не нашлась что ответить – выдавать оказавшую ей (пусть и медвежью) услугу Наташу она не хотела, но и не признать справедливости слов великой княгини не могла, слишком уж очевидно это было.
– И вот опять вы демонстрируете образец добродетели, – ласково улыбнулась Анне Мария, и от этого взгляда у нее потеплело на душе. – Знаете, не так часто в наши дни можно встретить человека из тех, кто готов скорее позволить обвинить себя, нежели самому стать обвинителем. Даже, если таковой поступок оправдан и закономерен… Я рада, что с вами не случилось того, что прежде было объявлено. И, несмотря на то, что мне было приятно принять на себя заботу о ваших детях, я счастлива, что они вновь обрели мать. Надеюсь, что теперь вы, как и прежде, станете неразлучны. Однако, знайте, что я не снимаю с себя ответственности за них и готова и дальше оказывать им покровительство, ибо наслышана о лицейских литературных успехах вашего сына и полагаю, что со временем дочь ваша может стать одной из лучших воспитанниц нашего Смольного.
– Я бесконечно признательна вашему высочеству за заботу, – склонила голову Анна, – и приношу свои извинения за то, что невольно заставила вас страдать…
– Пустое, – кивнула Мария. – Ни я, ни вы не в силах изменить предначертанного свыше, и есть единственный способ совладать с этим – смирение и молитва. Господь помогает мне преодолеть все трудности супружеской жизни, и я прошу Всевышнего только об одном – здоровья для супруга моего и детей моих…
Мария на минуту замолчала и перекрестилась на икону Казанской Божьей Матери, и Анна поняла – она про себя помянула недавно умершую семилетнюю дочь Александру, своего первого ребенка, названную в честь мужа.
– Вы же, как я слышала, теперь вдова… – снова обратилась к Анне великая княгиня.
– Беда не приходит одна, – вздохнула Анна. – В один год я лишилась и любимого супруга, и отца, и сестра моя весьма нездорова.
– Я буду молиться и за вас. – Мария протянула Анне руку, и та поднялась, чтобы принять это неожиданное рукопожатие. – А знаете, я бы хотела, чтобы вы вернулись ко двору… Мы мало успели сказать друг другу в то время, когда вы учили музыке детей его величества, но мне всегда была по душе ваша прямота и честность, ваше умение заглянуть вглубь души и распознать там сокровенное, скрытое от чужих, посторонних глаз. Этих качеств так не хватает сейчас среди тех, кто окружает меня. И даже не раз клявшаяся мне в верности Натали…
Голос Марии задрожал, и она не смогла завершить фразу. Ей стало дурно, Мария побледнела и, кажется, стала терять сознание. Анна немедленно подхватила ее и усадила на кушетке, следя за тем, чтобы спина держалась ровно и голова не завалилась. Потом, оглядевшись, Анна нашла на туалетном столике пузырек с нашатырем и, открыв его, поднесла к лицу Марии. А когда та очнулась, Анна разыскала кувшин с водой, стоявший за ширмой в альковной части покоев, и принялась смачивать лицо и шею великой княгини, осторожно массируя ей виски и затылок. И лишь добившись, что кожа ее слегка порозовела, а помутневшие было зрачки прояснились, Анна взяла лежавший рядом с Марией на кушетке веер и принялась обмахивать им великую княжну.
С одной стороны, бледность вообще была свойственна Марии, но Анна заподозрила, что нездоровье это имеет и другое объяснение. Поначалу она неизбежно сравнила то, как выглядела сейчас Мария с состоянием сестры, приобретшей на пожаре легочную недостаточность, а если учитывать то, что Марии уже давно приписывали чахотку… Но нет, здесь все же было что-то другое.
– А его высочество знает о вашей беременности? – тихо спросила Анна, помогая очнувшейся от приступа слабости Марии подняться и сесть.
– Вы догадались? – слабо кивнула Мария. – Я не говорила об этом даже моему лейб-медику.
– Но почему? – спросила было Анна и спохватилась. – Ах, да, понимаю, вы полагаете, что супруг ваш, переживая недавнюю утрату, не сможет с должной радостью принять этот дар?
– Вы спрашиваете, верю ли я, что его нынешнее веселье в кругу фрейлин связано с тем, что Александр Николаевич пытается забыться, отстраниться от потери нашего первого ребенка? – вздохнула Мария. – Я думала и об этом, но все же по рассуждению пришла к мысли о том, что его влечет к Натали не пережитое нами горе, а моя неспособность находиться в постоянном ощущении праздника, которого он ждет… Знаете, когда мы только встретились с ним, меня потрясла и вдохновила его способность глубоко чувствовать и рассуждать, но потом, позже, опасно, безвозвратно поздно! – я поняла, что ошиблась, принимая ухаживания за образ мысли, а стремление понравиться мне – за характер.
– Но разве неверна мудрость, которая учит нас, что сходятся только противоположности? – попыталась утешить свою собеседницу Анна. – И не потому ли Александр Николаевич остановил свой выбор на вас, что вы являли для него образец совершенства?
– Образец, быть может, – да, но земной идеал он всегда искал в ком-то другом, – печально промолвила великая княгиня и вдруг, подняв на Анну прекрасные голубые глаза, прошептала. – Мне так не хватает его!.. Но не в том смысле, который обычно усматривают в отношении жены и мужа. Мы оба готовимся нести бремя власти, и, хотя его высочество единственный примет на себя ответственность объявлять решения, я должна буду помогать ему, содействовать ему. Так как мне делать это, если тот, с кем я могу обсуждать насущные вопросы, волнующие мою душу и беспокоящие мой разум, – мой духовник, а не венчанный и законный супруг!
– Ваше высочество, Мария Александровна. – Анну растрогала ее искренность и необычная страстность. – Я уверена, что, узнав о ребенке, великий князь оставит прежние утехи и вернется к вам…
– Вполне возможно, – кивнула Мария, – так и было уже не раз, но мне больно осознавать, что это – единственный способ заставить мужа вспомнить обо мне и о моем существовании. Я все время жду, что он придет ко мне, не как счастливый отец, а как будущий император к своей императрице.
– Я преклоняюсь перед вами, ваше высочество, – воскликнула Анна: она впервые поняла, насколько велика сила духа этой удивительной женщины. Мария сумела подняться над обидой и ревностью, над простыми и понятными, всегда находившими оправдание в глазах окружающих, чувствами, посвятив себя подвижничеству самой главной, централизующей идеи государства – монарха, мужчины, которому предстоит принять на себя тяжкое бремя управления великой державой. Она готова была отмолить все его прегрешения, сняв с него тяжесть покаяния, дабы оно не отвлекала супруга от важных дел. И сейчас чахла оттого, что он не осознает ее жертвы, и за физическим нездоровьем не видит силы, способной всегда и во всем поддерживать его.
«Она святая», – подумала Анна и озаренная этой простой и ясной мыслью по внезапному порыву души опустилась вдруг перед Марией на колени и поцеловала ее руку.
– Что вы, баронесса, что вы, – растрогалась великая княгиня и царственным жестом велела ей немедленно встать, – я не хочу, чтобы та доверительность отношений, которой уже было отмечено наше знакомство в прошлом, была утрачена ввиду преувеличения вами моих слабых, человеческих сил.
– Но… – попыталась было возразить Анна.
– Я польщена тем, что могла бы найти в вас поклонницу моей веры, но не хочу терять в вас друга, на простоту и доступность которого хотела бы рассчитывать впредь. Я прошу вас войти в мою свиту и стать моим доверенным лицом, о чем я в самое ближайшее время буду говорить с его величеством, и уверена, он не откажет мне.
– Вы можете полностью распоряжаться мною, ваше высочество, – кивнула Анна, поднимаясь и отвечая согласием на предложение Марии.
– Я не стану вас закабалять, – улыбнулась та, жестом отпуская Анну, – возвращайтесь к детям, решайте все свои дела и – помните, что я всегда буду рада видеть вас при дворе…
Глава 4
Договор
На радостях, что поездка во дворец сложилась так удачно, Татьяна всю обратную дорогу болтала без умолку, вознося хвалу то небесам, то его величеству, и все уговаривала Анну тотчас же ехать в Двугорское вызволять Никиту. Анна слушала ее журчание в пол-уха – она была потрясена встречей с Марией и решила во что бы то ни стало увидеться с Натали, и поговорить с нею. Анна не была уверена в результате этой миссии, но и не могла позволить себе промолчать – душа Марии, открывшаяся ей во всей своей незащищенности, взывала о помощи, и Анна искренне хотела ответить посильной благодарностью той, кто была так добра к ней и ее детям…
– Нет, я поеду одна, – покачала головой Анна в ответ на все время повторявшуюся настойчивую просьбу Татьяны взять и ее с собою в Двугорское.
– Но… – попыталась обидеться та.
– Никаких «но»! – Анна была непреклонна. – Ты останешься в Петербурге, будешь вместе с Варварой ухаживать за Лизой и заботиться о детях. А о Никите не беспокойся – я обязательно что-нибудь придумаю. Обещаю тебе, что найду выход и уберегу его от тюрьмы.
Честно говоря, Анна еще не знала, как она сделает это, но что-то подсказывало ей: новая поездка в Двугорское принесет если уж не полную разгадку главной тайны – появления у нее нового родственника, то хотя бы приоткроет завесу над ней.
Не позволив никому поздравлять ее – для этого слишком рано, Анна нанесла визит адвокату Саввинову, поручив ему получение бумаг из канцелярии его величества и попросив завтра же с утра приехать в имение Корфов и решить все дела с «наследником»: на всякий случай Анна попросила поверенного приехать с приставами – она не знала, как сложится их непростой разговор с «бароном» и хотела заранее подстраховаться во избежание возможных провокаций с его стороны. И потом, отобедав у Репниных, она отправилась в Двугорское, чтобы встретиться с Никитой, сидевшим в следственной тюрьме при здании уездного суда.
Кивнув перекрестившей ее на дорогу Варваре, Анна велела кучеру ехать быстро – она хотела объявиться в имении засветло, благо, что ночи уже наступили белые. Анна прекрасно понимала, что, быть может, бросается в самое пекло, но хотела провести эту ночь дома, чтобы проследить за «бароном» и Долгорукой и вместе с тем – помешать им предпринять что-либо до приезда адвоката. Анна была уверена – ее присутствие заставит «барона» затаиться, и тогда у нее будет больше шансов добиться желаемого эффекта неожиданности, когда в имении появится Саввинов.
Однако получить разрешение на встречу с Никитой ей удалось не сразу. Судья был в уезде человеком новым и потому подозрительным. И, судя по всему, уже успел попасть под влияние княгини Долгорукой, умевшей при необходимости быть весьма убедительной. И к тому же Анна увидела, насколько искренней оказалась симпатия судьи к новоявленному барону Корфу – так называемый «Иван Иванович», похоже, не терял времени даром и сделался своим человеком в кругу Двугорского «высшего света», играя в уездном собрании в вист по выходным и выезжая иногда с судьей на охоту.
Все это рассказал Анне Завалишин – самый богатый промышленник в их округе. Завалишин собственным выездом лихо продефилировал мимо нее, и Анна, спохватившись, велела кучеру двигаться следом. Порфирий Матвеевич годами был младше Анны, но еще с юности считался ее страстным поклонником. Он и сам был увлечен театром, влюбившись в это искусство, когда посещал спектакли, которые давала крепостная труппа старого барона Корфа. Анна всегда получала на аплодисментах от неприметного, но невероятно эмоционального сына управляющего в имении еще одного их соседа – князя Озерецкого, трогательный букет фиалок, который тот неизменно умудрялся доставать для нее в любое время года.
Сейчас Завалишин владел крупнейшей лесопилкой в округе и слыл меценатом: привозил время от времени в уезд столичных театральных и музыкальных знаменитостей и поддерживал любительский театр, дававший свои представления в доме генеральши Колосковой. Ростом Завалишин так и не задался, зато приобрел солидный животик, на котором поверх дорогого шелкового жилета висела шедшая от пуговицы к карману заметная золотая цепь для брегета. Порфирий Матвеевич был женат и имел, кроме четверых детей, прекрасный дом в центре города, который купил по сходной цене у бывшего уездного головы, уволенного несколько лет назад за растраты. Вместе с ним, просветил Анну Завалишин, «с почетом» проводили и местного судью, а также начальника полиции и директора уездной гимназии.
Анну, которая, не добившись разрешения на посещение Никиты, отправилась, по знакомым ей прежде чиновникам за поручительством, Завалишин признал сразу, однако из-за волнительности момента прежде обомлел, потом побагровел и стал раздуваться. Но при первых же звуках голоса Анны пришел в себя и кинулся ей навстречу с пылкостью давнего поклонника. Облобызав Анне руки и усадив на самое почетное место в гостиной, он крикнул, чтобы сию же секунду подали кофе и принялся было ее расспрашивать, что и как, но Анна умолила Завалишина отложить разговоры и попросила сопроводить ее к судье, дабы подтвердить, что она – та, за кого себя выдает, и имеет полное право на встречу со своим управляющим. Услышав ее просьбу, Порфирий Матвеевич расплылся в широкой и довольной улыбке – быть слугой для самой Анны Платоновой, первой актрисы уездной сцены, то есть, для баронессы Анастасии Петровны Корф – ему не в тягость, а за счастье посчитать и за честь великую!
И, пока напористый и говорливый промышленник (взявший предварительно с Анны слово, что она скоро не исчезнет и после визита в тюрьму обязательно составит ему на ужине компанию, после чего он, естественно обязуется лично доставить ее в родное имение) развлекал беседою подобревшего судью, Анну провели через внутренний двор из здания суда в помещение для предварительного содержания, где сидел Никита. И когда, слегка остолбенев от тяжелого духа закрытого и грязного помещения, Анна смогла, наконец, войти в камеру, сердце ее забилось в тревоге и предчувствии – интуитивно она поняла, что услышит сейчас нечто важное.
– Матушка! Баронесса! Анастасия Петровна! – рухнул ей в ноги Никита, с трудом сдвинувшийся с лежака. Анна заметила, что выглядит он ужасно: лицо разбито, губы синевой затекли, да и на руках еще видны были следы каких-то рваных ран. – Как манны небесной ждал приезда твоего, помоги, не оставь!
– Господи, Никита! Что ты такое говоришь! Я для тебя всегда – Анна, Аннушка! – воскликнула Анна, помогая ему подняться. – Кто же это так тебя? За что?
– Не помню я, – тихо сказал Никита, опуская глаза. – Говорят, пьян был ужасно, драку с приставами затеял, что пришли меня арестовывать. Только я не отвечаю за то.
– А не отвечаешь-то почему? – растерялась Анна. – И куда тюремный доктор смотрит, тебе же в лазарет надо, раны подлечить.
– Да нас здесь лекарствами не балуют, особенно тех, кто по тяжелому делу идет, а меня вот, кроме поджога, еще и в убийстве обвиняют, – кивнул Никита.
– В убийстве? – не поняла Анна.
– Говорят, перед тем, как имение подпалить, я вашего батюшку, князя Петра Михайловича, то есть, по голове насмерть стукнул. А потом, чтобы скрыть свое преступление устроил поджог, оттого и весь в керосине перепачкался, – пряча от Анны глаза, с горечью прошептал Никита.
– А это еще что за нелепость! – всплеснула руками Анна. – Да кто такое говорит?
– Так полиция же и доктор наш, Штерн, если помните. Он, когда Петра Михайловича нашли, его осматривал и протокол составил, что убили вашего батюшку, а поскольку виноватым в пожаре княгиня меня объявила, то мне убийство и приписали, сказали – чтобы следы своего злодейства замести. – Никита еще ниже опустил голову, и Анна поняла – он прячет от нее слезы.
– А мне почему никто этого обстоятельства не сказал? – нахмурилась Анна.
– Видать решили, чтобы сердце вам не рвать, ну погиб на пожаре и все тут, – всхлипнул Никита, и от созерцания слабости этого сильного и здорового мужика Анне стало сов сем уж тошно. Она подошла к Никите ближе и погладила несчастного по голове, точно был он ребенком маленьким.
– И как же угораздило тебя так, Никита, а? – вздохнула Анна. – Ты-то почему не помнишь ничего?
– Да не то чтобы ничего, – кивнул Никита, – только если бы я кому другому сказал, мне все равно бы не поверили… Я ведь, Аннушка, уже и с жизнью простился и Татьяне сказал, если паче чаяния повезет, и меня не повесят, то чтобы не ждала меня с каторги. Может я ее, кандальную, конечно, и вынесу, только что с меня потом за мужик да хозяин будет. Тень одна и останется.
– Ты погоди себя хоронить, Никита, – решительным тоном сказала Анна. – Лучше возьми себя в руки и расскажи мне все, что было, и все, что помнишь. Только с начала рассказывай, с того момента, как появился в имении этот Иван Иванович. Я почему-то уверена, что все беды твои, равно, как и мои здесь, от него начались.
– Верно, Анечка, думаешь, верно! – Никита вскочил на ноги и заметался по камере, как дикий зверь, запертый охотниками в клетку. – Знал я, что ты все поймешь, все угадаешь! У тебя сердце чуткое, все про справедливость понимает… Мне ведь как Татьяна сказала, что ты живая объявилась, так я во всех святых и в Господа нашего еще крепче уверовал! Я с неделю назад крест, что у меня был, с себя снял и бабке богомольной, что тут проходила, через решетку кинул. Просил, чтобы свечку за тебя поставила во здравие, не хотел принимать, что нет тебя, что уже не увидимся. Так старуха пообещала, что намолит твое возвращение, – не солгала, значит! Есть еще сила святая, есть и у меня надежда на спасение! И самозванца мы разоблачим!
– Самозванца? Так все-таки это правда? – вскричала Анна и тут же осеклась. – Неужели адвокат мне солгал, и он в сговоре с этим «бароном»?
– Ты о поверенном вашем? – переспросил Никита. – Нет, думаю я, что Викентий Арсеньевич, как и все, – обманутый. Умеет этот гад так к человеку подластиться, так обойти, что любого, в чем хочешь, убедит. И ведь главное – документы-то у него все в порядке! Ни с одной стороны не подступишься.
– Так откуда же ты узнал, что он самозванец, этот Иван Иванович? – засомневалась Анна.
– Это не я, это батюшка ваш разузнал. – Никита резко понизил голос, перейдя на шепот, и жестом велел Анне приблизиться к нему. – Петр Михайлович, как этот наследник-то объявился, оказывается, самолично розыск затеял, и про то, кроме меня, никто не знал. Князь меня во все посвятил, и был я его единственным в том деле курьером. Петр Михайлович из столицы сыщика нанял, незаметный такой, тихий был…
– А был-то почему? – встревожилась Анна.
– А потому, что нашли его сразу на утро после пожара в лесу, задушенным. Но я-то, слава Богу, уже тогда в тюрьме сидел, а то бы и его мне приписали, – перекрестился Никита. – Мне про то конвоир рассказывал, когда на прогулку ходили, он – мужик добрый, ко всем нам с жалостью относился. Вот и рассказал на радостях, что соседа моего выпустили, а соседом-то купец оказался – из заезжих и небогатый. Он с тем сыщиком последним в трактире в карты играл да все спустил подчистую, вот и притянули его – дескать, «отыграться» решил: убил и ограбил. Только быть того не могло, я знаю – сыщик в трактире для отвода глаз сидел, он меня дожидался, я ему деньги от Петра Михайловича должен был передать, а он мне – для него документ какой-то важный, про «барона» нашего. Только видишь, ни князя, ни сыщика, ни документа!
– Но неужели все в такой тайне было, что ты ничего не знал, кроме того, что отец нанял сыщика? – расстроилась Анна.
– Мне Петр Михайлович велел от всего подальше держаться и меня лишь как курьера использовал, – вздохнул Никита. – Говорил, что дело это опасное, и он не хочет мою жизнь губить… Мне ведь и так плохо было. Сначала в наши края господин Шулер вернулся. Заявился в имение к батюшке вашему и стал на работу проситься, дескать, чего это я на два дома работаю, имения процветают, забот-хлопот много, а он хозяйство знает и готов отвечать за то, что за Корфами числится. Петр Михайлович его прогнал, а он, смотрю, никуда не делся – через день все захаживает, да к княгине! И как князь с нею ни ругался, да Марию Алексеевну убедить-то нельзя – все равно по-своему сделает. А потом этот «барон» объявился! Уж они спелись, голубчики, да так быстро, что меня сразу сомнение взяло, не знакомы ли прежде были, – Шулер у него сразу в порученцах стал, а Полина при доме объявилась. Мне Татьяна после сказала, что не раз видела, как она к новому хозяину в покои шастала то среди дня, а то и ночью – ничуть баба не изменилась, все об одном думает!
– А можешь ли ты мне рассказать, что в тот день произошло, когда случился пожар? – заторопила Никиту с объяснениями Анна.
– К тому и подвожу, – кивнул Никита. – Мне, как я уже говорил, Петром Михайловичем было велено с сыщиком в трактире встретиться. Я на то «свидание» пошел и взял для вашего батюшки от него конверт запечатанный с бумагой. И на словах тот меня предупредил, что это – его отчет о розыске и копия одного важного свидетельства, которое он передаст князю, когда Петр Михайлович с ним за работу рассчитается. Так как дела они с его сиятельством вели тайно, то сыщик, у нас в имении никогда не объявлялся и имени его я не знал, просто сказано мне было – найти в трактире за таким-то столом в такой-то одежде мужчину, а чтобы не перепутать его ни с кем, примету дал – родинка большая, как шишка на щеке у самого левого уха. Так вот, конверт я потом князю отдал, а он, как послание, скрытое в конверте, прочитал – просиял весь и так радовался, и все мне говорил – вот теперь-то мы его прижмем, не выскользнет! А потом дал мне пачку ассигнаций банковских для того сыщика и приказал назавтра с ним встретиться еще раз и обещанный документ взять и пуще глаза беречь. Да только, подозреваю, что сыщик, не дождавшись моего прихода, сам в имение направился, и по дороге убили его.
– А ты подозреваешь кого? – со смутным предчувствием спросила Анна.
– Думаю, тут без Шулера не обошлось, – сказал Никита. – И пролом на моей голове, тоже, полагаю, его рук дело.
– Ты это точно знаешь? – замерла Анна.
– За точность ручаться боюсь, потому что от удара все в голове перепуталось, но голос его помню, его да княгини, – подтвердил Никита.
– А она-то как тут замешана оказалась? – воскликнула Анна, понимая, что подходит, наконец, Никита в своем рассказе к самому главному.
– Ох… – вздохнул Никита, – ты уж прости, Аннушка, что приходится такую тяжесть на тебя взваливать, но только уверен я, что батюшку вашего она и убила.
– Нет! Только не это! – вскричала Анна и сама себя оборвала, испугавшись, что громкий крик ее будет понят неправильно и охранники могут прийти раньше времени, чтобы увести ее из камеры. – Так ты говоришь, что…
– А было все так… – начал свой рассказ побледневший Никита. – В тот день злополучный она к самозванцу с вечера приходила и что-то говорила ему. Я уже давно за ними следил, но с появлением Польки да Шулера делать это стало труднее, но мне все равно удалось понять, что она за Петром Михайловичем следила. И, видать, наш последний разговор подслушала, а потом прямиком – к супостату этому, чтобы, видимо, вместе решить, что дальше делать. Я, как понял, в чем суть, сразу хотел к Петру Михайловичу возвратиться да предупредить, только на пять минут к Татьяне забежал сказать, чтобы на вопросы, где я и что, отвечала, что, мол, по своим делам в уезд с вечера подался, и шуму из-за моего отсутствия сама не поднимала. А, когда выходил из нашей комнаты, меня Шулер подстерег и велел к новому хозяину пойти. Что мне было делать? Я не хотел, чтобы заподозрили, что знаю я про их происки, вот и пошел, и тот со мной долго, с часок так разговоры вел – и ни про что вроде, и как будто предупреждал, что не ту сторону я выбрал, не тому служу. Ну, я ему, конечно, ответил, он меня прогнал, чему рад я был неслыханно – тут же через лес к вашему отцу в имение побежал. А, когда добрался, уже темно было, но я в дом не стал заходить, чтобы внимание к себе не привлекать, – в окошко в кабинете Петра Михайловича условным сигналом постучал.
– И… – не утерпела Анна. – Что папенька? Что он?
– В том-то и дело, что ничего, – понуро опустил голову Никита, – опоздал я, Анечка. Опоздал. Окошко-то приоткрыто было – ночи теплые стояли, да тебе сказали, верно, что жарко было, необычно так. Вот я в окошко и залез, вижу – Петр Михайлович на полу неподвижный, а голова вся – в крови. Я – к нему, а от стены – тень. Я за ней, хватаю, а это – Марья Алексеевна, и в руке у нее – лампа керосиновая, тоже вся в крови. Видать ею она супруга своего и стукнула. Я на помощь звать хотел, да она мне как плеснет керосину из лампы прямо в лицо. Чуть глаза не сожгла, вот я и бросился назад к окну, и потом к колодцу, лицо промыть. А что дальше было, помню плохо – сверкнуло что-то в глазах, голова поплыла, закружилась, ноги сами подкосились. И только голоса – два-то я точно различил: они поближе стояли – княгиня да Карл Модестович, а третий совсем тихо говорил, но я успел услышать, что Марья Алексеевна его Жаном называла, наверное, еще один прихвостень нашего «барона». Вот, а после ты знаешь – пришел я в себя, когда уже имение до последней головешки выгорело. Батюшку вашего после пожара нашли и сначала погоревшим посчитали, ну а про меня княгиня полицейским рассказала – они за мной пришли, когда мужики дворовые мне кружку первача дали, чтобы в себя пришел, они-то думали, что я со всеми пожар тушил. Может, тогда я со злости и обиды страшной и раскидал полицейских маленько, но в тот момент, Анечка, я и впрямь не чувствовал ничего. Только видел перед собой лик этот злодейский и страшный, ведьмачий, – княгиню, будь она проклята!
Договорив это, Никита со стоном сел, опустившись, точно подрубленный, на тюремный лежак и, закрыв голову руками, заплакал.
– Боже мой! – только и могла сказать Анна, выслушав эту страшную исповедь, и, едва не потеряв равновесие, села на нары рядом с ним.
Она не знала, сколько длилось установившееся после этого молчание – Никита горестно сжимал виски ладонями и тихо выл, качаясь взад и вперед, точно юродивый. Анна же, казалось, погрузилась в туманную пелену, что окружает вечерами летние болота – и стоять нельзя, и идти некуда, все одно – топь. И от вида потерянного Никиты, от беспросветности тюремной и от сознания необратимости собственного горя, она ощутила внутри себя на миг такую безысходность, что уже готова была и руки опустить – все, к чему она стремилась, показалось ей таким малым по сравнению с ужасной смертью батюшки.
– Так что же нам делать-то теперь? – Никита поднял на нее глаза с еще невыплаканными слезами, и Анна словно очнулась – что же это она? Отчего позволила слабости овладеть ее сердцем? Или решила, что раз уж сильный и мужественный Никита плачет, то и ей не грешно? А вот и нет – именно она и не имеет на это права! Ведь сейчас от нее одной зависит и жизнь этого человека, и судьба ее семьи!
– Тебе должно думать лишь о том, чтобы поскорее выздороветь, – твердо сказала Анна. – Я позабочусь о том, чтобы тебя немедленно перевели в лазарет, и доктор осмотрел твои раны. Ты обязан поправиться, и как можно быстрее, потому что мне в самое ближайшее время понадобится твоя помощь. Я доведу до конца то расследование, что начал отец, я раскрою эту тайну и узнаю, кто он – «барон Иван Иванович Корф»! Мы вместе сделаем это, Никита!
– Да как же я стану тебе помогать, ведь я под судом? – вздохнул тот.
– Обещаю тебе, – точно клятву, произнесла Анна, – что завтра же ты выйдешь из тюрьмы.
– Чудес не бывает, – прошептал Никита и махнул рукой.
– Да что с тобой?! – воскликнула Анна. – Ты молился о моем возвращении, ты надеялся на мою помощь, так неужели в тот миг, когда мне открылась горькая правда о смерти моего любимого папеньки, я отступлю? И позволю тебе погибнуть? И убийца останется безнаказанным? Нет! Этому не бывать! Приди в себя и верь, как верил все это время, и Господь не оставит нас – мы узнаем правду.
Анна обняла Никиту за плечи и поцеловала в лоб, нежным, материнским жестом расправив его спутанные, потемневшие от тюремной сырости волосы.
– Мне надо идти, Никита. Но скоро я вернусь за тобой, и тогда все, кто повинен в смерти Петра Михайловича, в болезни Лизы, те, кто принес столько горя моим детям и племянникам, ответят за содеянное зло. И справедливость восторжествует…
Больше всего Анна боялась, что не сможет совладать с собой, выйдя из камеры, где был заключен Никита. Она не хотела, чтобы кто-нибудь, а тем более судья или Завалишин, догадались о том, какое потрясение она испытала, узнав правду о гибели своего отца и пожаре в имении. И, хотя Никита сам не видел, кто поджег дом, Анна не сомневалась, что причастна к этому все та же компания, а, зная склонный к безумным поступкам характер княгини, она готова была утверждать, что именно Мария Алексеевна стала зачинщиком поджога. Анна была уверена, что, несмотря на то, что Никита не знал подробностей проведенного петербургским сыщиком расследования, Петр Михайлович вел тому точный отчет, но все бумаги сгорели в огне…
Впрочем, почему сгорели? Вполне возможно, что княгиня Долгорукая выкрала их. Наверное, отец и застал ее за этой кражей, а справиться с покалеченным и больным стариком ей, конечно же, не составило труда. Анна вздрогнула, представив себе, как Мария Алексеевна, которую безумие наделило еще большей, чем прежде, силой, прокралась в кабинет и обрушила на голову отца свое ужасное орудие. В горле почему-то в одно мгновение все пересохло, и Анна принуждена была опереться на стену, чтобы не упасть.