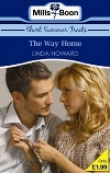Текст книги "Бедная Настя. Книга 7. Как Феникс из пепла"
Автор книги: Елена Езерская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– К чему ты клонишь, Лиза? – Анна была близка к отчаянию: этими словами сестра не на шутку встревожила ее.
– Поклянись мне, – торжественно произнесла Лиза, – если я умру, то ты станешь образцовой матерью моим детям.
– Обещаю, – горестно вздохнула Анна, – что, если с тобою что-нибудь случится, а я не хочу об этом ни думать, ни говорить, – обещаю, что всегда буду относиться к мальчикам с материнской теплотой и заботой.
– Нет, – покачала головою Лиза, – я прошу тебя о другом.
– Да о чем же! – в сердцах воскликнула Анна.
– Ты должна пообещать мне, что в случае моей кончины мальчики и Миша не останутся одни, – сказала Лиза. – Дай мне клятву, что вы с Мишей поженитесь, когда истечет срок траура, и наши дети, твои и мои, станут нашими общими детьми. Детьми Долгоруких-Корфов-Репниных.
– Ты не понимаешь, о чем просишь… – прошептала Анна, оцепенев от предложения сестры.
– Слава Богу, – грустно улыбнулась Лиза, – он еще не лишил меня здравого ума и трезвой памяти. А ты ко всему мною сказанному должна относиться серьезно, также серьез но, как отношусь к своим словам и я сама. Я много думала над этим после твоего возвращения, и весть о твоем исчезновении из церкви меня потрясла – я не хотела опять лишиться тебя. Но не только потому, что ты – моя сестра, а, прежде всего, из-за того, что ты – моя единственная надежда. И не смей меня перебивать!.. Я знаю, что, если меня не станет, Михаил не осмелится ввести в наш дом другую женщину, охраняя память обо мне. Но и я не могу позволить ему жить в одиночестве и растить мальчиков в печали о понесенной ими утрате. Я желаю, чтобы они не были лишены ни семейного счастья, ни домашнего очага, я не хочу, чтобы Михаил искал утешения на стороне, а наши сыновья привыкали к его отсутствию. А потому – лишь ваше соединение поможет им, равно как и тебе, избежать всего этого. Понимаю, что в эту мину ту ты считаешь мое предложение безумием, но – посуди сама: кто, как не любимая сестра, у которой есть общее с моим мужем прекрасное прошлое, может стать лучшей матерью моим детям, а Михаилу – женой? И, поверь, эта мысль не пришла мне в голову сейчас и случайно, я ночи напролет обдумывала сделанное мною тебе сегодня предложение. И я умоляю, нет – я настаиваю, чтобы ты немедленно дала мне ответ и сказала со всею определенностью – да! Поклянись, прошу тебя, пообещай, что исполнишь мою просьбу, какой бы странной и невыполнимой она тебе сейчас не казалась. Слышишь, отвечай мне, ты сделаешь так, как я прошу?
– Но ты забыла о Михаиле, – попыталась возразить ей Анна. – Он пока далеко и не может принять участие в нашем споре. И он тоже может подвергнуть сомнению твое решение.
– Михаил не станет оспаривать мой выбор, – покачала головою Лиза. – И, полагаю, он даже будет благодарен мне за то, что я не стала подвергать его испытаниям на верность моей памяти…
– Да перестань же ты хоронить себя раньше времени! – вскричала Анна.
– Перестану, – кивнула Лиза, – только скажи мне – да.
– Хорошо, – устало промолвила Анна, она так хотела поскорее завершить этот тяжелый и бессмысленный спор, – да. Я обещаю, что выполню твою просьбу…
Ночью Анна долго не могла уснуть – разговор с сестрой все не шел из ее головы. Нарисованная Лизой картина будущего ее семьи растрогала и едва не лишила Анну мужества. И только под утро, исчерпав все мыслимые и немыслимые доводы, которые она еще выскажет Лизе, когда та назавтра или через пару дней отстранится от своего предложения и осознает всю нереальность его осуществления, Анна, наконец, повстречалась со сном.
Разбудила ее зареванная и перепуганная Татьяна.
– Анастасия Петровна, миленькая, вставайте, горе-то у нас какое, горе! – всхлипывала она, тряся Анну за плечо.
– Что?! – вскинулась Анна. – Что случилось? Да говори же ты, не тяни!
– Княгиня Лизавета Петровна, сестра ваша, – простенала Татьяна, заламывая руки на груди, – еще засветло собралась сама и уехала куда-то. Ничего никому не сказала – разбудила потихоньку кучера, и – все. Только и видели ее сердешную…
Глава 4
Ахиллесова пята
– Итак, вы утверждаете, что два месяца назад полагали в этом молодом человеке своего сына, а сегодня уже не считаете его таковым?
– Именно так, – подтвердила побледневшая Сычиха, невольно оглянувшись на сидевшую на месте истца Анну, и та ободряюще кивнула ей. Сычиха вздохнула – этот адвокат совершенно запутал ее – она ведь сказала: тогда еще ей не были известны все подробности этого дела, истина открылась только несколько дней назад. Так чего же он хочет от нее, чего добивается?
– Именно так… – с издевательским сочувствием повторил адвокат и улыбнулся, обращаясь к судье. – Ваша честь, честно говоря, я растерян: кто стоит передо мной – запуганная сильными мира сего несчастная женщина, чье материнское горе сейчас стремятся использовать во вред моему подзащитному, или сумасшедшая, которая не может отвечать за свои слова? Вот, взгляните еще раз! У меня в руках два документа, подписанные одной и той же рукою от одного и того же имени. Здесь (адвокат поднял над головой левую руку) свидетельство Екатерины Сергеевны Белозеровой о признании моего подзащитного своим родным сыном, прижитым ею во внебрачных отношениях с умершим десять лет назад бароном Иваном Ивановичем Корфом. А в другой руке я держу точно такое же признание, но с заявлением, в котором все перевернуто с точностью до наоборот, и здесь (адвокат потряс в воздухе вторым документом) госпожа Белозерова полностью отказывается от сделанных ею прежде признаний, как будто с момента составления первого свидетельства мой подзащитным перестал быть тем, кто он есть.
– Ваша честь! – немедленно поднялся со своего места сидевший рядом с Анною Саввинов. – Представитель ответчика передергивает – мы именно этим сейчас и занимаемся: пытаемся установить истину, кем же является на самом деле ответчик. Адвокат пытается подменить собою суд!
– Согласен, – кивнул судья, и глаза его не добро блеснули – князь Лобановский недолюбливал этих новых молодых юристов: они умели ловко перевести разговор с обсуждения реальных деталей в область абстрактных рассуждений и заставляли колебаться в признании очевидного и свидетелей, и самого судью эмоциональными (а порою даже слишком эмоциональными!) оценками фактов, превращая таким образом бесспорное в спорное, а значит – с юридической точки зрения сомнительное.
– Прошу прощения, ваша честь, если в моих словах прозвучало недоверие к суду, которое могло быть расценено, как попытка узурпировать его функции, – расшаркался адвокат Кунцев.
Это было далеко не первое его дело по имущественным и наследственным вопросам, и до сих пор он еще ни одного не проиграл. И, несмотря на то, что сегодня его соперником был сам мэтр Саввинов – Викентий Арсеньевич читал на их курсе лекции в университете, Кунцев и в этом случае рассчитывал на успех. Конечно, ему хотелось победы не только во славу собственной карьеры – он был убежден, что старики-буквоеды, отстраняясь от весьма значительного в любом вопросе человеческого фактора, превращали тем самым суды в трибуналы. Так довольно же с нас этой деспотии!..
Кунцев вздрогнул – не произнес ли он случайно эти слова вслух? Но нет – все просто внимательно смотрели на него, ожидая следующего шага. Адвокат едва заметно перевел дыхание – иногда он ловил себя на том, что позировал даже перед самим собой. Не заиграться бы, мелькнула тревожная мысль! Он отказался от дипломатической карьеры, вызвав гнев отца, возглавлявшего один из департаментов в ведомстве Нессельроде, только потому, что жаждал свободы самовыражения. И, хотя отец пытался внушить Кириллу Петровичу мысль о том, что есть еще некие высшие интересы – император и его политика, престиж страны и державные обязательства, сын так и не смог понять, почему он должен поступаться в разговоре остроумной фразой, которая привлечет к нему внимание в обществе, если она противоречит кому-то или чему-то из тех самых «высших интересов»? И как же ему выделиться из толпы одинаковых людей в мундирах, если нельзя в строю без команды стоять «вольно»? Его эгоизм помешал ему завести на факультете друзей, но сам Кирилл Петрович считал это скорее счастьем, чем неприятностью. Друзья всегда потенциально – будущие враги, а любое объединение потребует соблюдения корпоративных интересов. И что же тогда делать с его собственной индивидуальностью? Кунцев был невероятно артистичен и вещал на судебных заседаниях так упоительно, что нередко мог и сам заплутать в созданных им словесных хитросплетениях, но при этом как будто со стороны всегда внимательно наблюдал: если в глазах свидетелей, а главное – судьи, появился туман, значит, настало время произнести ключевую фразу. То есть подвести участвующие стороны к заготовленному им заранее выводу. Выводу, который, конечно же, делается в интересах его клиента, и – его собственных. И какое при этом значение имеет кем-то выдуманное правосудие? Правосудие – это способность отвести его карающий меч в том направлении, которое ты же сам ему и указал.
– И все же, ваша честь, – Кунцев уважительно поклонился судье, – мне хотелось бы знать, что именно толкнуло свидетельницу на перемену показаний. Скажите, Екатерина Сергеевна, чем руководствовались вы, делая первое признание?
– Я? – смутилась Сычиха. – Я думала, что этот молодой человек – мой потерянный сын.
– То есть, если я вас правильно понял, – с иезуитской вежливостью уточнил адвокат, – в первом случае за вас говорило ваше сердце, сердце матери? А кто или что говорит за вас сейчас, когда вы обвиняете в присвоении чужого имени того, кого еще недавно называли своим сыном?
– Я не понимаю… – промолвила Сычиха. – Что вы хотите этим сказать?
– Я хочу, чтобы вы честно объяснили суду, что предложила вам ответчица в обмен на второе заявление?
– Это неслыханно! – прервал торжествующего Кунцева Саввинов. – Адвокат ответчика обвиняет мою клиентку в подкупе!
– Это не я, – улыбнулся Кунцев, – это вы сказали. А я лишь пытаюсь выяснить, сколько стоит молчание материнского сердца, которое еще недавно кричало – это он, мой сын, а сегодня испуганно шепчет – нет, нет, я ошиблось!.. Ответьте, свидетельница, кто сказал вам, что мой подзащитный – ваш ребенок, которого вы считали потерянным или погибшим? Он сам? (Сычиха кивнула.) И это он принес вам доказательства своей правоты – нательный крестик и письмо его опекунов? (Сычиха опять вынуждена была подтвердить его слова – она кивнула, и в глазах ее заблестели слезы.) А теперь расскажите высокочтимому суду, кто постарался убедить вас в том, что все, во что вы еще так недавно и свято верили, – ложь? Кто сказал вам, что мой подзащитный якобы обманул вас?
– Мне рассказала обо всем Дарья Христиановна Фильшина, – с трудом размыкая пересохшее от волнения горло, промолвила Сычиха.
– А кто привез ее к вам? – не унимался Кунцев.
– Никита Воронов, – кивнула Сычиха, – управляющий в имении Корфов.
– А вам не кажется это странным, Екатерина Сергеевна. – Адвокат «барона» подошел к свидетельскому месту и заглянул Сычихе в глаза. – Ваш сын находит вас, и вы бросаетесь ему на шею, признавая и обласкав его, родное дитя, а потом к вам приезжает управляющий той, кто пытается отнять у него имя и часть наследства, и привозит с собой неизвестную вам женщину, утверждающую, что будто бы ваш ребенок умер, и вы возвращаетесь под их конвоем в Петербург, чтобы отказаться и от своих прежних показаний, и от своего сына. Как вы все это можете объяснить?
– Мой сын умер! – вскричала Сычиха, поднимаясь со своего места. – Я сама видела его могилу!
– И что там написано? – злорадно улыбнулся Кунцев. – Какое имя стоит на кресте?
– Иван Иванович… – прошептала Сычиха, теряя равновесие и невольно хватаясь обеими руками за поручень ограждения. – Иван Иванович… Фильшин-Берг.
– Я не ослышался? – развел руками Кунцев. – Не Иван Иванович Корф? Нет?
– Это фамилии его приемных родителей, – в отчаянии заломила руки Сычиха.
– И это тоже рассказала вам женщина, приехавшая с управляющим истицы? – усмехнулся Кунцев. – Но где доказательства того, что она действительно была той самой приемной матерью? Сохранились ли документы, подтверждающие ее слова?
– Но письмо… – лицо Сычихи вдруг осветилось. – Письмо, которое принес мне этот… тот, кто назвал себя моим сыном, оно тоже написано рукою Дарьи Фильшиной!
– А кто может подтвердить, что она не передала ребенка другим родителям, давшим ему новое имя и другую семью? Кто заверит высокий суд, что она не сделала этого, дабы избавить себя от лишних хлопот, и все это время обманывала барона Корфа, составляя те самые письма и таким образом продлевая свое право беспрепятственно пользоваться деньгами, которые он передавал на воспитание своего сына? – с вызовом спросил Кунцев.
– Не было этого! Мальчик умер! – закричала со своего места Фильшина, и зал загудел.
– Тишина! – воззвал к порядку судья и пригрозил. – Если шум будет продолжаться, я освобожу помещение от зрителей. А вам, сударыня, (кивнул он Фильшиной) советую помолчать, иначе в дальнейшем вы можете быть лишены слова и выведены из зала. Продолжайте, адвокат!
– Но мне кажется, все и так предельно ясно, – самодовольно произнес Кунцев. – И у меня больше нет к Екатерине Сергеевне никаких вопросов.
– Свидетельница может быть свободна, – судья стукнул молоточком по столу.
– Ваша честь! – тут же встал Саввинов. – Сторона истца просит о перерыве в заседании.
– Просьба удовлетворена, – кивнул судья, с сожалением взглянув на старого друга: он и сам бы голыми руками удавил этого выскочку Кунцева, но здесь мальчишка прав – налицо явное вмешательство истицы. Это она затеяла расследование и добилась у свидетельницы отказа от ее прежних показаний, и пока баронессе не удалось уверить его в том, что сделала она это из лучших побуждений…
– Полагаю, это последний раз, когда князь дает нам отсрочку. Мы не можем больше переносить заседание, – тоном, в котором настойчивость переплеталась с разочарованием, тихо сказал Анне адвокат Саввинов, когда они прошли в отведенную им в суде комнату. Сычиха с Дарьей Фильшиной остались сидеть на скамьях для зрителей, присоединившись к княжне Репниной, с ужасом взиравшей на все, что происходило в зале суда.
– Но мы так и не дождались Елизавету Петровну, – вздохнула Анна: тайно уехав, сестра оставила записку, в которой сообщала, что попытается разыскать жену Забалуева, но вот уже второй день от нее не было никаких известий. – И к тому же поиски здесь, в Петербурге, следов Забалуева или его семьи не увенчались успехом.
– Однако промедление грозит сыграть с нами злую шутку, – продолжал Викентий Арсеньевич, увещевая Анну принять, наконец, решение об изменении тактики ведения дела, – если самозванец почувствует вашу неуверенность, он ускользнет от правосудия. Ибо у нас нет доказательств, способных уличить его в участии в поджоге вашего имения в Двугорском и убийстве сыщика Каблукова.
– Но Никита слышал его слова, и княгиня называла самозванца по имени… – начала было Анна.
– Вот именно – слышал! – Савинов поднял указательный палец вверх. – Слышал, находясь в нездоровом состоянии, ведь его ударили по голове! Вряд ли это может быть принято, как основание, достаточное для серьезного обвинения.
– А показания Долгорукой? – растерялась Анна. – Ведь она призналась.
– Да, но сейчас Мария Алексеевна недееспособна, она не может быть вызвана в суд, – развел руками адвокат, – и ее слова уже не могут быть приняты даже к сведению. Самое большее, в чем мы можем сейчас обвинить так называемого барона, – это попытка присвоения себе чужого имени по недомыслию. Так как доказать наличие сговора будет трудно – особенно в отсутствии того, кто придумал всю эту комбинацию. Но без признания настоящих родных, матери или других родственников, представивших доказательства происхождения «барона», судья вправе усомниться даже в том, что самозванец – тот, кем является в нашем изложении, а уж тем более – в умышленных действиях с его стороны.
– И что вы предлагаете делать? – расстроилась Анна.
– Оставить другие обвинения и сосредоточиться на безумии этого молодого человека, – кивнул Саввинов. – Мы потребуем для вас опеки над ним.
– Но это будет означать, что мы признаем его право носить имя семьи Корф! – возмутилась Анна.
– Вы и так уже частично сделали это, когда, не поговорив предварительно со мною, условились с ним о соглашении в Двугорском, – напомнил Анне адвокат.
– Но я сделала это ради освобождения Никиты! – воскликнула Анна. – Это вынужденное, временное отступление, необходимое для того, чтобы заставить самозванца выдать Долгорукую! Она должна была быть наказана за свое преступление, а ни в чем не виновный Никита – выйти на свободу!
– Однако своими действиями вы формально подтвердили согласие с тем, что молодой человек носит имя барона Корфа, – вздохнул Савинов, – и я, поддавшись на ваши уговоры, позволил вам поставить свою подпись рядом с его.
– Вы хотите сказать, что судья на основании этого признает законность права самозванца именоваться бароном Корфом? – вздрогнула Анна.
– Боюсь, нам для победы понадобится чудо, – покачал головою Савинов.
Время перерыва закончилось, – объявил заглянувший в комнату секретарь суда. – Вам пора возвращаться в зал…
– Значит, вы утверждаете, что сидящий на месте ответчика молодой человек, – прокурорским тоном, когда заседание продолжилось, спросил Кунцев, сверля Фильшину буравчиками карих, до черноты, глаз, – никак не может быть сыном барона Ивана Ивановича Корфа?
– Утверждаю, – твердо стояла на своем Дарья Христиановна. – Настоящий сын барона Корфа умер у меня на руках в возрасте 5 лет и был похоронен на сельском кладбище в Горах.
– А скажите мне, любезнейшая Дарья Христиановна, – ухмыльнулся Кунцев, – любите ли вы своего императора, верите ли ему и готовы подчиняться его решениям?
– Протестую! – в который раз поднял руку Саввинов. – В настоящем суде рассматривается семейное дело, а не вопрос о политической благонадежности.
– Объяснитесь, адвокат, – нахмурился судья, обращаясь к Кунцеву.
– Непременно, ваша честь, непременно. – Кунцев не уставал класть поклоны в сторону судейского подиума. – Я задал этот вопрос не случайно, ибо суть любого судебного процесса – положить на весы правосудия все факты, а потом позволить земному притяжению сделать свое дело, показав, чьи доказательства весомее. Итак, на одной стороне весов – ничем не подтвержденные слова госпожи Фильшиной, якобы выполнявшей поручение барона Корфа о воспитании его незаконнорожденного сына. А с другой… Что мы можем положить на вторую чашу весов?..
– Не пора ли уже вам перейти от риторики к конкретике, – недовольным тоном прервал Кунцева князь Лобановский.
– С удовольствием! – бодрым тоном воскликнул адвокат и взял со стола какой-то документ, снова театральным жестом поднимая его над своей головой. – Вот мое доказательство, и оно перевесит любые из сказанных прежде слов!.. Это копия Указа Его Императорского Величества о восстановлении в правах баронессы Анастасии Петровны Корф в связи с признанием ее живой.
– Но какое это имеет отношение к сути нашего разбирательства? – Судья удивленно приподнял брови. – Мы говорим сейчас не о праве истицы носить свое собственное имя и пользоваться положенными ей при этом правами и привилегиями.
– Имеет, ваше сиятельство, имеет, и самое непосредственное, – победно улыбнулся Кунцев. – В настоящем документе сказано: установить за баронессой право полной привилегии над состоянием семьи Корф, позволяя ей тем самым лично определить, какая часть наследства должна быть передана недавно объявленномуродственнику барона. А других официально признанных родственников, кроме моего клиента у упомянутого выше барона Ивана Ивановича Корфа нет. Таким образом, в Указе предполагается, что ответчик и есть тот самый родственник, сиречь – молодой барон Иван Иванович Корф. Так чье же слово окажется для суда весомее – мелкопоместной дворянки Дарьи Фильшиной или Его Императорского Величества самодержца всея Руси Николая Александровича?
Судья побледнел, а самозванец, все это время скромно сидевший рядом со своим адвокатом, впервые поднял голову и торжествующим взором окинул судейский подиум и зал.
Когда Кирилл Петрович Кунцев появился в его камере в следственной тюрьме, куда его временно поместили по предписанию прокурора, добытому Саввиновым, привезя под конвоем приставов из Двугорского, самозванец утратил на минуту присутствие духа. До сих пор он был уверен, что правда на его стороне, но кто знает, какие рычаги задействовала эта женщина. Та, кому он поклонялся, кого спас, и кто так подло предала его – бежала, а потом подала на него в суд! Неужели опекун не обманул его, ведь он предупреждал – от этой Аньки можно ожидать чего угодно, только – ничего хорошего. Анька, Анька, и как он смел называть столь грубо ту, что лишь с богинями может сравниться?! И как, как такое может быть, ведь она – так красива! А сейчас и подавно, когда лицо ее румянцево и пылает гневом, и оттого стало еще краше – воительница на баррикадах, Свобода, Диана-охотница!.. Так о чем это он? Ах, да, об адвокате – Кунцев ему поначалу не понравился, вертлявый какой-то и смотрит все время в сторону. Но, однако, как он ответил матушке, как развернулся на суде! Как пошел!
– Но я… – попыталась было возразить Фильшина, однако Кунцев не дал ей договорить.
– Так вы и теперь намерены утверждать, что имя этого человека, не то, что он носит по признанию его матери? – Адвокат жестом римского патриция указал на вновь потупившегося самозванца. – Вы готовы стоять на том, что его имя – не Иван Иванович Корф? Нет! Вы молчите?! Или вы не знаете, как его зовут?
– Я знаю, как его зовут! – раздался звонкий голос, шедший от внезапно открывшейся двери в зал, и Анна почувствовала, что сердце сейчас выскочит из ее груди – она узнала голос Лизы. – Его имя – Дмитрий Андреевич Забалуев!
– Кто вы такие, сударыни? – грозно обратился к вошедшим судья. – Что вы хотите и почему препятствуете ведению заседания?
Анна оглянулась – сестра решительно, но с важностью шла по проходу, ведя под руку пожилую, болезненного вида женщину, которая поначалу испуганно озиралась по сторонам, но потом вдруг увидела самозванца, и лицо ее просветлело и размягчилось. Она даже потянулась было к нему, однако Лиза мягким, но властным жестом удержала ее и проводила к судейскому подиуму.
– Простите, ваша честь, – сказала она, едва сдерживая душивший ее кашель, – моя имя – Елизавета Петровна, княгиня Репнина. А эта женщина – Глафира Федоровна Забалуева, вот документы, удостоверяющие ее личность, остальное она расскажет суду сама.
– Я не понимаю, – растерянно произнес судья, принимая от нее бумаги, удостоверяющие личность Забалуевой.
– Ваша честь, – немедленно вмешался в разговор Саввинов, – еще до суда я предупреждал о дополнительных доказательствах против ответчика, которые могут объявиться в любую минуту. И вот эта минута пришла. Я прошу вас вызвать в качестве свидетеля по этому делу мещанку Глафиру Федоровну Забалуеву. Уверен, ее показания многое объяснят.
– Возражаю! – вскричал покрасневший от досады Кунцев: что еще за свидетельница, и почему он ничего не знал?
– В возражении отказано! – Князь Лобановский стукнул молоточком по столу; в зале мгновенно воцарились тревожная тишина, и лишь газетчики на зрительских местах на галерке еще какое-то время взволнованно перешептывались, обсуждая произошедшее. – Прошу вас, госпожа Забалуева, дайте клятву говорить правду и только правду и пройдите на место свидетеля.
Старушка взволнованно переглянулась с Лизой, но та ободряюще улыбнулась ей – идите, ничего не бойтесь, и Забалуева вошла вовнутрь полукруглого барьера в центре залы.
– Итак, насколько я понял, – сказал судья, – вы утверждаете, что имя ответчика… Как здесь его назвали?
– Митенька, – кивнула старушка. – Дмитрий Андреевич Забалуев, сынок мой. Вот там у вас и метрики его, и свидетельство из больницы. Он у нас с детства очень умненький был, такой способный, а потом заболел, и головой тронулся. Отец его в Песчанку увозил, врачи обещали, что помогут, да только он оттуда до мой не вернулся. Я и думала, что он до сих пор там лежит, бедный мой.
– Ложь! Я не бедный! – истерически закричал самозванец, вскакивая со своего места. – Я – сын барона Корфа, и моя мать сидит сейчас здесь в этом зале, но почему-то стыдится меня. А вас я не знаю, и не видел никогда!
– Как же так? – Забалуева растерянно посмотрела сначала на судью, потом обвела взглядом зал и подалась всем телом вперед, протягивая руки к сыну. – Это что же с тобою там сделали, что ты родную мать не узнаешь? Митенька, мальчик мой!
– Я вам не Митенька, я – Иван Иванович Корф, – продолжал возмущаться самозванец, которого Кунцев безуспешно пытался успокоить и уговорить сесть.
– Что же это? – Забалуева медленно сошла со своего места и, подойдя к «барону», взяла сына за руку, которую тот немедленно и резко отдернул. – Ты что же, все забыл? Нас всех забыл? И сестер своих, и братика? И не помнишь, как я тебя после болезни выхаживала, молочком горячим с медком поила? Митенька, ты в детстве такой уважительный был, матушку свою всегда слушался. А помнишь, как забрался однажды в сундук, меня хотел попугать, когда я из церкви пришла, – что пропал, мол, а потом, думал, выскочишь, когда мы тебя все хватимся и в розыск кинемся. Хотел, да заснул, и не понарошку – а на самом деле нас напугал, и мы тебя до вечера по лесу искали, пока домой не вернулись и Трезорка твой дух в сундуке не учуял.
– Глупости это! – побледнел самозванец, грубо обрывая ее рассказ.
– Недоказуемо! – воскликнул вслед за ним Кунцев.
– Может, для вас и нет, – с горечью промолвила Забалуева, – да только я своего дитя ни с кем другим не спутаю. У него и примета наша родовая есть, от меня всем детям передалась, а мне дадена была от матери. У локтя пятно родимое на ромашку похожее. Вот, смотрите!
Забалуева медленно, по-простому расстегнула пуговичку манжета на запястье и, осторожно закатав рукав платья, показала локоть судье, а потом снова руку «барона» взяла и сделала то же самое. Зал ахнул, а на галерке кому-то сделалось дурно. И с балкона вниз побежали звать доктора.
– Тишина! Тишина! – Судья снова требовательно застучал молоточком по столу. – В виду открывшихся нам новых обстоятельств…
Решением судьи Дмитрия Забалуева сразу из зала суда увезли в «тихий дом», где ему было определено находиться в течение года до комиссии, которая заново рассмотрит его дееспособность, и мать его поехала вслед за ним. Все сделки, совершенные от его имени, признаны были недействительными, а договор, подписанный между самозванцем и Анной в Двугорском, аннулирован.
Кунцев с напряженным лицом поздравил учителя с выигранным делом и мгновенно растворился в толпе зрителей. А Анна, пожав Саввинову руку, бросилась к Лизе, чтобы обнять ее. Она решительным жестом отодвинула от выхода из зала Наташу, но вдруг заметила смертельную бледность в ее лице.
– Что? – тихо спросила Анна.
– Лиза упала в обморок, – прошептала та, – мы отнесли ее в совещательную комнату, и сейчас ее осматривает врач.
Однако в комнате дежуривший при суде эскулап пользовал не только Лизу. На скамейке напротив лежал какой-то старик, и врач безуспешно пытался привести его в чувство.
– Что с моей сестрой? – воскликнула Анна, подбегая к доктору.
– Я дал ее сиятельству лекарство, чтобы унять кашель, но степень серьезности ее состояния должен определить домашний врач, а потому советую вам немедленно ехать домой, – кивнул тот. – Я уже попросил приставов помочь перенести княгиню в вашу карету.
– Господи, – прошептала Анна, случайно взглянув на его пациента, – борода…
– Что – борода? – не понял врач и, проследив за направлением ее взгляда, взялся за торчавший сам по себе фрагмент бороды, как-то странно отстававший от щеки.
– Это что же она – не настоящая?
– Забалуев! – вскричала Анна, когда врач убрал накладную бороду от лица старика. – Он все это время был здесь!
– Вы знаете этого человека? – удивился доктор. – Его принесли сюда с галерки, ему стало плохо, когда та женщина дала свои показания, но я ничем не мог ему помочь, старый человек, сердце… Все случилось так быстро…
«Быстро? – в последнюю минуту успел подумать Забалуев, смотревший угасающим взглядом на ненавистное ему лицо. – Будь ты проклята, Анька, девка, актриса!..»
Андрею Платоновичу казалось, что он все рассчитал. Тот случай в больнице, когда ему пришлось исповедовать метавшуюся в бреду незнакомку, – он его почти и забыл. Дело у него тогда в больнице было к другому – по заданию свыше Забалуев под видом священника ухаживал за одним политическим, его начальство надеялось, что, умирая, тот назовет и товарищей своих. Фильшина подвернулась ему под руку случайно: заплакала, схватила за рукав рясы в коридоре, когда он от своего политического уходил, говорила – кончаюсь. Впрочем, он так и думал, что померла.
Идея пришла ему в голову позже, когда Забалуев узнал, что Владимир Корф с супругою пропали где-то за границей. Вот тогда и пригодилась ему та история с умиравшей в захолустной больнице женщиной. Но, конечно, Андрей Платонович сначала все проверил – в Горы те съездил, узнал, что Фильшины без следа уехали куда-то и вроде как сгинули. В тот же приезд Андрей Платонович украл приходскую книгу, а с крестика мальчишкина хотел было надпись стереть, да вовремя имя прочитал – Корфом там и не пахло! То ли Фильшин, то ли Берг – одно слово, не барон.
А потом он решил к тому делу Митю подключить. Сына, Забалуев, конечно, любил, да ведь ради него все и устроил! Мальчик славный родился, но, видать, слишком много ума в одну голову вошло – вот она и не выдержала. По детству все не так заметно было, а потом пришлось его в Петербург вести, хорошим докторам показывать. И они вскоре сказали, что лучше стало ему. Одно Забалуева смущало: мальчик пару себе там нашел – Верой звали, девушка вроде хорошая, только зачем же к одному больному второго приписывать, а как дети пойдут! Вот он и сказал Вере и отцу ее, что Митя и не сын ему вовсе, а приемный и вроде как – от знатного человека… И пока врал – понял, что надо действовать.
Митя ему по недомыслию своему сразу поверил. И, хотя сердце Андрея Платоновича иногда побаливало, если слышал он, как сын из-за умершего Корфа убивается – вроде как по отцу сохнет, но потом брал себя в руки: вот станет он распоряжаться всеми деньгами Корфов, заберут они их и уедут за границу, чтобы безбедно жить. И надоели Забалуеву уже все эти политические – на покой потянуло, красивой жизни захотелось пуще, чем в молодости. Жене он, конечно, ничего не сказал – баба, дура, незачем ее в серьезные дела впутывать. А оно, вишь, как обернулась – пришла и продала! Ни за понюшку табаку – сыночка признала, и думает, поди, что права! Тьфу, окаянная!