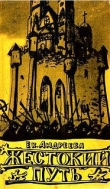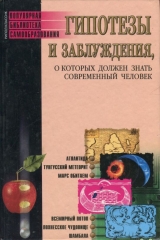
Текст книги "Гипотезы и заблуждения, о которых должен знать современный человек"
Автор книги: Елена Трибис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Абсолютная свобода
Мечты об абсолютной свободе личности старательно культивировались на протяжении большей части истории мировой цивилизации самыми разными мыслителями. Фактически каждый философ рассуждал о сущности свободы и ее назначении. Некоторые находили свободу невозможной, другие вредной, третьи считали ее достижимой лишь при определенных условиях.
В результате этих философских споров, обычно затрагивающих организацию государственного правления, в обществе зародилось стойкое убеждение, что абсолютная свобода человека в принципе возможна. Путем революций или социальных реформ можно рано или поздно прийти к утверждению в государстве свободы личности вплоть до ликвидации самого государства как помехи на пути к максимальному освобождению.
Скорее всего, широкая поддержка идеи абсолютной свободы обусловлена ее внешней привлекательностью и заманчивостью. Если же отказаться от приятных иллюзий и рассмотреть эту идею с критических позиций, то выявятся ее существенные недостатки.
Является непонятным, как может человек обрести свободу от своего тела. Трудно вообразить свободу от совести, ответственности, обязанностей, дисциплины. Такая свобода причиняет несказанный вред самому «свободному человеку» и окружающим. В свете этих фактов кажется сомнительной возможность абсолютной свободы.
Абсолют подразумевает абстракцию, но свобода не бывает абстрактной. Она неизменно конкретна, соотносима с определенной ситуацией, а потому относительна. Если в одних условиях ограничение свободы есть не более чем простое ограничение и притеснение, то в другой ситуации это единственный путь к расширению возможностей человека. Неслучайно известный писатель и ученый И. А. Ефремов вложил в уста одной из героинь своего романа «Час быка» утверждение, что стремление к абсолютному всегда было самой большой ошибкой человека. Писатель видел в будущем человечества отказ от абсолютной свободы.
Итак, абсолютная свобода невозможна, человек всегда останется в плену у чего-то. Однако нередко случается слышать о приятном рабстве. Скажем, любовь называют «сладким пленом», и в правоте этих слов сомневаться трудно. Найдется немало сходных ситуаций, когда человек оказывается в своего рода плену, но при этом не пытается обрести свободу, поскольку именно в таком состоянии чувствует себя настоящим человеком.
Иными словами, можно обрести достаточную свободу, чтобы перестать быть презренным рабом. Но при этом незачем стремиться к иллюзорному абсолюту. Выдающиеся мыслители прошлого стремились определить приемлемые границу свободы личности.
В эпоху античности, одновременно с расцветом рабовладельческой демократии, свободу понимали как равенство в правах и перед законом. Человек в условиях демократического полиса обладает широкими возможностями заниматься искусствами, гимнастикой, философствовать, вести хозяйство, торговать.
Основатель демократии Солон верил, что свобода противостоит рабству и что подлинно свободный человек не может работать по принуждению. Афинский стратег Перикл, при котором эллинская демократия достигла высшей точки своего развития, считал самым серьезным достижением своей политики предоставление людям свободы заниматься интересным и любимым делом и при этом духовно совершенствоваться, максимально проявлять свои таланты.

Древнегреческие мыслители считали, что лишь демократия может дать человеку настоящую свободу
В античном мире велись жаркие споры о свободе и демократии между мыслителями, каждый из которых понимал сущность свободной жизни и демократического правления по-своему. Софисты, философия которых предшествовала идеям сократического этапа, были сторонниками демократии, полагая, что она одна дает человеку настоящую свободу. Некоторые софисты, в т. ч. Алкидам и Антифонт, требовали расширения демократических устоев и отмены рабства. Свободная жизнь понималась как облеченная гражданскими обязанностями, но никак не рабскими. Алкидам заявлял, что «природа никого не сделала рабом», следовательно, противопоставлял придуманное человеком рабство естественному порядку вещей.
Сократ, веривший в необходимость влияния на политику воли народа, выступал против демократии, потому что считал ее упадочным режимом. Его не удовлетворяла система выборов и использование режимом поддержки со стороны торговцев, т. к. коммерция «губит душу». Платон называл идеальным государством республиканскую аристократию и тоже критиковал демократический режим.
Впервые точно описал недостатки демократии Аристотель. Философ выступал против того, что ныне называется охлократией – властью невежественной толпы, которой закулисно манипулируют мошенники и краснобаи от политики. Идеальным государственным устройством Аристотель считал политею (политию), в которой правит обширный класс средних собственников. В целом политея копирует позитивные стороны общественной жизни Афин при Перикле.
В Европе во времена буржуазных революций и становления институтов капиталистической демократии лозунги с требованием свободы впервые отчетливо прозвучали в Англии в XVI–XVII вв. и Франции в 1789–1793 гг. Свобода понималась в самом широком смысле, хотя преимущественно народ требовал политических свобод. Люди жаждали свободы голоса, деятельности, вероисповедания, свободы от монархизма и даже свободы разума. Свобода разума предполагала свободу от церковной идеологии, возможность заниматься науками на позициях атеизма.
Идеи анархии как политики абсолютной свободы даже на рубеже XVIII–XIX вв. еще не захватили общество. Мыслители и идеологи новой (буржуазной) демократии по большей части не выступали против государства, не требовали освобождения от государственной власти. Впрочем, при этом видные экономисты в разных странах, такие как А. Смит, выступали впоследствии (XVIII–XIX вв.) за необходимость свободы предпринимательства, которая заключается в ограничении вмешательства государства в экономику.
Если государство перестанет диктовать производителям свои условия, то рынок автоматически, путем саморегулирования через конкуренцию и игру спроса и предложения, придет к стабильному состоянию. Призыв экономистов, выражавших настроения капиталистов, получил французское название lassez faire – «пусть идет, как идет». Зачастую этот принцип переводится как «не мешайте действовать».
Истоки этих идей восходят к учению Т. Гоббса и Дж. Локка о естественном праве и договорном государстве. Согласно этим учениям, люди от природы наделены различными правами, которые намереваются реализовать. Но если каждый станет учитывать только свои права, то настанет война всех против всех. Чтобы этого не произошло, люди договорились о том, что сохранят за собой основные права, а остальные будут ограничивать в интересах друг друга.
Основные права, равные для всех без исключения людей, общество закрепило в своих законах. Гоббс был уверен, что наиболее правильным режимом является просвещенный абсолютизм, тогда как Локк полагался на конституционную монархию. Французский просветитель и энциклопедист Ж.-Ж. Руссо развил и углубил теорию общественного договора, попутно объяснив содержание истинного смысла свободы, которое определялось как «послушание закону, который мы сами установили».
Следуя логике Руссо, необходимо признать, что человек, вступая в общественный договор, существенно ограничивает свою индивидуальную свободу. Сам просветитель был уверен, что человек ее попросту теряет. Зато взамен им приобретается гражданская свобода и право собственности на все, чем этот человек обладает. Руссо не выступал против частной собственности как таковой, но критиковал лишь крупную собственность феодальных аристократов и капиталистических олигархов, выражая тем самым интересы мелкой буржуазии и малоимущих слоев населения.
Во время революционных событий во Франции сложились основные элементы либеральной демократии, которые были воплощены в «Декларации прав человека и гражданина». Принятый 28 августа 1789 г., этот документ послужил первой печатной пропагандой идей либерализма. Провал революционных переворотов во Франции ознаменовал крах буржуазной демократии в форме либеральной идеологии, которая оказалась в полном смысле слова опозоренной. Точно так же, как это было в античные времена, демократию многие сочли тупиковым путем политического развития.

Символ свободы на парижских баррикадах по Э. Делакруа
По меткому выражению Э. Фрома, в мире началось «бегство от свободы», образовавшее два течения. Первое было представлено правыми консерваторами, настаивавшими на возрождении аристократии. Правые идеологи были представлены А. Токвилем и Э. Берком. Английский экономист А. Пиг подверг либерализм уничижительной критике, доказывая, что демократический режим превращает любую страну в «ассистенциальное государство», т. е. государство иждивенцев.
Второе течение было представлено левыми политическими учениями, в которых все более отчетливо звучала мысль о необходимости диктатуры пролетариата. Ведущим выразителем идей левого течения выступил К. Маркс. Он полностью отрицал возможность «чистой» демократии, поскольку это режим, который только увеличивает возможности правящего класса. Понятию демократии в марксизме противопоставлен демократизм, который «диктатуре и единоличию нисколько не противоречит» (В. И. Ленин).
Конец XIX в. ознаменован торжеством далеких от либерализма марксистских и анархических взглядов на свободу личности. Последователи К. Маркса, как и последователи М. А. Бакунина, склонялись к тому, что государство есть орудие диктатуры и угнетения, а потому в будущем окажется в историческом музее наравне с каменным топором.
Но марксисты более здраво рассуждали о сущности свободы, чем бакунинцы и прочие анархисты, поскольку те призывали к немедленному уничтожению государства в ходе социальной революции. Марксизм разумно концентрирует внимание на классовой эксплуатации как ограничении свободы трудящихся масс. В целом это учение признает политическую свободу большинства, в отличие от пробуржуазных доктрин, проповедовавших экономическую свободу для предприимчивых людей.
В первой половине XX столетия в ответ на социальные потрясения, принесенные двумя мировыми войнами, на Западе родилось множество принципиально новых учений о свободе личности и свободе народов вообще. В результате к концу XX в. было выработано немало моделей демократического правления, и наиболее действенными из них оказались варианты либеральных демократических систем. Сегодня для большинства философов очевидно, что свободы вне общества и без общества не бывает.
Невозможна также свобода вне государства, поскольку государственная машина обеспечивает регулирование различных социальных процессов. Человек, как сказал Аристотель, – «существо общественное, животное политическое». Сама природа запрограммировала нас на стремление максимально эффективно взаимодействовать с обществом. Демократические политические системы наиболее удовлетворяют этой цели, потому что обеспечивают легитимность политической системы, способствуют активному участию народа в формировании, управлении государством и контролировании выбранного правительства.

Афинский Акрополь – символ эллинской свободы
Основные формы демократического режима, выработанные обществом, носят название плебисцитарной и репрезентативной демократии. Плебисцитарная, или прямая, демократия опирается на принцип обязательного непосредственного участия народа в принятии самых важных политических решений. Функции представительных органов власти сводятся к минимуму, впрочем, как и число самих этих органов. Одновременно власть максимально подконтрольна обществу, и в первую очередь это распространяется на представительные органы. Позитивная сторона данной формы демократии в том, что она содействует развитию политической активности и обеспечивает легитимность власти.
Репрезентативные, или представительные, демократии встречаются в гораздо большем числе стран, включая и Россию. Государственное правление, согласно концепции этого режима, является представительным. Иными словами, оно осуществляется выбранными лицами, представляющими интересы конкретной группы своих избирателей в органах власти. Оно должно быть компетентным и несущим всю полноту ответственности перед обществом. Участие же остальных граждан в управлении допускается, однако имеет много ограничений, поскольку закон предусматривает необходимую полноту властных функций единственно для народных представителей.
Ныне найдется крайне мало стран, которые бы не провозглашали демократические принципы основой своей внутренней политики. Как бы то ни было, демократию в разных странах понимают по-разному, в соответствии с господствующими в обществе политическими взглядами.
Ученые различают две центральные тенденции в развитии системы государственного управления в нашу эпоху. Вне зависимости от того, что страна объявляет себя демократической, ее управленческая система может быть либо этатистской, либо деэтатистской, т. е. прямо противоположной в плане ориентации методов управления.
Этатизм (фр. etat – государство) выражается в усилении роли государства и государственных структур в жизни общества. Деэтатизм, или антиэтатизм, сводится к ограничению вмешательства государства в жизнь граждан. В качестве тенденции внутриполитического развития страны этатизм и деэтатизм обладают определенными преимуществами, а потому выбираются в соответствии с текущей ситуацией.
Правильный выбор обусловливает прогрессивное развитие демократии, сохранение ее институтов и укрепление государственности в целом. Этатистская тенденция выгодна, когда в сложившихся условиях потребности общества направлены на необходимость смягчения социальных конфронтаций, устранения застоя в сфере экономики государственного сектора, установления контроля над негативными стихийными процессами в обществе и экономике.
Деэтатистская тенденция выгодна в том случае, когда ее выбор обусловлен общественными потребностями в борьбе с бюрократизацией, в ограничении расширения государственного сектора экономики, происходящего в ущерб частному сектору, а также в повышении политической активности граждан и предоставлении им больших возможностей для самоуправления.
Неверно выбранная линия развития приводит к тому, что тенденция оказывается пагубной для демократического режима. Деэтатизм оборачивается ростом анархических настроений в обществе, а этатизм приводит к ущемлению частного сектора экономики, ограничению самостоятельности граждан и патернализму как показной заботе о трудящихся.
Таким образом, демократия может легко выродиться в авторитаризм, охлократию, плутократию и прочие упадочные режимы, в которых гражданская свобода личности всячески ограничивается. Ради сохранения жизнеспособности демократического режима и его важнейших институтов требуется создать подходящие для этого условия. Последние различаются по содержанию, методам и принципам на три группы. Во-первых, это социально-политические условия, в число которых обязательно входит гражданское общество и правовое государство.
Гражданское общество представляет собой совокупность настоящих граждан, активно участвующих в политической жизни страны и поддерживающих общественный порядок преимущественно собственными усилиями. Правовое государство является юрократией (властью закона), гарантирующей широкий диапазон прав и свобод гражданам.

Условия существования демократии
Во-вторых, условием существования демократии является культура граждан (особенно политическая и правовая) как залог успешного строительства гражданского общества.
В-третьих, специфические экономические условия: стабильное и прогрессивно развивающееся товарное производство, плюрализм форм собственности (государственная, кооперативная, муниципальная, частная), а также, по мнению некоторых политологов и экономистов, свободная конкуренция товаропроизводителей. Экономическая свобода важна тем, что и сама демократия в известной степени представляет собой «политический рынок», на котором конкурируют различные партии.
Нередко случается встречать мнение, что ограничение свободы в государстве легко вычислить по тому, каков характер управления страной – запретительский или либеральный. Запретительство при этом определяется формулой «запрещено все, кроме прямо дозволенного». Либеральность, которую не следует путать с либерализмом, подразумевает следование формуле «разрешено все, кроме прямо запрещенного».
В действительности пользование этими формулами может завести в тупик, поскольку сама оценка правильности тенденции развития режима, базирующаяся на подобных рассуждениях, категорически неверна. Истинно разумное политическое управление неизменно проявляет жесткость в тех вопросах, где должно быть запрещено абсолютно все, кроме прямо дозволенного. Следовательно, свобода – это не обывательская либеральность, опирающаяся на принцип вседозволенности. Свобода – это точное знание сознательного гражданина и члена общества, что можно делать, а что нельзя.
Утопии
Само слово «утопия» означает в современном языке нечто невозможное, такое, что никогда не осуществится. Обычно утопическими называют какие-либо грандиозные проекты, которые никогда не воплотятся в жизнь. Емкое слово в переводе с латинского означает «нигде», «место, которого нет». Так назвал вымышленную страну равенства и счастья просветитель XVI в. Т. Мор в своем произведении, явившемся первым в мировой литературе социологическим сочинением-исследованием о жизни людей, свободных от невзгод, нищеты и бесправия.
В форме диалога с неким выдуманным путешественником Мор описал, каким он видит идеально устроенное общество. Корнем зла мыслитель называет частную собственность. В своем сочинении, которое называется «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» (1516 г.), Мор пишет: «Я убежден, что ни равноправное и справедливое распределение благ, ни всеобщее благосостояние невозможно, пока не будет упразднена частная собственность».
Именно она, по мнению мыслителя-утописта, расколола общество на два противоположных мира – богатства и бедности. Мор сравнивает раздираемое распрями общество с больным телом человека и высказывается следующим образом: «Пока у каждого есть личная собственность, нет совершенно никакой надежды на выздоровление и возвращение организма в хорошее состояние. Мало того, заботясь об исцелении одной его части, ты растравишь рану в других. Таким образом, от лечения одного взаимно рождается болезнь другого, раз никому нельзя ничего прибавить без отнятия у другого».
Взамен частнособственнических отношений, приводящих к классовым антагонизмам, Мор предлагает нечто подобное коммунизму, т. е. описывает строй, отношения в котором базируются на коллективной собственности. Впоследствии многие мыслители позднего Средневековья и эпохи буржуазных революций писали о счастливом, утопическом обществе будущего. Со временем все подобные сочинения получили название утопий. Поскольку организация описанного в них идеального общества носила характер уравнительного коммунизма, то само течение в просветительской литературе было названо в дальнейшем историками и социологами утопическим социализмом. Утописты подвергались жестоким гонениям со стороны инквизиции и феодальной знати. Например, автор «Города Солнца» Т. Кампанелла был наказан инквизиторами лишением языка, а сам Т. Мор был казнен на эшафоте. Тем не менее идеи утопического социализма охватили фактически все европейские страны в период XVII–XVIII вв. и отчасти продержались вплоть до конца XIX в., пока не подверглись уничижительной критике со стороны марксистов.

Первый утопист Томас Мор причиной всех социальных неравенств считал частную собственность
Ранние сочинения утопистов были осмеяны еще Ф. Рабле. В своей сказке-сатире «Гаргантюа и Пантагрюэль» этот мыслитель XVI столетия показал экономическую невозможность построения идеального общества. Утопическую коммуну, которую описал Рабле, финансировал великан Гаргантюа, тративший на нее суммы, соразмерные его габаритам. Сатирик остроумно перечисляет потребности коммуны и скрупулезно подсчитывает затраты на ее содержание, показывая тем самым, что только сказочному правителю доступно поддерживать существование идеального общества.
Крупнейшими представителями позднего утопизма были Дж. Уинстели в Англии и Г. Бабеф во Франции. Они четко обосновали программу развития буржуазной революции до революции социальной, предлагали конкретные меры по улучшению жизни людей и достижению социального равенства. В отличие от ранних утопистов (Мора, Кампанеллы, Морелли и пр.), социалистические идеологи буржуазных революций в Англии и Франции не грезили несбыточными фантазиями.
Уинстели предлагал Кромвелю программу действий по закреплению республики, по расширению гражданских прав, по свободному пользованию землей и т. д. Бабеф, возглавлявший т. н. группу «бешеных» из числа наиболее активных якобинцев, требовал от Робеспьера и его сторонников углубить революцию, в т. ч. и методами террора.
В начале XIX в. утопический социализм представлен учениями Сен-Симона, Фурье, Кабе и Оуэна, которые создали первые общины, организованные по принципу уравнительного коммунизма. Некоторые из этих утопистов не ограничивались развитием социалистической теории, но стремились поставить социальный эксперимент – создать ячейку-коммуну, в которой будут господствовать отношения на основе всеобщего равенства и коллективной собственности.
Такая коммуна, служа примером идеального общественного устройства, привлечет к себе внимание других своим экономическим процветанием и благополучием ее граждан и в конечном итоге заставит людей отказаться от прежнего образа жизни и построить общество утопического социализма. Это общество со временем охватит все человечество. В будущем население Земли окажется разбитым на взаимодействующие коммуны, в которых все члены равны.
Большинство коммун возникало в США в XIX в. В эту страну люди стремились со всего мира в поисках свободы, мечтая организовать свою жизнь и жизнь своих близких наилучшим образом. Время от времени на территории Соединенных Штатов появлялись различные секты и общества, которые обособлялись от окружающего мира. Люди в этих сектах и обществах вели натуральное хозяйство и проповедовали особую моральную и религиозную идеологию. Поэтому в создании социалистических коммун утопистов не было ничего удивительного.
Одной из первых коммун была «Новая гармония», основанная в 1824 г. Р. Оуэном на земле секты гармонистов. Основатель коммуны называл свое детище общиной равенства «для блага нас самих, наших детей и человеческого рода». Оуэн наивно планировал перевоспитать людей, изменив условия их жизни. Напротив, в коммуну быстро стекались лица с темным прошлым. Воры и убийцы, отвергнутые обществом, нашли приют и бесплатное пропитание в «Новой гармонии». Вследствие всего этого утопия Оуэна, которого жители коммуны считали чудаком-филантропом, была растоптана на корню.
Община равенства распалась, и впоследствии мечтатель несколько раз пытался воссоздать ее, но безуспешно. Возможно, человеческая природа всегда остается неизменной, а может быть, утопический социализм не способен создать условия для улучшения человека. Кроме того, в экономическом плане община была крайне неэффективна. Оуэн использовал в качестве денег т. н. трудовые боны, которые быстро обесценились и привели к настоящей инфляции внутри «Новой гармонии».
Фурье не был столь наивен. Он планировал не перевоспитывать людей, а максимально использовать их качества, включая дурные, на благо созданной им коммуны. Последователи Фурье стали основывать коммуны (т. н. фаланги) по всей стране. Бум фурьеризма приходится на 1840-е гг., когда в США возникло около 30 фаланг, которые включали свыше 3000 членов. Дольше всех, а именно почти 12 лет, просуществовала Североамериканская фаланга, построенная в 1843 г. одним из наиболее ярых сторонников утопического социализма Фурье А. Бринсбейном.
Бринсбейн попробовал с целью устранения недостатков экономического характера, свойственных остальным фалангам, «примирить враждебно противостоящие друг другу труд и капитал». Внутри коммуны были установлены многочисленные запутанные правила: сложная система оплаты труда, акции, рента и т. д. Эта путаница принесла еще больше противоречий. Все американские фаланги сравнительно быстро (к 1847 г.) распались из-за низкой производительности труда, экономической неэффективности и внутренних разногласий по религиозным, административным и организационным вопросам.

В середине XIX в. в США насчитывалось около 30 таких коммун-фаланг
Сходная судьба постигла самую удачливую из американских коммун – «Икарию», основанную в 1848 г. Э. Кабе в Иллинойсе. Хозяйство «Икарии» отличалось высокой степенью обобществления имущества, производство опиралось на совместный труд. На первых этапах общество развивалось довольно интенсивно, его члены многого добились. Они построили кирпичный завод, несколько фабрик и сельскохозяйственных ферм, наладили выпуск собственной газеты и даже открыли небольшой театр с оркестром.
Во второй половине 1850-х гг. среди членов коммуны вспыхнули разногласия, из-за чего ее основатель в сопровождении нескольких преданных сторонников был вынужден покинуть «Икарию». Любопытно, что сама община не распалась после этого раскола. После потери лидера члены общины стали регулярно проводить общественные собрания для решения разных вопросов и выбирать должностных лиц (президента и др.), которые следили бы за исполнением этих решений.
Новый раскол потряс общину в 1879 г., что привело к краху этой коммуны. Икарийцы, прозванные «молодыми», потребовали от консерваторов более глубоких преобразований, в т. ч. упразднения должности президента, предоставления женщинам права голоса и обобществления приусадебных участков. В 1883 г. «молодые» вышли из состава общины и организовали собственную коммуну в Калифорнии. Эта организация, несмотря на далеко идущие планы бывших икарийцев, вскоре превратилась в обычное акционерное общество.
Противники «молодых», т. н. «консерваторы», попытались сохранить старую коммуну, но тщетно. Новые люди не приходили в «Икарию», а прежние икарийцы старели. Прогрессивная организация стала в полном смысле слова консервативной. В 1895 г. никто из членов общины не согласился быть избранным на пост президента по причине преклонного возраста, и коммуна, лишившись управления, прекратила свое существование.
Таким образом, нереальность идей утопического социализма, обнаружила себя не только на бумаге, но и на практике. Создатели общин и теорий отказывались учитывать человеческий фактор, скажем, не принимали в расчет потребности человека, необходимость его всестороннего развития и т. д. Никто из утопистов не помышлял об усовершенствовании самой организации труда – планировании трудовой деятельности, наиболее эффективном распределении людских ресурсов.
В этом и была главная ошибка мыслителей. Они выдвигали на первое место честный труд, которым попытались заменить собственность. Но над вопросами, каким должен быть труд, как его планировать, организовывать, развивать, облегчать, поощрять и стимулировать, никто не задумался. Получается, что утописты-коммунары решили уничтожить собственность, которая являлась основой хозяйства, и совсем ничего не предложили взамен, кроме красивых фраз о возвышающем человека труде.

Такие «средства производства» находились в «частной собственности» доисторического человека
Начатый утопистами спор о значении частной собственности нельзя разрешить в одночасье. До сих пор в философии и экономике нет однозначного мнения по этому вопросу. Одно можно сказать определенно: первобытные люди знали, что такое частная собственность на средства производства. Каждый пещерный охотник непременно имел личные вещи – копье, лук, коробочку с краской для лица и кое-что еще. Оружие и краска для лица помогали ему добывать животных, т. е. являлись средствами производства.
Никто в племени не имел права взять эти вещи. Когда охотник умирал, их складывали в погребение рядом с его телом, хотя это означало утрату хорошего копья и других полезных предметов. Получается, что частная собственность вечна. В доисторические времена она на протяжении более чем 1 млн лет не вызывала антагонизмов, следовательно, причины нынешних разногласий в обществе надо искать в чем-то другом.
Настораживают и прочие рекомендации утопистов, в которых заметна ошибочность изначальных суждений. Учение Бабефа (бабувизм) содержит агрессивную пропаганду террора и уравниловки, обирания всех слоев населения, чтобы общество благополучно пребывало в бедности. Бабеф атакует искусство, полагая, что оно якобы должно строго регламентироваться и непременно приносить материальную пользу. Утописты не учитывают возможностей машинного производства и необходимости дальнейшего его развития.
Путь решения социальных проблем, предложенный утопистами, ненаучен и нереален. Он ведет в никуда.