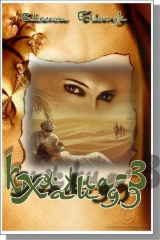
Текст книги "Хаидэ (СИ)"
Автор книги: Елена Блонди
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 54 страниц)
Он появился у сходней и, переговорив с матросом, дождался, когда тот позовет купца. Даори выскочил из трюма, хмурясь, забрал трубку, в которой был заключен свиток с посланием. И стоял под жарким солнцем, отмахиваясь от черных мух. Держал трубку в руке, не открывая. А гонец злился – ждал своей платы. Наконец, Даориций сломал печать, вытряхнул свиток и приблизил к лицу.
Мы с Маурой следили издали, и волнение старика передалось нам. Яркий свет не скрывал тревоги на старом лице. И вот сменилась она радостью и облегчением. Гонец уже почти ушел, взвешивая на ладони кошель, но Даори снова окликнул его. Велел ждать у портовой харчевни. А после одарил своих моряков мелкой монетой, приказал выпить и отдыхать.
Так поняли мы, что вести перед дальней дорогой – хорошие.
На берегу стояла жара, но папа Даори сменил старую одежду на любимый парчовый халат и в ободранной харчевне сверкал, как фазан посреди сухой травы. Он пригубливал из кубка дорогое, но все равно плохое вино, за другим столом пьяные дулись в кости, а я читал Мауре вслух послание от черного великана Нубы. Всего несколько строк, чтоб было о чем подумать мне долгими морскими ночами.
Черный бродяга, бывший спутник моей жены и друг старого Даори, писал странные вещи. Степная княжна Хаидэ победила зло, что пряталось в Паучьих горах, и потому целое племя осталось ждать зиму без теплых жилищ и запасов еды. А выжить, спасая людей, помог ей молодой бог Беслаи, что был когда-то человеком, стал богом и после родился заново, потому что пришло ему время полюбить и отправиться к своим детям за любимой женщиной. Дальше Нуба писал о своем счастье, благодарил Даори за его доброту, передавал тысячи пожеланий Мауре от себя и той, что танцевала с ней. И еще добавил низкий поклон мне, прося беречь и любить черное сокровище, добавляя, он помнит о том, кто его спас, и призывая всех богов защищать и оберегать меня самого.
Маленький свиток, исписанный крупными знаками. Всего несколько предложений. И вот эти скупые слова о сошедшем на землю боге!
Как все, я поклоняюсь богам и знаю, ни один шаг мой не проходит втайне от них. И знаю, есть народы и племена, что чествуют иных богов, и понимаю, огромный сонм их – истина. Все они существуют, даже те, которые вовсе нам не по нраву.
Но, прожив сорок с лишним лет, я не могу припомнить ни одного случая, чтоб кто-то из сонма спустился и принял человеческий облик. И не просто говорил с людьми, а прожил рядом с ними целую жизнь. Это удивительно. Хотел бы я увидеть земное воплощение великого небесного воина, которому поклоняются столько поколений смертельных степных Драконов. Даори не так много знает о нем, лишь редкие упоминания черного Нубы, когда тот говорил о своей жизни в степи. Все это он пересказал и мне. Да что увидеть! Хотел бы я просто послушать черного великана. О том, как вместе сидели у костра, что говорил Беслаи, как смеялся. И было ли ясно тогда, что он и есть бог. Бог племени, сидит рядом с воинами, хлебает варево, поет песни. Уходит спать. Слушает приказы вождя.
Сложилось так, что эта будущая легенда коснулась меня и Мауру лишь маленьким краешком, чуть больше – папу Даори. И мне остается думать об этом, и записать на тех своих свитках, которые после войдут в перипл Даориция, стараясь строго придерживаться лишь сведений, что мне известны.
Так я и сделаю. А полагаю главное во всей этой истории то, что явное присутствие бога вселяет надежду в людские сердца. Все может катиться в пропасть, бывают времена, полные неисчислимых бедствий. Тогда кажется, силу, увлекающую в бездну, не перебороть, не остановить падения. Но вмешиваются высшие силы, или – приходит бог. Мир полон чудес. И даже я, старый скептик, с умом навостренным изучением тысяч научных трудов, теперь понимаю это.
И несмотря на то, что новая легенда, которая совершалась на наших глазах, почти не затронула нас, был в ней подарок и мне. Наверное, так и должно быть с легендами. Наш с Маурой путь только начинается. И сведения, собранные мной о черном острове Невозвращения, о людях, что уходят туда продавать себя или своих близких, о темных купцах, шныряющих в базарных толпах, суля блага и улещая глупцов, чтоб увести в темный плен, эти сведения пугают меня. Я знаю, Маура не отступится, и за это люблю ее еще больше. Так же, думается мне, она шла бы спасать и меня, как рвется спасти своего брата. Но потому страшно думать, что уготовано нам на острове. И луч надежды на чудо необходим. Гонец привез его. Я всегда верил в богов. Теперь я буду верить и в чудо, которое может коснуться меня. Мне предназначенное чудо. Если мы будем пропадать в черных землях, оно спасет.
А теперь, нарушая порядок рассказа, напишу о другом чужаке.
Мы подходили к небольшому городку, после трех дней штормового перехода, и головы наши распухли от галдежа кур в клетках, заполнивших палубы и трюмы. Даори вез груз птицы, из одного порта в другой, и сам, возводя к небу глаза, ругал свою жадность. Как делал это всякий раз, а после заполнял выручкой еще один кошель. Перед утром я открыл глаза, лежа рядом с измученной качкой Маурой в маленькой каморке, которую Даори выделил нам на Ноуше. И увидел над постелью бледное широкое лицо с пронзительными холодными глазами. В крошечное оконце светила заря, устало орали куры, бились о борта деревяшки и канаты, хлопал парус, ясно слышимый в распахнутую из-за жары дверь. Я обнял жену и приподнялся, чтоб защитить ее. Но тут Ноуша легла на бок, куры заорали, кудахтая, послышалась ругань матросов. А светильник, громыхая, упал и покатился, обжигая мне локоть остатками масла. Казалось мне, всего на миг отвел глаза, но уже в каюте никого не было. Я вышел на палубу, заперев спящую жену. Ходил между суетящихся матросов, несколько раз спросил о чужаке и был обруган, ведь в такие волны завести шхуну в бухту нелегко. Я решил, что незнакомец мне просто приснился. И зря. Потому что к вечеру два матроса пинками привели к Даорицию чужака с широким бледным лицом, закутанного в облезлый некогда белый плащ. Рассказав, что нашли его в трюме за мешками, куда прятался и, видимо, хотел тайком добраться до следующей стоянки с нами. Когда я узнал об этом, вернувшись с Маурой из города, было поздно – папа Даори велел отвесить чужаку пару плетей и выгнал прочь, пригрозив утопить, если появится снова. Я спрашивал старика, что тот говорил и как выглядел. Но папа Даори поведал немногое: тот рассказал какую-то, видно наспех выдуманную историю, не сильно заботясь, чтоб ему поверили. В каждом порту, где приходится выгонять чужаков, они рассказывают одно и то же, сказал купец. Но добавил – этот белый очень не понравился ему. Глаза, как два тусклых камня, неживые. И на груди, когда распахнулся плащ, – нехороший знак, мерзкий, будто паук с растопыренными лапами.
– Когда чужак увидел, куда я смотрю, зубы оскалил и стал снимать свою цацку, – так сказал Даори, хмуря брови и, кажется, вспоминая что-то свое, – стал совать мне ее, в уплату за беспокойство и чтоб взяли его на борт. Да я только плюнул и отправил к матросам за наказанием. Велел, чтоб на бросок камня не подпускали к Ноуше.
Чтоб не печалить старика, про ночную встречу я промолчал. Только по выходу из порта снова и снова обшаривал все углы, убедиться, что тать не пробрался на шхуну. Его не было. Но память о липком взгляде засела в моей голове и тревожила.
Когда настанет время нам с Даори попрощаться, я низко склонюсь и попрошу старика не таить от меня ничего, даже если это стыдно или печально для его души. Он любит Мауру как дочь. И должен понимать, знание поможет нам уберечься.
Иногда мне кажется, я стар для новых приключений. А иногда я кажусь себе трусом. Груз знаний давит мои плечи, я начинаю завидовать тем, кто остался в вольной степи, и полагаю, как последний глупец, что их невзгоды и горести уже позади. А после смеюсь над собой, понимая – если боги того захотят, то в уюте собственной спальни можно умереть, подавившись вкусной оливкой во время роскошного ужина. И по их же божественной воле человек может пройти страшные испытания и остаться живым.
Я написал много. Молюсь, чтоб настал день, когда я перечитаю написанное, и щеки мои вместе с седой щетиной, покроет краска стыда за боязливое многословие. Уж этот стыд я как-нибудь переживу. Пора спрятать свиток и ложиться спать. Утром нам предстоят долгие сборы. А через несколько дней мы отправимся с караваном на юг, в длинное путешествие через несколько государств, к соленому морю, заключенному в красные пески со всех сторон.
Наша легенда только начинается»
Дом Канарии
Женские шаги, мерным эхом шлепающие под каменным сводом, были тяжелы и равнодушны. Ровно горел факел, окутывая прозрачным пламенем тугой комок масляной ветоши, и только на поворотах узкого коридора пламя дергалось, сползало в сторону, будто хотело сорваться и улететь. Но шаги мерно звучали дальше, и плененный огонь, присмирев, снова выравнивался, оставляя над пляшущим гребнем мазки черной копоти по каменному потолку.
Через широкое подземелье женщина прошла, не глядя по сторонам, заученно обходя извитые в танце каменные и деревянные фигуры. Склонила затейливо причесанную голову, обрамленную черными косами, входя под низкие своды тайного коридора. У маленькой дверцы постояла, развлекаясь – водила огнем по бахроме паутины, и слушала, как та шипит, обгорая. Засмеялась, когда с черных клочьев посыпались вниз трупики пауков. И, неторопливо погремев ключом тяжелого замка, отворила дверь и вошла в душный мрак тесного святилища.
Тяжело неся крупное тело, по очереди подошла с поклоном к богине, скалящей зубы из белой полированной кости, потом к статуе мужчины, свирепо глядящему перед собой выпуклыми отшлифованными глазами. Прошептала привычные слова восхвалений. Воткнула факел в держатель на стене, и медленно поворачиваясь, скинула одежды, топча их босыми ступнями. Тяжело взгромоздилась на каменное кресло, повернутое спинкой ко входу, и повозившись, сминая покрывало на сиденье, уперла руки в белые колени, нагибаясь вперед.
Круглые черные глаза, отражающие красный свет факела, шарили по темному пространству, перечеркнутому толстыми прутьями решетки.
– Ну? Мне еще ждать?
В тишине трещал огонь. Из дальнего угла послышался тихий всхлип. Женщина в кресле усмехнулась. Проведя рукой по животу, нащупала висящую ниже больших грудей серебряную подвеску. Сжала ее так, чтобы крючки по уголкам легли между пальцев.
– Ты знаешь, что я могу сделать с тобой. Что, расхотела выйти на солнце?
После недолгого молчания тихий голос отозвался, прерываясь от мучительной недоверчивой надежды:
– Я… ты выпустишь меня? Наверх?
– Ага, – женщина откинулась на спинку кресла, играя серебряным шестигранником, – если будешь слушаться.
В темноте проявился бледный силуэт, качаясь, приблизился к прутьям, кладя на них тонкие прозрачные пальцы. Белое лицо прижалось к решетке. Женщина приподняла подвеску, забавляясь тем, как темные глаза неотрывно уставились на пустоту в центре шестигранника.
– Что? Хочется? А чего больше хочется, а? На солнышко выйти или показать мне сладкого?
Темные глаза с трудом оторвались от серебряной игрушки. Лицо стало ярче, на щеках запылал злой румянец.
– Тебе нравится мучить меня? Да, Алкиноя?
Бледные руки бросили решетку и, забираясь по спутанным прядям волос, наматывая их на кулаки, дернули, так что на глазах сверкнули слезы:
– Я ведь мать тебе, злая ты девка!
– Ага, – Алкиноя откинулась в кресле, держа подвеску за цепочку. По-бабьи раскинула полные ноги, упирая ступни в приступку.
– Знаю, что мать. Сейчас ты попляшешь мне, с темным мужем, данным нам с тобой великой Кварати и сильным Огоро. И если я останусь довольна, то выпущу тебя наверх.
– Нет! Это противно природе! Так нельзя!
– Там тепло, Канария. Вкусная еда, вино. Там ждет тебя земной муж и мой отец Перикл. И сын твой Теопатр.
– Мой сын… Он жив? Я уже оплакала его, тут в темноте, биясь о каменные стены. Он умирал…
– Ну. Я просто шутила. Всего-то гнилая немочь ест его кишки. Я сильна теперь, как не была сильна ты. Он будет жить. Пока мне весело с тобой. Уж постарайся для своего сына, веселая мать.
Женщина в темнице, обретя плоть, переминалась по камню босыми ногами, кусала потресканные губы, по впалым щекам пробегали тени. Алкиноя разглядывала высокую фигуру матери, оборванный хитон с грязным подолом, резко выступающие ключицы, мосластые колени и острые локти.
– А ты потеряла свою красоту. Верно говорят, красота матери уходит в ее дочь, когда та становится настоящей женщиной.
Вытянула обнаженную руку, любуясь полным плечом и тонким запястьем. Канария злобно усмехнулась и тут же согнала усмешку с лица. Сказала, не в силах сдержаться:
– Тебе всего четырнадцать, Алкиноя. А телом ты догнала зрелых матрон. Что будет с тобой в тридцать?
– Заткнись! Теперь я всегда буду такой! Ты станешь старухой, сморщенной и костлявой, а я буду цвести на радость мужчинам. Если ты доживешь до старости, конечно.
Она снова уложила подвеску на выпуклый живот и напомнила:
– Так ты готова повеселить меня? Пока еще не стала совсем безобразной.
– Да, – шепот матери был покорен и тих.
– Не слышу!
– Да! – выкрикнула пленница, дрожащими руками стягивая с плеч хитон, – я говорю да!
Алкиноя облизнула губы, снимая с шеи медальон, подняла его перед лицом, так чтоб смотреть на темницу через мутную пустоту в сердцевине.
– Пляши… Он идет к тебе. Покажите мне, как еще соединяются мужчина и женщина, покажите то, чего я не видела.
Серый туман клубился в прорехе знака, мелькала в нем высокая фигура, поднимая обнаженные руки к черным волосам, кружилась, притопывая в такт неслышной мелодии. В развидневшейся сердцевине запрыгала вместе с ней крошечная белесая фигурка и мелькнула, выпрыгивая, торопясь, как давешние обожженные пламенем пауки, протиснулась через прутья в темницу, стала расти, становясь ярче.
Сжимая в кулаке подвеску, Алкиноя смотрела, как переплетаются две фигуры, валясь на рваную подстилку и поднимаясь снова. Захохотала, глядя в искаженное лицо Канарии, со всего маху припечатанное к решетке и яростное лицо мужчины за ее плечами. И когда двое, застонав, повалились на каменный пол, скука снова взошла на круглое лицо с накрашенными щеками.
– И все? Что, это все? Так быстро?
Любовники лежали, тяжело дыша, отворачивая друг от друга горящие лица. Техути, стараясь, чтоб не заметила Канария, умильно улыбнулся молодой хозяйке. Та с досадой скривилась.
– Мне вовсе не сладко! – в голосе зазвенела плаксивая ярость.
Канария, садясь, отползла подальше, натягивая на живот хитон.
Топнула полная нога по черному блестящему дереву.
– Вы скучные! Надоели! И ты надоел, пошел вон! Уже не можешь веселить меня!
Она вытянула руку, прижала к лицу серебро, помещая испуганную улыбку жреца в пустоту между граней. И пока он, бледнея, всасывался серой пустотой, продолжала кричать, колыхая голосом неясные паутины на потолке:
– Я думала, это всегда будет вкусно. Сладко! Куда девается все? Мне так мало лет и так много еще жить. Хочу, чтоб было хорошо!
– Ты еще можешь смотреть на меня и девушек рабынь, – голос Техути уменьшался и убыстрялся, превращаясь в комариный писк, – а еще можешьможешьможешь…
– Заткнись! Было уже, и тоже надоело мне! Я хочу… хочу… вот! Юношей рабов, сильных и умелых. Чтоб много. Пусть пять, нет десять сразу! Мать, ты купишь мне, завтра же, велишь отцу, пусть едет на рынок и сторгует.
– Ты глупа. Даже сто не вернут сладость. Потому что ты обожралась сладким.
Алкиноя тяжело сползла с кресла и с надутым лицом отперла большой засов, распахивая решетчатую дверь.
– А вот не верю! Ты все время жрала мужчин и всякие удовольствия. Хочу, как ты. Все равно научишь, поняла?
Идя следом за матерью, светила ей в спину факелом, с удовлетворением рассматривая грязный хитон и худые плечи под свалявшимися волосами. На выходе из подземелья ждал мист, закутанный до шеи в серый плащ. Канария замедлила шаги, с мольбой глядя на равнодушные глаза и сжатые губы. Вздохнув, прошла мимо, а за спиной загремел замок.
В темном спящем доме Алкиноя подтолкнула мать к детской спальне.
Теопатр лежал, трудно дыша и во сне сглатывая, морщил потный лоб, перебирая по одеялу руками. Канария упала на колени, дрожащей рукой вытирая холодные бисерины пота с детских щек.
– Не бойся. Не помрет он. Пока слушаешься, – равнодушно утешила ее дочь, – иди к отцу, разбуди. Велишь ему насчет юношей. И завтра займись хозяйством, а то мне это скучно.
Канария выпрямилась, поправляя на боках изношенный хитон.
– Ты погубишь отца, если будешь и дальше поить его своей отравой.
– Так что ж. Он, небось, хотел услать меня в храм. Хорошо, что добрая Кварати научила меня, как от вас защититься. Зато он думает, что ты все еще с ним, всегда.
Она захихикала, вспоминая мутные глаза Перикла, которыми он водил за ней, ожидая следующей чаши с пойлом. Хорошая у него наступила жизнь. Есть, пьет и спит. А как проснется – жена рядом, хозяйствует. Чего еще надо?
– Пошли. Нарядишься в новое, а то слуги тебя засмеют.
В комнате Канарии она села на лавку рядом с окном, завешенного расписной шторой. Следя, как мать вынимает из сундука богатое платье, погладила выпирающий живот и, что-то вспомнив, облизнулась. Пошарила рукой рядом с лавкой и, подняв с пола, сунула на колени горшок с плотной крышкой, отколупнула ее ногтями. По комнате разлился острый запах сквашенных овощей. Засовывая руку внутрь, Алкиноя доставала горсть крупных маслин, совала в рот, облизывая мокрые пальцы. Вздыхала и жмурилась, выплевывая на пол косточки.
Мать, сидя перед зеркалом, расчесывала длинные волосы, морщась, когда гребень застревал в спутанных прядях. Забыв о руке, поднятой к затылку, медленно повернулась к дочери, с ужасом глядя на расставленные колени, провисший подол в мокрых пятнах. На горсть блестящих плодов в мокрой ладони.
– Ты… ты что, тяжела? Ты носишь ребенка?
Та выплюнула косточку и вытерла рот. Потрогала живот, прижатый горшком. Кивнула, наслаждаясь материнской растерянностью.
– Алкиноя! Ты понесла от слуги Техути? Да как ты…
– Пфф. Верно говорит сильный Огоро, все бабы глупы, кроме черной Кварати и меня – ее послушной земной дочери. Зачем мне твой старый урод? Нет. Мое чрево носит этого… ну… посланца… Да!
Гребень выпал из руки Канарии.
– Боги лишили тебя рассудка! Пойдем, пойдем милая, упадем в ноги девственной Артемиде и станем просить…
– Молчи! Не смей призывать ложных богов!
Алкиноя сунула горшок на лавку и встала, стараясь приосаниться. Выпятила пышную грудь, обтирая руку о бок хитона. Другой схватилась за спасительную подвеску.
– Откроешь рот, я призову смерть на сына и мужа твоих! Иди прочь!
Мать прошла к двери, шевеля губами и прижимая руки к груди. Выскочила в коридор, и, переводя дыхание, торопливо побежала к спальне Перикла, утишая лихорадочно скачущие мысли. За ними, мелкими и невнятными, вставал, смеясь над ней, немыслимый черный ужас, что сейчас свернулся в животе ее дочери и представлялся ей, Канарии, жирным червяком, чья плоть была напитана ее собственными безумными удовольствиями и жадностью к запретным вещам.
Проскальзывая мимо темных арок, она шептала имена богов и тут же смолкала, пугливо оглядываясь. Перебирая босыми ногами, взбежала к двери спальни, где дремлющий раб вскочил и низко поклонился хозяйке, которая снова бродит ночами, внезапно появляясь ниоткуда.
В сумраке, освещенном крошечным огоньком светильника, Канария медленно пошла к постели, окликая храпящего Перикла:
– Ты спишь, мой муж? Проснись, мне нужно говорить с тобой. О новых рабах.
Алкиноя вышла из материнских покоев и зевнула. Все идет хорошо. Завтра мать целый день проведет в делах, поддерживая большое хозяйство. Ее нельзя потерять, все тут лежит на плечах Канарии. А Перикл если помрет, нестрашно. Теопатр пока поболеет, так легче командовать матерью.
Она вышла в ночной сад, накинула на голову край тонкого шерстяного плаща. Узкая луна лила с неба маленький свет, деревья громоздились черными купами. Из-за колонн, окружающих перистиль, выползал сладкий запах ночных цветов, и Алкиноя устремилась туда, торопясь к буйно разросшемуся дурману, что клонил огромные белые колокольцы шестигранных цветков. По пути не забывала хозяйски оглядывать высокие белые стены, колонны и башенки на стене, ограждающей дом и сад.
Посланец родится в хорошем месте. Тут будет основано новое гнездо. И ей, матери первого вечноживущего сына, тоже будет позволено жить долго, всегда оставаясь молодой. Она отдала свое чрево и черная Кварати обещала – все, чего захочется ей для сладости, всегда будет исполняться.
Мератос
Солнце сыпало мелкие лучи и они, падая на усеянное кристаллами поле, разбивались в острые, жалящие глаза брызги. Будто белый смертельный песок веял вокруг, заставляя пересыхать рот и обметывая потрескавшиеся губы.
Женщина отвернулась, вытирая слезу, облизнула губы и поморщилась – язык проехался, как шершавый камень-точило. Нагнувшись, подхватила корзину, полную сверкающей соли, и, устроив ее на боку, зашагала к песчаной полоске дальнего берега. Блеск под изношенными подошвами скрипел и шуршал, а впереди, от песка, немолчно ревело такое же сверкающее море.
Мерно шагая, выбралась на узкую тропку, укрытую изъеденными солью деревянными плашками. Очень хотелось пить, но – нельзя, сейчас нельзя. Иначе тело истечет потной слабостью, и она обессилеет раньше, чем белое солнце покраснеет, спускаясь к пологим волнам, рядами идущим по мелководью. А если она не принесет свои полсотни корзин соли, ее побьют и отправят на дальний край деревни, где такие же рабыни, укутанные в тряпье до самых глаз, засыпают в чаны и огромные пифосы, врытые в землю, мелкую рыбешку, готовя гарум. Там тысячи мух летают роями, кусая лицо… Если хоть краешек щеки выглянет из-под жарких тряпок, можно обезуметь, как обезумела три дня назад новенькая, завыла, крутясь и скидывая одежды, и побежала к оврагу на краю деревни, прыгнула в черную грязь, суя в глубину искаженное лицо. Надсмотрщики не дали ей захлебнуться. Теперь она, спутанная веревками, воет и воет, изредка умолкая, а после водит дикими глазами, снова понимает, куда угодила, и, открывая черный рот, опять заводит хриплый вой-плач. И солнце, пролезая через длинные щели в навесе, чертит жаркие полосы на грязной побритой голове.
А еще там воняет. Гарум, прея на жарком солнце, кажется, шевелится в жарком воздухе, узкие тельца рыб тускнеют, исходя твердым злым запахом, от которого выворачивает желудок, и разве привыкнешь к нему. Нет, лучше таскать соль. После двух десятков корзин можно пройти по горячему песку и упасть в мелкое море, прямо в хитоне и покрывале, полежать, сжимая губы, чтоб не наглотаться соленой воды. И следующие пять или даже семь походов вглубь сверкающего злой солью озера кажутся терпимыми. Худо будет к закату, когда заболит спина, и руки заноют, вытягиваясь до самой земли. Но там скоро ночь, теплая вода, целый кувшин, для нее. Можно будет, набрав в ладонь, помыть лицо, смочить горящие веки. И расчесать отросшие волосы.
Она споткнулась и выругалась, грубо, как теперь умела, как научил ее Грит, угощая кислым вином и смеясь; выталкивая к костру, чтоб плясала. Это хорошо, что есть Грит. Хорошо, что осенью, когда ее привезли сюда, и вытряхнули из повозки, как ворох тряпья, она сразу поняла, кто тут главный. Не старший над стражами Мантиус, его боятся, но он справедлив, ко всем. А к чему ей справедливость.
Если бы по справедливости…
Она подошла к врытому в глину плоскому корыту, высыпала соль на месиво рыбьих туш. И отправилась обратно, мерно скрипя старыми сандалиями. Мимо лица мелькали ласточки, стригли горячий воздух черными ножиками хвостов, резали острыми крыльями. Попискивали, подпрыгивая в небо и падая обратно. А высоко в сверкающей бледной голубизне висел, как на нитке, зоркий ястребок.
Застучали под ногами плашки, блеск соли снова вошел в глаза, и она прищурилась, глядя вдаль, чтоб не уколоться взглядом о покрытые кристаллами ближние предметы – кустик мертвой полыни, гнилые колышки вдоль тропы, косточки, торчащие из запорошенного солью ила.
…Эти слова сказал Теренций, когда привели в его покои, швырнули на пол, рыдающую и косящую глазом из-под распущенных рыжих волос.
– По справедливости я должен тебя убить. Предать городскому суду и после смотреть, как палач иссечет твою спину плетью, будет бить, пока не сдохнешь. Но в память о моей настоящей жене, которую я выгнал, послушав тебя, девка, останешься жить.
Подождал, когда она, захлебываясь, устанет перебирать невнятные слова благодарности. И приказал:
– К рыбакам ее. В Южный кут. Пусть квасит гарум.
Она замолчала, в ужасе вспоминая рассказы Гайи, ночной шепот рабынь, что пугали друг друга ссылкой в наказание. И, повисая на сильных руках рабов Теренция, с ненавистью посмотрела в массивное обрюзгшее лицо, мысленно призывая на него все демонские кары. Лучше бы умереть, думалось ей тогда, чем покорно сидеть на каменном полу, вздрагивая от холода острого ножа, сбривающего с головы остатки пышных волос. И после идти через кухню и задний двор, сквозь жалостные и насмешливые взгляды, опуская голову, кожу которой кусал незнакомый, впервые добравшийся туда бесстыдный ветерок.
А еще он сказал ей вдогонку:
– Благодари Хаидэ, безумная тварь. Я не оставил бы тебя в живых.
Женщина нагнулась, поставила корзину, черпнула плетеной лопаткой горку соли, схватившейся прозрачными ломкими пластинами.
Благодарить? Да пусть черви выжрут лоно княгини, и пусть лезут оттуда склизкой горой, кусая мужской корень каждого, кто влезет на ее похотливое тело! Пусть каждый, кто пожелает эту самку шакала, пусть он рыдает, глядя, как его мужское счастье повисает жалкой изъеденной тряпкой! И пусть Хаидэ, как жирная паучиха, умирает от похоти, тащит к себе всех, и пусть все, сгнив, ненавидят ее за это!
Потресканный рот шептал проклятия, а руки мерно сыпали белую соль. Она проклинала свою хозяйку всю долгую зиму, когда ноги мерзли в растоптанных сандалиях, а руки покрывались цыпками от холодной соли. И весной, когда небо заполнилось птицами, а солнце с каждым днем пекло сильнее, проклятия помогали ей выжить, сокращая дни, от жиденького рассвета к черноте короткой ночи.
Только ночами она переставала призывать кары на голову знатной жены своего так удачно пойманного и после упущенного высокого хозяина. Потому что ночью новый хозяин занимался ее телом, не давая отвлечься.
Грит взял ее в первый вечер, когда притащилась вслед за другими рабынями, падая от усталости и неся перед собой израненные солью руки. Усмехаясь, толкнул к своему шалашу, разглядывая, как отсветы костра прыгают по голой голове, покрытой неровной светлой щетиной и по растерянному лицу. Не опуская полога, лег, раскидывая кривые ноги. Потом она послушно сидела на его животе, поднимаясь и опускаясь на дрожащих согнутых ногах, а в обнаженную спину от костра летели насмешки. Рабы и стражники злились на Грита, что первым взял новое: сочное и сладкое женское тело, еще вчера холимое рабынями, мягкое и светлое, не чета женщинам деревни, сожженным солнцем и выдубленным солеными ветрами. Но, ежась от их взглядов, она поняла – никто не посмеет отобрать новую игрушку у полубезумного быка, низкого ростом, с вислыми широкими плечами, и кривыми, как коряги ногами. И тогда, нагибаясь к покрытому шрамами лицу, к сверканию глаз в красном полумраке тростниковой каморки, Мератос сама положила руки на волосатые плечи. Задвигалась быстрее, с мрачным удовлетворением слушая, как из раззявленного рта, вместе с вонью вина и чеснока, исторгаются вопли наслаждения.
Зачем ей справедливость, если есть Грит. Иногда он проигрывает ее тело в кости рабам или солдатам, что приезжают за солью и гарумом, бьет, если просыпается в гнилом настроении, но зато она не квасит рыбу, и другие не смеют обижать ее. Воды она получает целый кувшин. А по праздникам Грит уводит ее к дальнему роднику, окунувшись сам в прозрачную прохладную воду, сажает на колени, ржет, трогая пальцами отросшие рыжие волосы. И дает новое покрывало взамен истрепанного, чтоб солнце не сожгло белую кожу в мелких нежных веснушках. Чтоб ему было приятно отведать ее снова и снова.
– Я просто знатный князь! – похохотывая, Грит задирает на ней хитон, показывая собравшимся у костра бедра и смачно шлепает по белому заду, – эва какая у меня сдобная булка! Не то что ваши горелые сухари.
Мератос высыпает в чан очередную корзину, и с трудом выпрямившись, с тоской глядит на солнце. Чтоб ему не вспомнить – день кончается вечером! Обернувшись, рукой показывает надсмотрщику в сторону моря, и тот кивает, позволяя.
Валяться долго в мелкой прохладной воде нельзя. И Грит не спасет ее, на то есть приказ от Теренция – следить, чтоб работала, как все.
Мысль о прежнем хозяине, как всегда, измазала сердце и мысли жиром ненависти. Но и подстегнула. Мератос в последний раз легла на песчаное дно, наслаждаясь тем, как волны перекатываются через спину. Встала, поправляя на лице мокрое покрывало. Пошла к полосе песка, отделяющей море от соленого озера, где на краю белизны валялась ее корзина. А мимо нее шли мерной чередой сожженные зноем женщины в сером тряпье.
И вдруг остановилась, услышав возбужденные крики. На сером склоне дальнего холма, в дрожащем от марева горячем воздухе появлялись и исчезали крошечные фигурки. Медленно приближались, спускаясь. У Мератос стало неспокойно на сердце. Там повозка, и всадники. Еле заметный в мерцании воздуха треплется на копье яркий флажок.
– Эй! – черный надсмотрщик замахал рукой, злясь, и женщина, пониже спустив на лоб край покрывала, заторопилась на деревянные мостки.
Зачем они приехали? Недавно были, привезли еды и вина, немного одежды, пересчитали работников и выслушали рассказ Мантиуса о двух погибших – пьяный старик утонул, заблудившись ночью на отмели. Да женщина, собирая козлятник, сунула руку в нору паука, через день раздулась и умерла, не узнавая никого. А вдруг хозяин вспомнил о своей любви? Вдруг приехали – за ней?
Мератос с тоской глянула на медленно краснеющее солнце. Вот бы сейчас прибежал от деревни вестник. Улыбаясь, она пройдет по деревне, мимо хибар и навесов, через вонь гарума. Не посмотрит на Грита, когда он кинется ей в ноги, умоляя замолвить князю словечко. Нет, посмотрит. Плюнет в его волосатую рожу. Пнет ногой в живот, попадая прям в корень. Пусть орет, прыгая.
Но от деревни никто не шел, и, вздохнув, Мератос опустила голову. Привычно стараясь не глядеть на предметы, побрела по мосткам.
Когда от чанов раздался крик, возвещающий конец работы, она прижала к боку пустую корзину и, скидывая с волос покрывало, огляделась. Женщины устало брели в сторону хижин. Некоторые по дороге сбрасывали тряпье, заходили в море, туда, где мелкая вода доставала до колен, падали с шумными стонами. Выйдя, шли дальше, медленно одеваясь на ходу. А она все еще стояла, вдруг испугавшись, что вернется, а там – ничего для нее не изменилось. А вдруг… вдруг это княгиня, вернулась обратно к мужу, и уговорила его простить свою глупую рабыню, у которой всей вины – любовь к высокому господину? Она добрая, княгиня Хаидэ. Так и есть! Разве она позволит, чтоб ее Мератос, которая чесала и убирала ей волосы, которой она дарила свои платья, была тут, валялась под вонючим Гритом!








