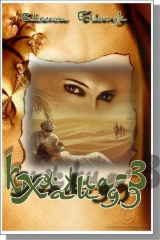
Текст книги "Хаидэ (СИ)"
Автор книги: Елена Блонди
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 54 страниц)
Глава 28
В просторной пещере, залитой дымчатым мягким светом, в самом центре ее, где из широкого отверстия в каменном потолке падал вниз световой столб, заворочался мужчина, откинул голову и сонно прищурился на медленный танец пылинок. Повел глазами за тяжело летящей пчелой и моргнул, когда быстрая острокрылая тень мелькнула, раскрывая клюв, и пчела исчезла. Постепенно просыпаясь, мужчина повернул голову, осматривая купы темных широких листьев, расцвеченных белыми гранеными колокольцами цветов. По ним ползали пчелы, снимались, гудя, улетали к следующему цветку. Садясь, вытряхивали из цветка нежный поток светящейся пыльцы. Он сглотнул, проводя шершавым языком по губам, – даже на вид пыльца была сухой и сладкой.
Медленно сел, опираясь на руки, посмотрел и на них, как на чужое. Крепкие руки, покрытые светлыми волосами, мужские, с сильными пальцами, на указательном – искривленный сустав. От чего? Стал вспоминать, пытаясь приблизить к уму предметы, но бросил, не найдя в голове ничего, кроме того, что видели глаза сейчас и того, что слышали уши. Воздух полнился тихим гудением, посвистом крыльев и шорохом потревоженной пчелами листвы. И еще где-то мерно капала вода, стекая по камню, журчала, собираясь в крошечные ручьи. Он знал – ручьи, один вытекал из-за темной округлой купы, сплетенной из больших листьев.
Опуская лохматую голову, осмотрел себя – широкую грудь с рваным шрамом в виде странного знака, голые бедра, колени, босые ступни. Видел и называл в голове. Закончив перечислять себя, задрал лицо к дымке в неровной дыре потолка. Свет. Это – свет, сказала голова.
Он собирался встать, чтоб увидеть и узнать еще что-то, потому что все виденное, учуянное и услышанное уже перечислил. Но мелкий топот и смех остановил его. Шурша листьями, из-за куста с белыми цветами выскочил мальчик, совсем маленький, черноволосый и тощий, может быть год с небольшим. Замер, раскрывая рот и разглядывая обнаженного мужчину узкими черными глазами, полными горячего любопытства. А топот не стих и следом вывалился другой мальчишка, его ровесник. Но совершенно другой, похожий на маленького медведя – толстый, крепко тупающий кривыми ножками, с косматой коричневой головой и круглыми глазами.
– Э? – сказал вопросительно и, подбежав к другу, схватился за подол его рубашки, что криво падал до колен.
– Башой, – поделился с ним узкоглазый и, прислонив голову к уху, что-то зашептал, гримасничая и притопывая. Медвежонок слушал, свирепо хмурил широкие бровки и, надувая щеки, грозил сидящему мужчине деревянным игрушечным мечом.
– Люди, – удивленно обрадовался мужчина и, снова оглядывая себя, переводя взгляд на малышей, добавил, – маленькие люди… одежда… маленькая одежда… и маленький меч…
– Эй! – раздался за его спиной женский сердитый голос, и наполнился удивлением, – о!
Мужчина повернулся.
Невысокая женщина, одетая в яркую вышитую рубаху с открытым воротом, смотрела на него коричневыми глазами, округлив рот и опустив руку с еще одним игрушечным мечом. Обходила опасливо, как зверя и, оказавшись рядом с мальчиками, кинулась к ним, обнимая и притискивая к подолу, быстро оттащила подальше. И встала, рассматривая сидящего с жадным любопытством.
– О, какой ты. И откуда взялся? Может, свалился сверху? Да сколько я тут – никто еще не падал. Это ж каким надо быть, чтоб упасть в нутро, бают там и не видно, даже и ногу не просунуть, а ты вон какой – большой.
– Башой! – подтвердил узкоглазый мальчишка гордо, – башо-о-й!
– Туда только ласточки и пролезли, до времен еще. И те назад не выпрыгивают, так и живут в цветах. Ну, сам видишь. Чего глядишь, ты совсем не понял, да? Да не скачите вы!
Тараторя, придерживала мальчишек, а те рвались вперед, пыхтели, выворачиваясь из сильных рук.
– Не прыгайте. Может, он ест детей-то. Вон какой рот, а рожа, а бородища! Сейчас завоет, да как хляснет зубами.
И сказала гордо в ответ на мужскую улыбку:
– Пугаю, а не боятся. Вот какие сыночеки у меня. Мои цари, мои младшие. Ты чего тут сидишь? Ты хоть оделся бы, фу и фу, я конечно и посмотреть могу, у меня глаз не отвалится, и есть на что смотреть у тебя.
– Женщина, – сказал мужчина, – добрая женщина. Мать. И – жена.
Опустил лицо, разглядывая свои бедра.
Та испугалась:
– Молчи! Я ж так сказала, для смеху, а ты, гляжу, все на язык тащишь. Хорош-хорош, но сыночеки за тобой и повторят. Успеют еще. Маленькие.
– Маленькие, – послушно согласился мужчина.
– Тьфу ты. Смешной. Мы пойдем. Нам тут долго нельзя. А ну, пролазы, быстро. Вечно найдут дырки, мне потом лезь следом. А платье? Я ж его шила, нитку к нитке укладывала! Истреплю, жалко.
Разводя руки, толкала детей к узкой тропинке, светила в спины тревожной и гордой улыбкой. И когда те побежали, толкаясь и смеясь, снова обернулась к мужчине:
– Ты не сиди тут. Иди в гору, иди. А то никогда в ум не войдешь, и эти слова забудешь.
Проходя, коротко поклонилась и вдруг встала, рассматривая раскрытую ладонь лежащей на траве мужской руки.
– Э-э-э, да тут что у тебя? Ну-ка…
Присев, схватила развязанный тонкий шнурок с бусинкой, отскочила, сурово глядя на гостя.
– Ты чего чужое берешь? Кто давал? Это Мелика знак, зачем у тебя? Зачем сыночека трогал?
– Знак, – согласился мужчина и, поднимаясь, простер раскрытые ладони. Затряс головой, подбирая слова, – нет, нет. Далеко были. Не брал. Я тут вот, – указал себе под ноги, – маленькие – там. Где листья.
Сжимая шнурок в кулаке, женщина нахмурилась.
– Ты знай. Если думал обидеть, Кос тебе вырвет бородищу-то. Мелик для Коса наиглавный сын. Бывает даже главнее Бычонка, хотя не Кос его делал, а чужак.
Отступала от мужчины, который нагнул голову и вытянул шею, чтоб, не трогаясь с места, как-то приблизиться к ней, чтоб яснее видела, как трясет головой и водит бровями, мол, не трогал, совсем не трогал. Женщина быстро огляделась, поежившись. Прошептала:
– Зряшный разговор. Ты иди, иди отсюда, и я пойду. На тебе, на…
Ловко отстегнула на поясе верхнюю юбку, из сто раз беленого морской солью полотна, вышитую квадратами и треугольниками, кинула ему в руки. И, поправляя рубаху, ушла вслед за детьми.
– Страх, – задумчиво сказал мужчина вслед качающимся листьям и медленно взлетающим пчелам, – тревога, страх. Догадки, и – память. Забота. Любовь.
Поднял руки, растягивая подаренную накидку, шевеля губами, внимательно рассмотрел вышитые фигуры. И заворачиваясь по поясу, стянул концы узлом, повторяя:
– Одежда. Подарок.
Шагнул на узкую тропу, вьющуюся между кустов и пошел вперед, к далекой стене, освещенной слабым дымчатым светом. Шел, трогая цветы, называл их, называл пчел и пыльцу, что те высыпали толстыми тяжелыми тельцами, поднимал брови, когда еще одно слово и еще одно всплывало в памяти. И топал быстрее, шепча уже без перерыва, а слова торопились, налезая друг на друга, комкались и падали, расправляя на лету смыслы и значения.
– Стена. Впереди, там. Пчелы, крылья, взяток. Медовый, сладкий. Женщина, женщина моя, медом полна, птицы, страшно, спать бы, а свет. Ходил! Дороги. Пальцы от струн, болит, болит там в сердце. Прогнали. За то, что… что думал. Много думал, ставил слова. Как надо. Цепь. Узлы. Не рвется, до конца. А конца нет. Нет его!
Стена приближалась, по голым коленям хлестали темные лапы широких листьев, качались белые цветы, разглядывая траву под раструбами. И уже без тропы он шагнул прямиком в сочную зелень, продрался к неровному камню, что высился, круглясь к потолку высоко над головой, а на сером фоне мелькали острые птичьи крылья. Хватаясь за голову руками, выпачканными желтой пыльцой, застонал. Внутри, от живота к груди, через горло, плыли в голову и лопались пузыри, что раньше были каменными горбами, казалось, замершими навечно. Дрожали, надуваясь, и рвались, выбрызгивая из себя месиво воспоминаний и мыслей. Торза, сидящий на валуне, с полупустым мехом на коленях. Смотрит исподлобья, как перед ним он (я?) крадется, хмуря черные густые брови, и говорит, поднимая край покрывала времени и расстояния, показывая то, что схоронено и перенесено на поверхность безликим рисунком, мертвыми письменами, сушеными правильными словами. А под тканью оно – живое. Но кто поднимет и покажет? Он… Я?
– Я? Он это я! Я говорил! Я умел… Видел!
Поворачиваясь, прислонился к стене и сполз, садясь, вытягивая босые ноги. Цветы и листья медленно уплыли вверх, перед глазами зачастили толстые, почти черные стебли, перекрещиваясь, еле заметно покачивались. И у основания куста, не замеченный им прежде, показался круглый камень с высеченными по маковке грубыми письменами. Шепча, мужчина сдвинул ногу, толкнул пальцами увесистый булыжник. Тот качнулся и нехотя перекатился в сторону, открывая небольшое отверстие, из которого с шипением заструился зеленовато-желтый дымок. Пополз вверх, путаясь в листьях.
– Два коня, один в поводу. Надо быстро. Хаи, она быстра, но слабая. Но станет сильной. Потому что. Потому… что… она.
Узкий завиток на конце дымной струйки качался, поворачиваясь маленькой змеиной головой, клонился, принюхиваясь. И, будто учуяв, замер напротив лица, а дым все выползал и за неподвижной головкой укладывался петлями, что слипались, создавая зыбкие пласты, наслаивались друг на друга, поднимая дрожащую пелену выше верхушек кустов.
Ласточка косо метнулась, срезая крылом уголок дымного покрывала. Цвикнув, упала на жирную землю, дернулась, раскидывая крылья. Мужчина переводил глаза с желтых лапок, скрюченных в крошечные кулачки, на дымное дрожание. И дальше, туда, где над круглыми купами поднималась еще одна струйка, а поодаль – третья.
– Три, – сказал он про них. И добавил, поворачивая голову, – четыре еще. Пять. И шесть. Ахатта. И Ловкий.
– Ахатта?
Удар памяти рванул его грудь, зубами воспоминаний тяжко вырывая куски, чтоб все поместилось. И там, где несколько лет царила тихая и чуть печальная радость пустоты и покоя – все запрыгало, заскакало, вертясь и перемешиваясь, с воем и писком, дралось за место в его мозгу и душе, не желая забываться снова и засыпать в дальних углах. Верещало, охало, рыдало, посматривая из-под ресниц и растопыренных пальчиков – видит ли, жалеет?
Он мерно откидывался на стену, бился затылком, пытаясь внешней болью унять внутреннюю, ударами растрясти варево воспоминаний, рассыпая их на отдельные кучки, чтоб не душили криками и картинками. Но хоровод кружился, ускоряясь и мельтеша.
Там был толстый мальчишка, по имени, именем… Абит.
– А-а-абит!
И мальчики, которым он рассказывал. Он? Я? Почему они все не достают ему до плеча? Он большой? Вырос?
Была Хаидэ, светловолосая и серьезная, с хитрым голосом, улещивала, подбивая на всякое, и тут же кидалась вперед него – защитить от наказания. А в косах висели, качаясь, смешные глиняные ежи. Исма. Отнял его слова, отдал их. Кому отдал?
– Кому писаны были!
Голос гремел в голове, вклиниваясь в орущий хоровод, голос знакомый. Он говорил таким и после пел. Он? Я…
– Кому? Она кто? – водя налитыми кровью глазами по слоям серого с желтым тумана, что наползал, и уже не видны в нем темные купы цветов. И ответил на свой вопрос сам:
– Ахатта. Ахи.
Услышав имя, все, что скакало и верещало внутри, смолкло и остановилось. И мужчина, валясь вдоль неровной стены набок, подумал с облегчением перед тем, как кануть в пустую темноту.
«Я вспомнил».
В маленькой комнате-шестиграннике, стены которой плотно закрывали мягкие ковры багровых оттенков, шестеро жрецов сидели, смежив веки, и держа друг друга за руки. Только жрец-Пастух время от времени приоткрывал маленькие холодные глаза, внимательно глядя на сидящего напротив Видящего невидимое. А тот, мучительно сведя красивое лицо, жмурился и закусывал губу, сжимая руки сидящих рядом, так, что те дергали локтями.
Наконец, Пастух сказал, не скрывая раздражения:
– Хватит, сновидец. Расскажи хоть что-то.
Видящий отпустил руки соседей, уронил бескровные кисти на белый подол, натянутый между колен. Низко нагнул голову, показывая пробор и тщательно уложенные белые косы в серебряных украшениях.
– Прости, мой жрец, мой Пастух. Это животное не спит, я не могу войти в его голову.
Жрец-Пастух удивленно поднял наведенные черным брови.
– Хочешь сказать, он так силен, что сон меда и пыльцы не берет его?
Видящий досадливо покачал головой:
– Там хаос и он не умеет выстроить его в нужные фигуры. Даже когда уходит в небытие. А потом он просто исчезает.
– Он что, не спит? Валяется у стены, как валялся в середине пещеры, пока матерь Тека болтала ему пустяки. И не спит?
– Я не знаю, где он сейчас, мой жрец, мой Пастух. Он соскальзывает в сон, как все обычные люди. И я иду с ним. А потом исчезает, сойдя с нужного нам пути. Он безумец. И не умеет спать.
Но в голосе прозвучала неуверенность.
Жрецы молчали, ожидая слова Пастуха. И тот, подумав, кивнул, отпуская пальцы Охотника и Ткача:
– Что ж, не думаю, что он сумеет навредить. А мы вплетем его в новый узор. Он помог нашей стреле вернуться, мы напитаем ее таким ядом, с которым она уже не сумеет справиться. И ее дар темноте прекрасен! Бесценен!
Смеясь, он грузно поднялся.
– Занимайтесь делами, братья. Пасите тупых быков. Целитель, будешь при неуме. Не стоит больше копаться в его голове, Видящий, в ней все перемешано и вряд ли хоть что из ближайшего прошлого можно отдать в дар матери тьме. Целитель, ходи, слушай, что скажет, рассказывай сказки. Он предан Ахатте и это поможет нам.
– Да мой жрец, мой пастух, – Целитель, невысокий, с хмурым лицом и маленькими глубокими глазками, поклонился.
– Ткач? Будь с кормилицей. Нам скоро снова понадобится ее грудь. Правда, после этого она умрет, ну, славная тойрица и так хорошо послужила тьме.
– Да, мой жрец, мой Пастух! Я буду при ней и мальчиках, – Ткач, отвесив поклон, заботливо поправил вышитые рукава сложно собранной рубахи.
– А ты, Видящий, направь свой ум в голову Ахатты. Наша гостья скоро очнется и уж она-то увидит множество снов! Все они должны быть нашими.
– Да, мой жрец, мой Пастух.
Глаза цвета ледяной зелени смотрели с узкого, беспредельно красивого лица, черты которого очень напоминали черты лица жреца Удовольствий с далекого Острова Невозвращения. Лишь на месте брезгливой пресыщенности стояло холодным льдом спокойное равнодушие. Видящего не волновало ничего, кроме снов, которые он смотрел, живя в них и питаясь ими.
Один за другим жрецы выходили из комнатки, проходя в узкую дверь за откинутым краем ковра. И расходились подземными коридорами, освещенными где факелами на стенах, а где рассеянным светом, протекающим через незаметные щели на верхних и боковых уровнях.
Видящий невидимое направился по узкому коридору в старое жилище Исмы. Там, на постели, укрытой отсыревшим ковром, спала Ахатта, вытянувшись и раскинув руки. Лицо ее было спокойным и тихим, но глаза под закрытыми веками двигались и между тонких бровей – жрец сел на край постели и нагнулся, вдыхая сладкий запах ее дыхания, отравленного заговоренным медом – залегла тонкая черточка.
Улыбаясь в предвкушении, жрец оглядел шею и поднятый подбородок, начало высокой груди в вырезе измятого холщового платья, развязанный поясок, складки ткани вокруг длинных ног.
«Мой дальний брат взял бы ее, пока спит, медленно наслаждаясь беспомощностью, а после разбудил бы, сперва защитив себя, чтоб увидела и поняла, что сделано с ней обманом, против ее воли. И потом, связав, брал бы снова и снова, жестоко наказывая за нежелание отдаваться, и заставляя испытывать наслаждение, чтоб ненавидела себя за это, считая себя низкой, жадной до мерзкого сладкого, и чтоб ненависть достигла такой силы, что в конце покорилась бы, рыдая и прося повторения сладости – еще и еще, забыться…»
Он нагибался ниже, разглядывая полуоткрытые губы, ресницы, легшие густыми полукругами, маленькие уши, оттопыренные, как у ребенка. Приподнял пальцами черную прядь и уложил ее красиво, по плечу и вдоль локтя.
«Я же презрел грубые и одновременно тонкие плотские радости, я ухожу дальше и глубже. Мое наслаждение – вползти в ее бедную голову, устроиться там, куда проторил тропу знак шестигранного цветка, и задышав в унисон, отравить изнутри. Чтоб без всякого внешнего насилия сама обдумывала свои дары матери тьме. И приносила их. Как принесла нам бесценный, с помощью неума. Я ценю своего далекого брата, пусть мать темнота всегда будет ласкова к нему, но я счастлив делать другое, и получать свои удовольствия, ему недоступные».
Он тронул вырез платья, раскрывая его так, чтоб видеть смуглую тяжелую грудь, усмехнулся темным каплям на каждом соске. Прошептал:
– Твое молоко навечно, стрела для бога, ты сбежала, но судьба вернула тебя обратно.
Видящий невидимое не коснулся смуглой кожи. Убрав руку, лег рядом, и, прижимаясь к боку спящей Ахатты, уложил свою голову вплотную к маленькому уху и высокой скуле. Сонно вздохнул и задышал мерно, нащупывая дорогу в чужие сны.
В светлой пещере над повалившимся на бок Абитом стояли Пастух и Целитель. Пастух глубже воткнул в нос комочки зеленого хлопчатника, и, стараясь дышать редко и неглубоко, сказал, подталкивая носком сандалии вялое тело:
– Значит, сейчас он в пустоте. Дождись, проснется. А к ночи расскажешь мне, что и как. И да, отведи к молодняку, пусть с ним там развлекутся сильные. Следи, чтоб не убили.
– Да мой жрец, мой Пастух, – голос Целителя звучал гнусаво.
Он подошел к стене и сел на корточки, свешивая на коленях тяжелые руки с крупными кистями.
Абит лежал, неудобно свернув голову, так что подбородок упирался в грудь, не спал и не шевелился. Когда шаги жрецов вытащили его из пустоты, он мысленно закрыл внутренность головы, прикладывая ко лбу невидимую руку – так охотники закрывают от солнца глаза. Но ничто не ползло, не тыкалось в мозг, как недавно тыкался в ноздри серый туман, пытаясь отравить его легкие. И он просто продолжил лежать, слушая, как рядом дышит Целитель, сидя в терпеливом ожидании. Абит не видел, как по светлому пространству движется жрец-Пастух, тщательно заваливая отверстия, открытые к его первому пробуждению, и как тот ушел, задвигая за собой тяжелую дверь из резного старого дуба.
Абит думал, сильной рукой отодвинув череду воспоминаний, что высветилась из далекого прошлого, когда он был подростком, а Хаидэ – еще бегала с ними в степь и к морю. И у Ахатты еще не выросла грудь, но она уже не сводила глаз с Ловкого. Все это могло подождать, повинуясь его спокойным указаниям.
Главное сейчас – проверить, все ли он помнит о том мокром утре, когда после грозы они с Ахаттой и мертвым маленьким Торзой сидели у странного костра, под трепещущими радужными веерами, что развертывал горящий лишайник со старого дерева.
И ждали.
Глава 29
Перед самым утром, в размытой темноте, что становилась все тоньше, в кроне корявого дерева, протянувшего над землей пласты мощных ветвей, проснулись странные птицы. Захрипели, икая, и задремавшая было Ахатта оглянулась, прижимая к груди ребенка. Плоская крона четко виднелась на фоне бледной темноты и Ахатта, не разглядывая шевеления в листьях, снова уставилась вперед, до рези в глазах пытаясь рассмотреть серые скалы и кривые вершины. Они должны прийти! Должны увидеть костер! А вдруг уже поздно? Вдруг они ждали и ждали, но время прошло, и жрецы отозвали дозорных и снова вернулись к своим черным делам. И одно из их дел – судьба ее мальчика.
Она смотрела, иногда отводя слезящиеся глаза и оглядывая светлеющую равнину, пустую и мокрую после ночной грозы. Как все спуталось, какими кошмарными узлами связалась жизнь, которую она когда-то решила повернуть сама, своим детским еще разумением. Неужто все, что валится на нее, каждая горесть, это отголоски того бега в ночь, на гнилые болота? И сколько неумолимые боги будут наказывать ее за девчоночью глупость?
В траве затрещала перепелка, тонко прозвенели жаворонки свою нехитрую прозрачную песенку, вдалеке захлопал крыльями фазан, вырываясь из-под куста, и кинулся вверх, а там, над бледным рассветным сумраком, крылья вдруг полыхнули рыжим пламенем – из-за левой горы показался ослепительный краешек солнца. И степь грохнула, закричала, заголосила тысячью птичьих песен, таких радостных, что на глаза женщины навернулись слезы.
Солнце всходило, и широкая тень от горы уползала, как подобранный темный подол, стремясь к подножию горного кряжа. И там, где упал утренний свет, загорались искры в каплях дождя. Зеленые, рыжие, красные, голубоватые травы сверкали алмазной пылью. Будто огромный ковер во всю степь, новый и радостный.
– Вот что ткут паучихи Арахны, пусть всегда будут сильны их пальцы.
– Что? – она повернулась, силясь рассмотреть лицо Убога, сидящего рядом на валуне, – что ты сказал?
Тот пожал плечами, улыбаясь, и улыбка привела ее в ярость.
– Всем радостно. Всем, кроме меня, – глухо проговорила, – все поет и смеется. Даже ты.
– Это песни не радости, люба моя жена. Это жизнь. Смотри-смотри!
Вдалеке по траве пробежала серебряная волна, мелькнула рыжей лентой лиса, прыгая, и исчезла снова, унося в пасти фазана с вывернутым крылом.
– Он пел.
– Ладно. Я поняла. Все стрекочет, все родится и помирает. Сиди, Ахатта, и радуйся, что родилась. Так?
Но Убог, старательно думая, не нашел нужных слов и просто сказал ей:
– Люба моя, жена.
Тронул грязный рукав. Ахатта отвернулась. И увидела жрецов.
На выступе правого склона они стояли, укрытые тенью, а солнце, взойдя, очерчивало гору резким светом, делая тень еще чернее. Но белые одежды тускло светили, и казалось, гора щерит зубы – шесть клыков на черном лице.
Ахатта медленно встала, прижимая мальчика непослушными руками и не чувствуя своего лица. Казалось, не сможет и сказать, так омертвели губы. Потому молча шагнула вперед, вздымая подолом легкую золу догоревшего костра.
– Мне что делать, люба моя, жена? – растерянно спросил за спиной Убог.
– Иди за мной. Молчи, – губы все же шевелились и, прерывисто вздохнув, она медленно двинулась по высокой траве к подножию горы, пытаясь собрать беспорядочно скачущие в голове мысли. Топая следом, Убог, ничуть не испугавшийся шестерых, напомнил ей:
– Я сильный. И меч у меня. Стрелы.
– Держишь?
– Того, толстого. С краю.
Женщина перевела дыхание. Он верно сообразил. Даже если выскочат из тайных пещер тойры, помчатся к ним, жрец-Пастух умрет раньше. И они там сверху, конечно, видят натянутый за ее плечом лук сильного воина. А у нее – ребенок. И его им надо сберечь.
Ноги промокли, подол тяжело волочился, собирая обильную росу с верхушек травы. А шесть фигур приближались, становясь яснее. Похоже, они не привели с собой молодых тойров. Может быть, с того дня, как тойры тащили ее лабиринтами, а из горы слышался шум и вопли, когда их дружки в бешенстве разоряли отравленную пещеру, жрецам не так сладко приходится в тупом и послушном племени?
Но думать было некогда и оставалось поступать по-женски, как она и привыкла всю свою жизнь – раз уж пришла, надо делать, хоть что-то.
Заяц бежит, глаз косит, да все равно прибежит, вспомнила старую поговорку. Не бывает так, чтоб не было конца у пути…
Встала и подняла сверток, протягивая его смотрящим сверху жрецам.
– Вот мена за моего сына, владыки тойров! Это князь Торза, внук Торзы непобедимого, сын светлой княгини Хаидэ! Возьмите его и верните мне моего мальчика.
Она держала сверток на дрожащих руках, а жрецы наклоняли головы, как стервятники, разглядывая добычу.
– Покажи нам его лицо, – медленный голос Пастуха заставил ее вздрогнуть, напоминая о том, как стоял на скале над вечерним пляжем, когда Исма спас ее от тойров.
Снова прижав мальчика к груди, она откинула краешек покрывала, и свет упал на спокойное личико, крася его в живой розовый цвет. Зажегся искрами на тонких бронзовых волосах. Убедившись, что жрецы рассмотрели лицо, Ахатта снова накинула покрывало.
– Он спит. Вы мне верите? Это маленький князь.
Пастух усмехнулся.
– Ты бы не пришла сюда с чужим ребенком, стрела для бога. Не решилась бы. Тебя ведет судьба. Сейчас Целитель спустится и возьмет его…
– Нет! – она подняла руку, узкое лезвие сверкнуло на солнце, касаясь острием груди мальчика, – сделайте шаг и я убью его!
– Как же нам быть? – озабоченно и с насмешкой спросил Пастух, – как быть, матерь мертвого сына?
– Что? – Ахатта покачнулась, водя глазами по мгновенно потемневшей степи.
Он понял, что мальчик мертв! И смеется…
– Твое тело полно яда, стрела. Ты знаешь, что убьешь сына собой, одним лишь касанием?
Темнота расползлась, и Ахата облизнула сухие губы. Вот он о чем.
– Это мое дело. Приведите мальчика и оставьте у дерева. А я положу князя тут, под горой. И если сделаете не так, стрела найдет все ваши сердца, по очереди.
Помолчав, Пастух кивнул.
– Тебе не уйти от судьбы, но давай поиграем.
Он поднял руки, белые рукава сползли, открывая унизанные браслетами запястья. И чуть сбоку, из невидимой расщелины в скале вышла Тека, ведя за руку худенького малыша, черноволосого, с узкими глазами и высокими, как у матери скулами.
– А-а… – сказала Ахатта, качнувшись на слабых ногах.
Ее сын. Такой большой, сам идет, ровно переступая кривыми ножками всадника, вертит черной головой, разглядывая сверкающую степь и режущее синевой небо. По бокам Теки шли два воина, молодые и крепкие, насупившись от важности, держали в руках короткие широкие мечи. А лицо женщины, бледное и такое же некрасивое, каким его помнила Ахатта, было странно безмятежным, будто она спала с открытыми глазами. Спрыгнув с небольшого уступа, Тека приняла мальчика и дальше понесла его на руках, бережно прижимая к большой груди. Ступала по выбоинам узкой тропки, нащупывая грубые ступеньки. И проходя мимо Ахатты к дереву, не изменилась в лице, шла уверенно, ни на что не глядя. Поставила мальчика у потухшего костра и что-то шепча, поцеловала в макушку. Повернулась и, так же безмятежно глядя перед собой, двинулась обратно к тропке, ведущей наверх.
– Тека, – непослушным голосом окликнула ее Ахатта, – Тека, мой сын. Спасибо тебе.
– Мелик и Бычок, мои младшие, мои цари, – пропела Тека, проходя рядом и не останавливаясь, – умненькие, шустрые.
– Мы ждем, – напомнил Пастух, с интересом ожидая, что будет дальше.
Ахатта подумала, вот бы сейчас Убог застрелил его, пустил стрелу прямо в жирную грудь.
– Убог…
– Я тут люба моя…
– Быстро, бери мальчика и на коня. Скачите!
– Как же ты, люба моя?
– Я догоню.
– Не-ет. Я не брошу.
Она повернулась, обжигая его взглядом. Но он смотрел синими глазами, такими спокойными, почти как глаза Теки, спящей на ходу.
«Мой сын. Он только мне и нужен… А этот хочет меня, он мужчина».
– Люб мой, муж. Ты клялся. Последнее чего прошу – уезжай. Я буду с тобой! Только отдам князя.
– Ты не обманешь?
– Я люблю тебя. Не обману.
За ее спиной коротко заржала Ласка, подошла, тыкаясь мордой в плечо, и фыркнула, обдавая теплым дыханием.
– Лук у седла, Ахи, – тихо сказал бродяга.
– Да.
Она шла к самому подножию, где еще лежала тень, что становилась все прозрачнее. Трехмесячный Торза оттягивал ей руки и она мысленно попросила прощения у мертвого маленького тела. И тут же выбросила все из головы, быстро и незаметно, как выучены Зубы Дракона, осматривая корявую стену с вьющейся по ней тропкой. Ласка шла следом, тихо переступая копытами.
У небольшого куста шиповника Ахатта бережно положила свою ношу и, отступив на шаг, взлетела в седло, уперла колени в колышущиеся бока. Повернула Ласку и отъехала, продолжая следить за шестеркой жрецов и узкими расщелинами. Пастух указал на куст и кивнул Целителю, тот, подбирая полы длинного хитона, проворно сбежал вниз, прыгая по ступеням тропы.
– Ахи, сюда, – тревожно окликнул ее Убог. Он уже был в седле и мальчик, ее сын, Тека сказала – Мелик, сидел перед ним, обхваченный широким ремнем. Сжимая коленями бока Рыба, Убог снова держал лук, натягивая тетиву, и медленно поворачивал коня, чтоб ничего не упустить.
– Да. Сейчас…
Она задрала голову, и ужаснулась ухмылке Пастуха, от которой сердце заныло, наполняясь тревогой и тоской. Что-то не так. Она рванет поводья, Ласка полетит как птица, и Рыб кинется вскачь, у тойров нет коней, в пещерах их держать без толку. Но вдруг наемники. Вдруг окружат. Надо уходить, как можно быстрее. А если убьют, ну что ж, пусть всех троих.
Но продолжала сидеть, глядя, как Целитель склоняется над свертком. Берет его на руки и, посмотрев на тихое личико, карабкается вверх по тропе…Он не понял, что мальчик мертв. Но он всего миг смотрел, конечно, не понял. Сейчас отдаст его Пастуху и обман раскроется!
– Ахи! – снова окликнул ее Убог, – быстро!
– Да…
Ласка шла боком, сдерживаемая поводьями, А всадница, не отрываясь, сама как в вязком сне, продолжала смотреть, как Целитель подает Пастуху сверток и тот, откидывая покрывало, склоняется к маленькому лицу. Замерев, осматривает ребенка, и вот (тут она напряглась, готовая ринуться прочь, ударяя Ласку коленями и пятками) – вдруг кивает, оскалившись. Поднимая мальчика, показывает его жрецам. А после, не глядя на нее, забыв, что она существует, поворачивается и исчезает в закрытой ветками расщелине. И пятеро жрецов по одному исчезают следом за ним.
– Он… он жив… Жив?
Кинулось в голову воспоминание, как только что лезвие ее ножа упиралось в детскую грудь. Одно неверное движение жреца и она заколола бы…
– Он жив!
От крика из плоской кроны старого дерева, хрипло кликая, снялась стая жирных серых птиц, разлетаясь в стороны.
– Ахи!
– Жив! – эхо металось среди скал, превращая крик, полный муки, в издевательский хохот.
А она уже спрыгивала с седла, швыряла поводья, в бешенстве крича Убогу:
– Прочь! Падаль, вези его! Отсюда! Скорее же!
И, в мгновение добежав к подножию, полетела верх по тропке, сбивая ноги о грубые ступени, падая и снова подымаясь. Дышала раскрытым ртом, глотая горячий воздух, скребла руками по обломкам камней и колючим веткам.
– Дай-те! Он мой!
Выскочив на уступ, рванулась к стене и шаря руками, провалилась в невидимую щель, протиснулась, не выбирая дороги, упала по гладким ступеням в начинающийся за расщелиной коридор. И увидела над собой смеющееся лицо Пастуха, что держал в белой ладони сосуд с узким, как змея, горлом.
Забилась, когда жесткие руки схватили локти, заламывая назад, и еще чья-то рука ухватила косу, запрокидывая ей голову. Толстая ладонь плотно легла на нос и, задыхаясь, Ахатта сама раскрыла рот, хрипя и плюясь, но холодный металл уже протекал сладкой жижей по языку, пробираясь в горло.
Пришел Исма, приблизил красивое скуластое лицо к ее глазам и, внимательно глядя, как она содрогается и хрипит, все медленнее и слабее, сказал чужим голосом, полным веселья:
– Ты как живая кровь. Кто еще так освежит нашу мирную жизнь, полную трудов на радость матери тьме.








