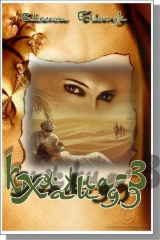
Текст книги "Хаидэ (СИ)"
Автор книги: Елена Блонди
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 54 страниц)
Боязливо оглядываясь, Алкиноя шла за матерью, с ужасом ожидая, что какая-то из фигур вдруг зашевелится и падет на нее, раскрывая кривые руки и хохоча черным ртом. Но только их собственные глухие шаги слышались под низким, бесконечно уходящим в темноту потолком, да потрескивали кусочки смолы на жаровнях.
В дальнем конце зала перед низкой аркой, с которой свисали мохнатые паутины, колыхающиеся в потоках потревоженного воздуха, мать обернулась. Тени и красный свет поменяли знакомое лицо, и Алкиноя отчаянно захотела уйти, выбежать, хоть через потолок, к себе в спальню, где в окно трещат ночные сверчки и заглядывает серебряная монетка высокой луны. И пусть Теопатр сопит и хрюкает всю ночь, она больше не будет швыряться в него подушкой и жаловаться няньке…
– Ты сама захотела, – сказала черно-красная женщина с извилистым лицом. И нагибаясь, нырнула под ленивое колыхание серой бахромы.
Алкиноя с тоской оглянулась на угловатые и змеистые фигуры. Нет, только не обратно, не идти между ними, касаясь плечами хищно скрюченных каменных пальцев.
Когда она, подвизгивая от страха, догнала мать, та уже открыла дверь в тайную комнатку и, втащив Алкиною за руку, захлопнула ее.
– Мой поклон тебе, великая черная Кварати!
Мерный голос поплыл в полумраке, вполз в уши девочки и замер у растопыренных в воздухе ног статуи, стоящей на мощном змеином хвосте.
– Мой поклон тебе, славный Огоро, муж черной богини! – Алкиноя старалась не смотреть, как мать, кланяясь, осветила свирепое лицо, что выглядывало из-под головы ящерицы с распахнутой пастью. Свет пробежал по гладкому животу, стоящему на четырех драконьих лапах и потерялся в свитых кольцах длинного хвоста.
– Моя дочь, дочь жрицы тьмы и багрового света, пришла смотреть на вашу добычу. Позвольте ей увидеть и запомнить, не теряя рассудка.
Сильная рука схватила Алкиною за шею, нагибая для поклона.
– Вот она, просит вас и возносит хвалу.
Падая на колени, девочка закланялась, часто дыша пересохшим ртом. Рядом торжественно сгибала крупное тело Канария. Выбормотав приветствия и просьбы, встала и, маня дочь, обошла статую мужчины-ящера, пробираясь вдоль стены за спинку каменного трона. Поднеся светильник к грубым деревянным прутья, что выходили из пола, утыкаясь в потолок, сказала шепотом:
– Стой тихо. И смотри.
Свет прыгал, мешая видеть, длинные тени ползали внутри маленькой камеры с вогнутыми стенами, похожей на внутренность каменного яйца. А потом успокоился. И стало видно, кроме длинных теней в камере ничего нет. Брошена на пол миска с блестящим черным краем, рядом валяется на боку кувшин. И все. Пусто.
– Мама…
– Тише! – прошипела женщина и стиснула руку дочери, – подумай о нем. Думай, чего хотела!
Алкиноя, тупо глядя на миску, попыталась вспомнить о своих ночных мечтах. Но ничего не возвращалась в перепуганную голову. Рука матери держала крепко и девочка ужаснулась, если не выполнить приказа, вдруг сумасшедшая мать бросит туда ее – свою дочь, заставит жить там и жрать из миски, вылизанной до блеска. Она зажмурилась, стараясь изо всех сил. В саду, сидели в саду, у мраморного прохладного стола. И Теопатр все время глядел в сторону, мечтая удрать…
– Мир полон чудес и событий, – наставительно произнесло что-то внутри клетки, поскрипывая самодовольным голосом, – несть числа чудесам. Но я знаю их все.
Мать дернула девочку за руку, заставляя открыть глаза и смотреть.
В центре каменного яйца стояла, покачиваясь, бледная фигура, маленькая, как кукла, с гордо поднятой белесой головой и размытым лицом. Расширенными глазами Алкиноя следила, как дымная кукла развела прозрачные ручки, сложила их за спиной и сделала шаг, утопая призрачной ногой в каменном полу. Заходила, подбочениваясь. Теряя себя в стене и вылезая обратно, шла к другой. И, поскрипывая, все говорила и говорила, перемешивая обрывки рассказов и уроков.
– Высокие жрецы поименовали все часы дня, и двенадцать богов шли один за другим из утра в ночь. А вода в роднике может отравить сама себя, если погадит в нее длинная птица Гох, несущая яйца в одной корзине и перекладывающая крыло через правый коготь на левой лапе.
Алкиноя заплакала, наконец, дергая стиснутую руку. И тут же замолчала. – Фигурка, замерев, повела лепешкой лица и, словно услышав плач, двинулась к решетке.
– Девочкам следует лелеять свои груди, подкрашивая соски пеплом кобыльего молока, ведь старец Гомер вызнал у самого Зевса, что Баст всегда сумеет махнуть мохнатым хвостом.
– Мама!..
Она выдернула руку, прижимая кулак ко рту. Фигура, покачиваясь у самых прутьев, росла. На бледной лепешке лица проявились глаза и нос, знакомый рот, искривленный самодовольной улыбкой. Рассыпались по ушам отросшие волосы. Будто кто-то куском белого камня намалевал учителя Теху, грубо кроша камень и промахиваясь, но в общем похоже. Так рисуют на ярмарках заезжие бродяги-художники, высмеивая толпу.
Рядом мать, тяжело дыша, вдруг зашептала что-то, гладя себя по бокам и покачиваясь. И Техути, становясь все ярче и настоящее, приник к решетке, уже не глядя на Алкиною.
– Моя богиня! Свет моих глаз, огонь моих бедер, смотри, я приготовил подарок, чтоб приходить каждую ночь, под кем бы ты не лежала… снова и снова обманем всех, великая жрица темных богов! Протяни руку, возьми то, что теперь твое, навсегда!
– Мама! – Алкиноя отступила от матери. Светильник косо повис на пальце Канарии, капая маслом.
– Мама! Я боюсь!
Техути надменно обратил взгляд на свою ученицу, прижался к решетке, сгребая белую тунику на животе и обнажая мужское, на что Алкиноя не стала смотреть, зажмуриваясь и стукаясь локтями о стену за своей спиной.
– Выгони эту неспелую девку! – загремел гулкий голос, прыгая в круглых стенах каменного яйца, – выгони, чтоб не мешала нам предаваться любви! Ты же знаешь, я хочу тебя-а-а, только тебя-а-а-а, бо-ги-ня-а-а-а!
Но горький плач девочки уже отвлек мать от сладких мечтаний, и, недовольно кривясь, чтоб не показывать накрывшего ее стыда, Канария подняла дрожащую руку, освещая скорченную у стены девичью фигуру.
– Нас-мотрелась? Чег-го ревешь…
– В дальних морях проживают большие рыбы, в паху своем имеющие щупальце для услады морских дев, – важно заявил Техути, голосом все более скрипучим и тихим. Уставясь размытыми глазами в спину Канарии, которая помогала дочери подняться, попробовал еще, путая мысли женщины и ее дочери:
– Останься, великая. Будем с тобой есть изюмы и впитывать телами сладкие булки, наполненные цветными камушками. И пусть приедут певцы! Они так смешно дергают свои цитры! Славный отец Перикл возляжет с тобой, а мухи не разбудят противного брата.
Толкая в спину, Канария вывела дочь из комнатки, поспешно поклонилась статуям темных супругов и, не слушая исчезающего комариным зудом голоса призрака, захлопнула низкую дверцу.
Через зал, полный застывших в дикой пляске фигур, по темной лестнице с каменными ступенями, Канария вывела покорно бредущую следом дочь в каморку, вытолкала в коридор и, крепко сжимая дрожащую руку, потащила из теплого тихого дома в ночной сад. Усаживая на кушетку, влажную от росы, встала перед ней, возвышаясь темной уверенной грудой.
– Увидела? Захочешь его еще?
– Нет! Нет…
– Тогда спать. И никаких больше капризов.
Девочка сидела, завесив лицо прядями черных волос, дергала рукой завязанную на груди хлену. Ночь пахла свежо и сладко, такими хорошими земными запахами – влажной землей, усталыми за лето листьями, каплями росы. А там, внизу…
– Мама. Он почему такой стал? – говорила еле слышно, ругала себя за ненужные вопросы, но не могла удержаться, а бледная кукольная фигурка вышагивала перед глазами.
– Его наказали боги? Так изменили?
– Нет, Алкиноя. Он был таким. А боги лишь заглянули в его душу.
Мать потрепала девочку по голове, насмешливо улыбаясь.
– Пойдем, я отведу тебя в спальню. А если хоть слово скажешь отцу…
– Нет! Пусть я, пусть меня… нет, мама, я не скажу. Никогда.
Лежа в постели, Алкиноя смотрела в потолок блестящими испуганными глазами. Нащупав под боком любимую куклу, взяла ее пальцами за краешек одежды и, скривившись, сунула на пол подальше от себя. Вытерла пальцы. И снова, натягивая к подбородку покрывало, постаралась заснуть. Но перед глазами все ходило, угловато сгибая прозрачные колени, это, которое там внизу, живет в каменном яйце, вылизывая до блеска еду из глиняной миски.
Канария, улегшись в супружескую постель, тяжело дыша, растолкала задремавшего мужа. Тиская большое горячее тело, тот разнежено засмеялся, подминая ее под себя.
– Экая ты у меня печка, экий огонь! Стосковалась по мужниной силе!
– Да, мой герой!
Жарко отдуваясь, Канария ахала и стонала, а в ушах звучал гулкий торжествующий голос:
– Всех, всех обманем с тобой, моя богиня-я-а…
Позже, когда потный Перикл устраивался удобнее, сгребая жену поближе, она сказала, укладываясь к нему под бок:
– Алкиноя выросла, мой Перикл. Просится в храм Артемиды, чтоб к следующей осени стать невестой. Надо позволить ей уехать, пока девочка лелеет хорошие мысли в себе.
– А я так мало побыл с ней.
– Ты знаешь о судьбах дочерей. Они всегда будущие жены. Мы будем ее навещать.
– Да, хорошо. Если она хочет в храм, пусть… едет… в…
Он заснул, не договорив. Канария задремала тоже, с легкой улыбкой на полных губах, упиваясь тем, что все теперь складывается по ее желаниям.
Как хорошо, что, верша суд над вором-любовником, она нашла в его вещах эту прекрасную штуку, серебряную, с лапками на уголках и дивным взглядом из туманной серединки. Он хотел ее обокрасть. Да еще хотел надсмеяться над ее пылкой страстью. Ну что ж, теперь она владеет им и его драгоценностью. И будет брать его, когда захочет сама – в любое время.
Глава 51
– Ты побудь здесь… – Хаидэ прижалась щекой к большой морде, и конь замер, тихо фыркая и моргая густыми ресницами.
– Побудь до утра, а если я не вернусь, уходи. Ты увидишь, куда, тебя встретит Полынчик с Казымом.
Она отошла на шаг, оглядывая освобожденную от седла лоснящуюся спину. Поймет ли? Не пойдет ли следом, увязая в песке большими копытами, до черных валунов, что выскочили к самой воде, первыми вестниками предгорий. А за ними виднеется еще песок, снова перегороженный новой толпой камней и те уже выше, перелезть через них вполне можно, а коню туда хода нет. Дальше не было видно, но Хаидэ знала – выходы скал там выше и чаще, песок сменяется каменным крошевом, и свинцовая от навалившихся на небо туч вода не выкатывается на плоский берег, а бьется в каменные углы и извивы.
Блеск с черной шкуры исчез, слизанный небесной тенью, и вспыхнул – молния сверкнула быстрым огнем, поверх которого треснул громовой раскат. Перебирая ногами, Брат заржал и умолк, кося черным глазом. Хороший конь, смелый. Боится, но не кидается в панике наутек.
Она хотела еще раз похлопать его по крупу, провести рукой по гладкой живой шерсти, еще сказать… Но отвернулась, пошла по песку, туда, где черные тучи клубились, смыкаясь с дальними скалами над водой. Перелезла через первые валуны, цепляясь руками в кожаных перчатках за острые ненадежные края, быстро преодолела короткий пляж и вскарабкалась на вторую стаю камней. Не оглянулась на конское ржание. Осторожно нащупывая ногами впадины и выступы, спустилась на следующий пляжик. И, пройдя на самую середину песчаного полумесяца, окаймленного черными скалами, встала на песке, уже вся в будущем, откинув прошлое и забыв о нем.
Скалы и камни, что со стороны степи были серыми – от выбеленного костяного цвета до темного цвета старости, тут были черными. Блестели над самой водой зеленой патиной скользких водорослей, протыкались над песком тощими ветками кустарника, покрытого жухлой листвой и вяло-красными сморщенными ягодами. Серым был только песок. И выкатывались на него мелкие тяжелые волны цвета сумеречного железа. Может быть, закатное солнце сумело бы расцветить мрачные краски, но солнце надежно укрыто за тучами, такими плотными, что казалось – это Паучьи горы выросли в самое небо, перекручиваясь, встали на вершины, загораживая мир целиком. И в центре черного изломанного мира стоит она – небольшая светлая фигурка в походной военной одежде, с коротким мечом на поясе, с маленькой сумкой через плечо. Шапка скинута на спину, а светлые волосы туго заплетены в две косы, чтоб не мешали и не лезли в глаза. Одна на полумесяце серого песка, перед огромным морем, а за спиной громоздятся скалы, мрачно и чутко прислушиваясь к ее движениям и мыслям.
Опять одна.
Княгиня улыбнулась. Не привыкать. Но все же…
Она подняла лицо к тучами. Сказала нараспев:
– Свежей воды твоим ручьям, отец наш Беслаи, сочных плодов твоим деревьям. Мягкого меха твоему зверью и радости травам на склонах солнечных гор. Я иду туда, куда нужно мне, потому что я так решила сама. Не наказывай и не отворачивай от меня светлого своего лика. Дай мне помощи, наш молодой бог, которого старики стариков наших стариков помнят живым и веселым. Пусть мой сын останется жив. Пусть сестра моя обретет счастье. Подари мне встречу с Нубой. И пусть дело, что я начинаю, никогда не умрет.
Подняв руки к клубящимся тучам, постояла молча. А потом, найдя глазами то место на небе, где ночью засветит зеленая сережка Миисы, прошептала:
– Дай нам любовь, небесная дева. Дай счастье быть рядом.
Опуская лицо, встала на колено, и, нагибаясь, положила на холодный песок обе ладони.
– И тебя я прошу, демон болот, храбрый охотник Йет. Никогда не исчезнет твоя животная сила, так дай мне часть ее, но помоги обуздать.
Поднялась, отряхивая с ладоней прилипший песок. И, снова надевая мягкие прочные рукавицы, пошла к следующей гряде черных скал.
На высоком уступе с другой стороны гор, там, где когда-то Хаидэ вместе с Техути искала вход в лабиринты тойров, стоял жрец-Пастух, пряча в широкие рукава ухоженные руки, смотрел, скучая, как снизу петлистой тропой карабкается мужчина в городской одежде. Посетитель торопился, хватаясь за пучки травы и гибкие ветки, кланялся на ходу, как только глаза его встречались с водянистым взглядом жреца. И промахиваясь, неловко взмахивал руками.
– Горного козла из него не выйдет, – сказал из-за спины Пастуха Охотник и Жнец тихо рассмеялся шутке.
Улыбаясь, Пастух кивнул. Мужчина как раз поднял лицо, увидев холодную улыбку, снова поскользнулся на крутой тропе. Тяжело дыша, выбрался на площадку, не поднимаясь с колен, мелко закланялся, переводя дыхание. На каменную пыль, щелкнув, упали первые капли дождя.
– Мой господин, вот новость – девка ушла со своими солдатами.
– Это ты говорил в прошлый раз.
– Да, да! Но купец, что отправился к Драконам нанимать себе воина, он вернулся и рассказал – ее нет там. Есть советники, девки ее, что учатся воевать, они есть. А княгини нету. Ушла, вот.
– Отправилась к шаманам?
– Я… – мужчина вытер пот грязной рукой и растерянно огляделся. Было видно, что эта мысль не приходила ему в голову.
Пастух усмехнулся, рассматривая дрожащие губы и голову с редкими пегими волосами.
– Еще что?
– Урода прибрал к себе знатный. Сосед госпожи Канарии. Лечил. И там же черная девка-плясунья, что его жена была. Они до сих пор там, мальчишки сказали – Мелетиос не покидал своего дома. И на его конюшне стоят чужие лошади, а на заднем дворе повозки иноземного купца. Там они, все трое там.
– Новость в том, что нет новостей…
– Что?
Молния вспыхнула, сделав лицо мужчины ослепительно белым, с черными дырками глаз и раскрытого в усердии рта. Пастух переждал треск грома.
– Все сказал?
– Нет, нет, мой господин! Мне передали, что моряки привели в порт корабль купца Даориция. Его готовят к дальнему переходу.
– Вот как?
– А еще, про египтянина. Ты говорил смотреть, куда пойдет. А нет его. Нигде нету.
Мужчина повесил голову и, набирая побольше воздуха, сокрушенно вздохнул.
– Я не виноват, господин. Я следил хорошо и раздал много монет рабам и слугам. Никто не видел, чтоб он выходил из дома Перикла, но там его нету.
– Все?
– Д-да…
Пастух сделал жест и Охотник, подойдя, коснулся плеча длинной рукой с зажатым в ней кошелем. Мужчина, кланяясь, взял награду. И после кивка Пастуха, ссыпался вниз по тропе, треща кустами и тяжело топая.
Жрецы смотрели, как через некоторое время из-под скал выехал смирный ослик и потрусил в сторону полиса.
– Три дня, – задумчиво сказал Пастух, – или больше. Да, с черной провидицей мы узнавали новости быстрее.
Капли щелкали чаще и, запахивая широкий плащ, Пастух скрылся в расщелине, следом поспешили Охотник и Жнец. А густые ветки, намокая под ливнем, закачались, надежно переплетаясь перед узким проломом в горе.
Жрецы молча шли по привычным коридорам, тускло освещенным факелами на стенах. Пастух обдумывал новости. Женщина стремится остаться одна и в этом она права, так меньше риска попасться на глаза соглядатаям. Жаль, что некому было проследить, куда именно она уехала из племени. Но вряд ли побежала к своим шаманам. Ее сын тут и она будет стремиться к нему, даже не зная точно, жив или мертв. Она уже билась в закрытую гору, но не нашла пути.
А этот бродячий урод, он и есть ее Нуба. Люди в полисе шепотом пересказывают друг другу сплетни, приукрашая и выдумывая подробности, но все в один голос повторяют, как кричала она его имя. Но он полудохлый, валяется у скучающего богатея. Верно, пролежит еще какое-то время. А когда соберется уйти, они узнают об этом. Жаль не сразу. Но матерь гора крепка и не пускает в себя кого попало.
– Охотник?
– Да мой жрец, мой Пастух?
– Проследи, чтоб тойры не спали в дозорах. Пусть чаще обходят внешние выходы, проверяя степь и пески.
– Да, мой жрец.
– Пусть Ткач и Видящий придут ко мне с рассказом о женщинах.
– Да, мой жрец, мой Пастух.
Пастух недовольно поморщился. Шестерка собиралась недавно и сил в них на новую встречу с заморскими братьями еще нет. А надо бы обменяться сведениями. Хотя, что могут сказать они теперь, без прямой связи умершей Онторо с египтянином или черным демоном? Нужно полагаться на собственные решения.
В своей пещере он сел на табурет, протягивая руки женщинам, что засуетились, бережно снимая слегка промокшие и запыленные одежды и облекая грузное тело в мягкий домашний хитон. Когда вошел Видящий, Пастух сидел в большом кресле, поставив босые ноги на пухлую укрытую ковром скамеечку.
– Скажи мне, наш красавец, как там матерь Ахатта?
– Все получилось, мой жрец мой Пастух, она кормит ребенка и тот ест.
– Хорошо…
– Только…
Пастух приподнял тяжелые веки, остро взглянув на Видящего.
– Что?
– Она живет лишь когда рядом бродяга. Тогда у нее есть молоко и она может кормить. Когда он уходит работать с тойрами, она погружается в сон.
– Надо же. Снова все по-людски. Ну что же, пусть у Ахатты побудет прирученный ею любимчик. Исходит ли от него опасность?
– Никакой, мой жрец мой пастух. Он глуп, разум его подобен разуму младенца. Все время улыбается.
– Грудь не просит?
Видящий улыбнулся шутке.
Улыбнулся и вошедший Ткач, кланяясь Пастуху.
– Итак, один выкормыш ест отраву, а у нас их еще двое, – откидываясь на спинку кресла, Пастух снова прикрыл глаза.
– Ткач, возьмешь у Целителя зелье, отравишь пащенка тойрицы. Подскажи ей, чтоб спасти сына, нужно кормить его злым молоком Ахатты. Да не забудь сказать, что ее сын от этого превратится в демона и никогда не сможет стать человеком. Пусть ненавидит свою высокую сестру. Жаль, что Ахатта не может кормить собственного сына, тогда он умрет и мы потеряем отличного будущего слугу.
Он погладил ладонями колени.
– Возможно, мальчику хватит ненависти своей названной матери Теки. Пусть растет в злобе и упреках. Так и сплетем этот узор.
– Да мой жрец, мой Пастух, – почтительно отозвался Ткач.
– И еще. Собери мужчин и умелиц, пусть приготовят рожальню в дальнем подземелье.
Ткач облизнул тонкие губы, поправил складки вышитого плаща.
– У нас будет матка, мой жрец, мой Пастух?
– И скоро. Будет принимать наше семя и в перерывах кормить молоком мальцов. Это сделает ее горячее и гостеприимнее. Пусть умелицы готовят ковры и пищу. Еды понадобится много. На всякий случай пусть тойры почистят две пещеры.
– О, мой жрец.
– Иди. Я рад, что угодил вам, моим славным помощникам.
Тучи опускались ниже, оставляя вечернему солнцу широкую щель на краю неба, будто кто-то приоткрыл тяжелую крышку огромного сундука и держит ее рукой, высматривая набросанное. Вот-вот отпустит, захлопывая, с новым ударом грома во всю сундуковую ширь и глубину.
Казым наклонился к шее Полынчика, всматриваясь в медленное кружение черных скал. Сморгнул, щурясь. Такие низкие, сильные тучи, заводят горы, заставляют их шевелиться. Нехорошо видеть то, чего нет.
Но черная глыба упрямо двигалась на черном фоне изломанных скал, и, выпрямляясь, Казым усмехнулся. Правы глаза, и не прав его узкий ум. Взрывая ногами серый песок, Брат скакал навстречу, молнии вспыхивали белым в выкаченных напряженных глазах.
Воин хлопнул подбежавшего коня по шее, и тот затопотал рядом, коротко заржав и мотая головой – рассказывал.
– Да, Брат, да. Мы ее подождем. Надо укрыться.
Чистое небо дышало в затылок светом, а темнота пристально смотрела в глаза. И Казыму показалось, он видит со стороны, какие они стали, ровно у Брата, такие же выпуклые и безумные.
Конь топтался, круглил и выпрямлял шею, косил глазом и отскакивал, тут же возвращаясь.
– Куда? Не надо тут? Ну…
Повернув Полынчика, Казым тронул его вслед Брату. Оглядываясь на кручение туч между черных гребней гор, медленно поехал обратно, к плоской равнине, кинутой от степи к пескам берега. Конь был с княгиней последним, он знает, где нужно быть.
Ливень хлынул, когда они, по широкой дуге обогнув горный массив, вернулись в степь, к подножию гор-близнецов, что стояли по сторонам узкой долины. Казым ехал, бросив поводья и опустив голову, чтоб капли стекали с шапки не на лицо. Мокрый Полынчик ровно постукивал тонкими ногами, послушно следуя за большим черным жеребцом. И вот посреди треска, грохота и сверкания вдруг наступила ватная тишина, полная фыркания и топота. А шум ливня ушел вверх, путаясь в шелесте густой листвы.
Скидывая шапку и вытирая глаза, Казым поспешно слетел с коня, чтоб не удариться головой о низкие ветки, которые тянулись от узловатого ствола, как толстые ручищи. Вел коней вглубь древесного шатра, выбирая места, где ветки росли повыше, и, качая головой, дивился тому, как густо ложится листва на кажется бесконечно уходящих вверх уровнях ветвей – ни капли не пуская на тихую утоптанную землю, перевитую ползучими корнями.
– Экий дом. Дерево, значит, дом.
Чистая полоса неба, угасая под напором туч, слабо светила с одной стороны, четко рисуя концы веток с мелкими зубцами листвы. А с другой было черно и космато, просверкивали частые молнии, бросался гром, который сгоряча показался Казыму неслышным, но вот, никуда не делся, только сюда голос его доходит глуше.
Оставив коней, Казым внимательно обошел весь шатер, поднимая ветки, выглянул на все стороны. И, усевшись на выступающий из твердой земли корень, лицом к невидимым сейчас скалам, стал терпеливо ждать. Он знал, небесные копья часто разят большие деревья, что убежали в степь жить в одиночестве, но верил коням. Достал из сумки завернутую в лопух лепешку, и отламывая куски, стал жевать. Когда ливень уйдет, он пустит коней поесть.
Между низких ветвей медленно прошла размытая фигура, от края правого глаза за край левого. Исчезла за виском. Казым проглотил кусок и, повернувшись влево, внимательно осмотрел пустое, мигающее тусклым светом пространство. Снова уставился перед собой, в далекую, клубящуюся за концами ветвей черноту. Дождался, когда фигура снова пересечет остановившийся взгляд. Встал, придерживая низкую ветку в коре гладкой, как девичья рука. Прижав ладонь к сердцу, проговорил в пустоту:
– Пусть труды твои будут легки и свободны, шаман Эргос, я рад, что ты здесь.
И усаживаясь снова, принялся доедать лепешку.
Хаидэ стояла под косыми холодными струями, задирая голову к матерь-горе, что раскрыла корявые руки, обнимая большую бухту. Верх ее был похож на огромную флейту пана, скалы левого края громоздились от низких к все более высоким в середине и снова снижались к правой стороне. Тут все выглядело не так, как со стороны степи. Там в узкой долине, казалось, просвет среди гор идет к самому морю и его видно – яркая синяя полоска, налитая на пушистую зелень в каменном обрамлении. А тут – глухая громоздкая стена, совершено черная и лишь при белых вспышках видно, как бугристы и изъедены временем откосы и склоны. Где-то внутри, в источенной лабиринтами толще, Ахатта и мальчики, а еще дикие тойры, готовые убивать пришлых раньше, чем говорить с ними. И – жрецы. Как хорошо, что в доме Теренция ее сестра выговорила все, что знает о тойрах и Паучьих горах, мучаясь от воспоминаний и горя. Теперь Хаидэ кажется, она видит лица жрецов и знает каждого…И этот песок, насквозь пропитанный ледяной водой, на него выходила Ахатта, пытаясь найти свою степь. Ей казалось, степь так далеко, а она в одном конном переходе в другую сторону. Хотя, разве меряется тут расстояние шагами и конским бегом? Нет, тут другое.
Хаидэ пошла к подножию горы, к самой ее середине, ища глазами хоть какую-то нору или площадку, каменную лестницу или уступы, по которым можно подняться выше и проникнуть внутрь. Но гора смотрела на нее огромной черной тушей, будто она – один бесконечный насмешливый глаз, мигала при вспышках, показывая – видишь, нет тебе входа, светлая женщина.
Песок заканчивался под насыпями черных камней, почти невидимых в темноте, а те уходили под основания скал. Хаидэ пошла вдоль неровной стены, ощупывая ее руками. Уже понимая, не один день ей придется идти вот так, пытаясь найти лаз или ступени на крошечной высоте ее роста. Может быть, ливень кончится, и вечернее солнце успеет осветить стену?
Но дальняя полоса, зачеркнутая макушками прибрежных скал, наливалась багровым светом. Скоро закат, а после него – сплошная темнота ляжет на песок. И невозможно зажечь даже факел.
«Прижмись к стене, накрой голову и жди… будь терпеливой. Твой сын был тут, когда ты вертелась перед зеркалом в доме Хетиса, и когда дралась в клетке на пиру. Побудет еще ночь. А завтра наступит день, выглянет солнце».
Слова в голове были разумны. Но сердце подстукивало, сбиваясь, возражая разумным мыслям. Что делать, если голова говорит одно, а сердце – другое?
Может, в других местах правильнее слушать голову, знала Хаидэ. Но не тут. Оглянулась на страшную и величественную картину. Она ушла одна, но это не значит, что согласилась идти в одиночку. Нельзя заглушать голос сердца, иначе оно не сможет позвать тех, кто слышит его.
«Я должна войти. Сейчас».
Она снова отошла от стены, вставая в самую середину песчаного полумесяца. И, раскидывая руки, крикнула, обозначая себя. Но слабый голос пропал в реве внезапного ветра и оглушительном треске грома. Молнии кидались из черных небесных скал, увязая в скалах земных, и мир внезапно и дико освещался, меняясь. В ярком свете шипящий от воды песок становился белым, как мертвый снег. И она превращалась в черную точку, как убитая холодом ворона, глядящая вверх неподвижной бусинкой глаза.
Хаидэ ударила себя по губам, онемевшим от ледяной воды, чтоб почувствовать, они еще шевелятся. Медленно поворачиваясь, оглядела дальний край скал, тонущий в черноте, бешеное море, усыпанное белыми гребнями, светлую полосу чистого неба, прижатую клубами туч. И снова повернулась лицом к глухой громаде горы.
– Что тебе нужно?!! – крик снова пропал в будто нарочно грянувшем громе.
Скинула шапку, путаясь негнущимися холодными пальцами, дернула кожаный шнурок. Шапка свалилась на песок и грохот утих, рокоча. Но тут же вскинулся снова.
В мелькании белых вспышек отстегнула от пояса меч и отбросила его в сторону. Стащила куртку. Нагнулась, выдергивая из сапожек завязки. Выпрямляясь, вслушалась в мерный рокот, что, кажется, перестал бешено вскидываться на каждое ее движение. И крепко ставя мгновенно заленедевшие босые ноги на мокрый песок, расстегнула пряжку ремня с ножнами кинжала.
Оставшись в рубахе с распахнутым воротом и серых грубых штанах, снова крикнула горе, чувствуя, как крик скребет горло:
– Видишь? Я одна.
Из узкого пролома в толще скалы, выше и напротив ее маленькой фигуры, пятеро жрецов, стоя вокруг Пастуха, смотрели через оконца, закрытые с внешней стороны каменными выступами. За их спинами, тяжело дыша, толпились тойры, десяток мужчин из сторожевой смены, вооруженных дубинками и толстыми короткими мечами.
– Мокра, как земляная жаба, – проскрипел Охотник, оскаливаясь и дергая себя за жидкую косицу, заплетенную цветными шнурами.
– И так же криклива, – подхватил Жнец и, повернувшись, глянул на обрюзгший профиль Пастуха, проверяя, уместны ли сейчас насмешки.
– Пусть снимет и это, мой жрец мой Пастух? – спросил Целитель, – заодно рассмотрим ее женские стати…
Пастух поднял руку, и гыкающие после каждого слова жрецов тойры замерли, ожидая приказа.
– Спустите платформу. А вы еще успеете насмотреться на ее тело, братья. Когда будет лежать, принимая каждого.
Тойры засуетились вокруг веревок и блоков, Пастух говорил уверенно, но внутри поднималось беспокойство и раздражение. И он с удивлением прислушивался к себе. Она упряма и быстро понимает навязанные правила. Так быстро, что кажется, это она ведет игру и правила принадлежат ей. Сильна и строптива. Пресыщенное нутро Пастуха знало, как и что нужно делать. Один способ, другой, третий, и жертва ломается, подчиняясь. А если же нет, всегда можно убить это жалкое тело, начиненное потрохами и жижей, оставить гнить в дальних подземельях или отдать на расклев степным стервятникам. Не жаль, всегда будут другие, что без перерыва подрастают, ведь люди живут коротко, плодятся радостно и без меры. Но когда раз в сотню лет рождается существо, отличное от обычных короткоживущих, убивать – все равно что выбрасывать в море драгоценность. Его беспокойство понятно: оставаясь живой, она может улизнуть, протечь сквозь пальцы, как протекала до сих пор, вывертываясь из всех попыток пленить ее душу.
А раздражение? Оно откуда?
Скрипели деревянные блоки, пропуская через желоба толстые лохматые веревки. Тойры взялись за канаты, согнув широкие спины с буграми мускулов. Жрецы с интересом ждали, тихо переговариваясь и выглядывая наружу, туда, где гром стих и только белая вода стояла сплошной пеленой, всасываясь беспорядочными гребнями волн.
Пастух задавил в себе ярость, переводя взгляд с худого костистого лица Охотника на лоснящееся лицо Ткача, и дальше, на ухмылку, кривящую красивые скулы Видящего. Они поглупели и вправду не видят, какая угроза исходит от этой дрожащей девки, облепленной мокрыми холщовыми тряпками? И мысленно одернул себя, раздувая мясистые ноздри. И хорошо, что не видят. Иначе они нащупали бы и эти внезапные мысли своего Пастуха. О том, что этой светлой – не маткой лежать в теплой рожальне, поглощая сытную тяжелую еду и отращивая живот снова и снова. Ей бы – темной княгиней, жаркой женой вечноживущего Пастуха, который тогда уже не Пастух. Князь, что растет все выше, над всеми гнездами, дергая все паутины и слушая, как отзываются они в чутких и властных пальцах…








