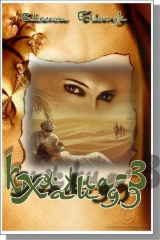
Текст книги "Хаидэ (СИ)"
Автор книги: Елена Блонди
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 54 страниц)
Елена Блонди
ХАИДЭ
Глава 1
Степная весна никогда не обманывала, приходила. Иногда яркое, почти уже летнее солнце снова прятали тучи, и траве приходилось расти в сереньком свете под небом затянутым облачным покрывалом. Но если присмотреться, то свет скрытого солнца был виден везде. На прошлогодних травах, что берегли новые ростки, которые выросли и подминали их под себя – тайный свет, будто живая кровь, наполнял каждый сухой стебель. На ветках, где круглились и заострялись к концу толстые почки. А особенно в брызгах белых цветов, что утром вдруг покрыли кустарники вдоль ручья и кривые деревца в лощинах. Белые-белые цветы, с тонкими розовыми прожилками, такие нежные, что кажется, дохни посильнее, и умрут, скручиваясь, но вот сидят на ветках крепко, треплются ветром, стряхивают с себя дождевые капли. И дышат, толкая по жилкам розовую солнечную кровь.
Ахатта, не вставая с колен, выпрямила спину и оглянулась, вытирая мокрые руки краем старой юбки. Ледяной ветерок кидался, покусывал пальцы и отпрыгивал, чтоб пролезть к распахнутому воротнику старой военной куртки. Трогал колечки черных волос, что выбились из толстой косы у самой шеи и те, набравшись холода, прикасались к коже, будто чужие лапки.
Но там, куда смотрела Ахатта, на вершинах пологих курганов уже отцветали тюльпаны. И казалось, боги широкой длинной рукой вольно кинули огромные красные покрывала, для красоты.
Отвернувшись, она встала и, подхватив горку глиняных мисок, удобнее устроила их на руке. Пошла к палаткам, хмурясь и шевеля губами. Ей бы туда, взобраться на курган, лечь на холодную землю, чтоб цветы были перед самыми глазами, и смотреть, смотреть, как пляшут под ветром яркие упругие лепестки, вытягиваются и не улетают, потому что как бы ни старался ветер, они – нежные и упрямые сильнее его. Так устроены, и этого не изменить.
Она будет лежать и смотреть и рядом будто бы лежит Исма, это он показал ей, можно дождаться и увидеть, как узкий спеленутый бутон превращается в цветок. И если не поворачиваться, то получится, что она повидалась с мужем. Которого нет, которого она убила сама, выбрав сына, что стал бы богом, как думалось ей. И даже оплакать мужа не дали ей, оставив в памяти жирный дым погребального костра, крики тойров, топот, треск хвороста и бешеный бег по каменным лабиринтам.
Прижимая к груди посуду, Ахатта пошла быстрее, мучаясь от воспоминаний. Как жить? Если весь мир ей – только память о прежнем счастье? Зачем огромность счастья, если потом она превращается в такой же огромный камень горя? Значит, нельзя любить в полную силу, нужно взнуздать желания, веру, полет в высокое небо, если все это кончается – так вот?
Ступив на кочку, поросшую старой травой, она подвернула ногу и со всего маху села на холодную землю, раздувая подол. Миски раскатились и замерли, тускло поблескивая вымытыми боками. Ахатта взяла себя за виски и, раскачиваясь, сжимая голову застывшими ладонями, замычала. Она все ждет, ждет, когда боль стихнет, а та приходит снова, кидается на нее от каждого нового воспоминания, и все они связаны с тем, что происходит вокруг. Цветут тюльпаны – это они с Исмой лежат рядом на траве, она смотрит внимательно, чтоб не пропустить и вдруг, повернувшись, видит его узкий глаз и улыбку. Ты мой тюльпан, говорит ей Исма, что мне другие, на тебя буду смотреть.
И в этом воспоминании зашиты другие, валятся на нее камнями с обрыва. Глаза у него темные, но не черные, ресницы прямые, жесткие. А одна бровь посередине рассечена маленьким шрамом… Пока не поженились, не стриг волос, перехватывая их кожаным шнурком или скручивая в узел, проткнутый деревянной шпилькой. А потом она стригла, придерживая рукой за скулу, поворачивала его голову, говорила и смеялась. И нож специально лежал в коробке из коры, с остро наточенным тонким лезвием.
Собирая миски, она беспомощно оглянулась, пытаясь увидеть что-то, отдельное от воспоминаний. Закрыла глаза. Но запах весенней степи толкался в ноздри, рассказывая, вот, Ахатта, вот так вы лежали под цветущими сливами, когда Хаидэ сидела на берегу ручья под присмотром стражника. А Исма убежал от учителя-грека и, забившись под куст желтушника, вы с ним обнялись, сдавленно смеясь, и слушали его шаги, а ты слушала, как сердце Исмы бьется в твою грудь.
Надо убить себя, решила Ахатта, и ей стало легче, только на миг, потому что уже решала так, зная – ничего не сделает она с собой, ведь там в Паучьих горах, остался сын. Он тоже живет в ней постоянно, как Исма. И растет. Вот пришло и уходит время тюльпанов, ее мальчику уже год. И это все, что она знает о нем.
Вытерев слезы, встала, медленно нагибаясь, подобрала посуду и пошла к палаткам, откуда навстречу ей торопился Убог, неся в руке свою старую цитру. Ахатта зло свела брови, отворачиваясь от его улыбки.
– Я помогу, добрая. Давай, понесу, – Убог топал рядом, сопел, мягко отбирая миски, уронил одну и засуетился, поднимая и смущенно смеясь.
– Оставь ты, я сама! – она крикнула, давая свободу злости, топнула ногой и снова подвернула ее. Мужчина подхватил ее под локоть, снова роняя посуду.
Вырвав руку, Ахатта заплакала, наконец, в голос, давясь злыми слезами. Стояла, прижимая к груди неуклюжую стопку посуды, качалась и выла, глядя перед собой невидящими глазами, через бегущие слезы. Убог застыл рядом. Молчал. Холодный ветер водил широкой ладонью по волосам травы, прижимал и отпускал, перебирал, раскладывая на полосы, и сминал снова, играя.
Выплакавшись, Ахатта шмыгнула носом, размазала слезы по мокрым щекам. Сказала хрипло:
– Ну, что стоишь, как пень? Бери миски, пойдем.
– Да. Да.
Они взбирались на невысокий холм, за которым в просторной лощине стояли полукругом походные палатки. На пологом склоне бродили лошади, мальчишка сидел, положив на колени длинную хворостину. Пахло мясом из котелков на кострах. И летучим цветочным медом.
– Ты пойди к сестре, сейчас пойди, – тихо сказал Убог, – а миски я отнесу, нянька ждет.
– Хаи вернулась?
– Да. Да. Вон ее Цапля, и серый Крылатка, видишь, пасутся. А сестра ушла к камню. Ты пойди к ней. Утром она хочет скакать в военный лагерь, к мальчикам.
– Куда ей скакать, она что хочет родить прямо на лошади?
– Ты скажи ей. Вот как мне, скажи.
Ахатта усмехнулась испуганной заботе в голосе певца.
– Жалеешь ее?
– Жалею, добрая, – согласился Убог.
– А меня не жалеешь?
– И тебя жалею, добрая.
Подходя к очагу на вытоптанной площадке перед старой палаткой, Ахатта поставила посуду на землю и выпрямилась, окинула взглядом собеседника.
– Всех ты жалеешь. И все у тебя добрые. Ты что не видишь, сколько вокруг зла?
Мужчина улыбался, вертя в больших руках миску. Вытер рукавом запачканный краешек и бережно поставил к другой посуде. Не дождавшись ответа, Ахатта пожала плечами и крикнула в хлопающие шкуры входа:
– Я принесла миски, нянька Фити. Тебе помочь еще?
– Идите уж, – отозвалась старуха, ворочаясь внутри.
– Где на камнях? – отрывисто спросила Ахатта, запахивая куртку.
– Там, там, добрая, – Убог замахал рукой, подстраиваясь под ее быстрые шаги.
Краем они обошли маленький лагерь, кивая женщинам, что возились у костров. И стали подниматься на противоположный холм. Ветер задул сильнее, загудел в ушах, растрепывая волосы. Мужчина шел, баюкая на локте цитру, посматривал на спутницу, улыбался. Потом сказал важно:
– Я сочинил новую песню, сестра. Она хорошая. Я потом спою тебе.
– Твои песни, бродяга, неуклюжие и глупые, – поддразнила она, легко меряя шагами траву.
– Да, – согласился тот, – но это мир, он говорит со мной. А я говорю с ним. И рассказываю людям.
Они взобрались на плоскую верхушку и встали, оглядываясь. Ахатта поймала толстую косу, разобрала пряди и снова потуже заплела их, затянула кожаный шнурок на конце косы. Дышала сильно, грудь поднимала ворот старой рубахи, щеки покрыл яркий румянец поверх обычной мертвой бледности. И разгорелись глаза. Она не замечала, как ушла тоска, по привычке видя себя внутри нее, отгороженной от мира ее толстым мутным стеклом. И только обернувшись, увидела вдруг, как с жадной тоской смотрит на нее певец, приоткрыв рот и сведя широкие брови.
– Что? – спросила резко и настороженно, – что глядишь?
– Ты очень красивая. Ты как… как… – он махнул рукой в сторону красного покрывала на дальнем холме.
– Нет! Замолчи!
Он послушно замолчал, не отводя от нее глаз.
За их спинами мирно и негромко шумел лагерь, звякал казанами, топал шагами человеческими и конскими, перекликался голосами хозяек и смехом отдыхающих воинов. Дальше, за плоским холмом протекал ручей, откуда Ахатта принесла вымытую посуду. И по всей степи, хорошо видные сверху, раскинулись круглые спины курганов, накрытые красным полотном цветов. А перед ними, ниже и дальше, так что взгляд летел птицей, лежала весенняя степь, уходящая в синюю дымку далекого моря.
Туда смотрела княгиня, сидя на большом камне на середине склона. Одна. Ахатте и Убогу были видны концы светлых волос, треплющиеся на ветру и острая шапка на поднятой голове. Одной рукой Хаидэ опиралась на камень.
Убог сделал шаг вниз, но Ахатта не тронулась с места. Он выжидательно посмотрел на нее, поднимая светлое лицо с синими глазами.
– Подожди, – спустившись к нему, она села на траву и потянула мужчину за руку, усаживая рядом, – спросить хочу.
Ветер метался поверх холма, разыскивая их, но тут было тихо, голоса звучали внятно, и немножко гулко, отскакивая от каменных глыб, торчащих из земли.
– Значит, мир говорит с тобой… Ты ведь не шаман и даже не младший ши. Ты не вождь и не воин, который знает все вокруг и не думает как трава, а сам становится травой, ну ты знаешь это. И твои песни, не обижайся, они вправду неуклюжие. И ты слышишь мир? Как он говорит? Чем? Где его слова, бродяга? Почему я не слышу его слов, а слышу только свою тоску по умершему мужу, по сыну, которого потеряла? Я измучилась, я хочу умереть, потому что мир для меня полон только злобы. Он не любит Ахатту. Ты можешь мне ответить? Где слова мира? Как услышать?
Она говорила сперва медленно, подбирая слова, а потом все увереннее, и голос сильно отдавался среди камней. И летя на нем, она задала последний вопрос и смолкла, как бы передавая эту уверенность мужчине, сидящему рядом, чтоб так же ответил, понятно и сразу.
Но тот молчал. Смотрел вниз и посмотрев туда же, Ахатта горько усмехнулась, покачав головой. У ног певца вырыли норку степные муравьи, предвещая солнце, суетились, выбегая из земли и таща на себе мелкий мусор, сновали туда-сюда. И Убог, не слушая ее вопросов, был занят тем, что отодвигал ногу, чтоб не помешать мелким степным жителям в их обыденной суете.
– Я и забыла, что ты – Убог.
Поднялась и пошла вниз, не глядя, пошел ли он следом или остался заботиться о муравьях. Шла, закусив губу и злясь на себя, потому что слезы опять закипали на глазах.
– Ты не должна стоять в середине мира, – сказал над самым ухом Убог, топая рядом и сопя.
– Что?
Он взял ее холодную руку своей большой и теплой, потянул, приближая к себе. Махнул другой рукой, показывая на степь.
– Вот травы. Они растут. Слышишь? Они говорят, пришла весна и мы растем. А вон летит коршун. Смотри, как он положил крылья на пустое небо и не падает. Он говорит – я тут, я в небе. А за камнем пахнет слива, вкусно, медом. Она говорит…
– Ну и что? – крикнула Ахатта, – каждый год это происходит! Что мне с того? Летит, пахнет. Ползает! И что? Это слова?
– Да. Да.
– Так объясни мне! Что мне с этих слов? – кричала в растерянное светлое лицо, окаймленное короткой бородой, бросала свою злость в широко открытые глаза, надеясь, что он зажмурится, когда яд, что звучит в них, обожжет ему веки. Но он лишь покачал головой.
– Это все. Я не знаю, как еще сказать.
– Ладно, – остывая, сказала Ахатта, – что с тебя взять, неум. Прости, что я набросилась на тебя.
– Да, – согласился мужчина, – ты вот как коршун. А мои слова, как суслики. Но они убежали и спрятались, ты не волнуйся, все хорошо.
Хаидэ слушала их шаги и спор. И повернулась, когда шаги приблизились. Улыбнулась обоим. На тонком лице с обтянутыми кожей скулами пятнами выступал румянец. Придерживая рукой огромный живот, подвинулась, давая место подруге. Скинула с головы шапку на плечи.
– Ты совсем белая, – с беспокойством сказала Ахатта, разглядывая круги под глазами княгини, – еда снова не держится в тебе?
– Да. Я накормила мышей, там, – засмеялась Хаидэ, показывая за невысокий камень, – теперь Фити придется еще раз готовить мне ужин.
– Хаи, ты понесла, когда в плодах черёвки зашуршали семена. Значит, в дни когда облетит весенняя слива, тебе рожать. А может и раньше, ты же знаешь, бывает и раньше. Ты не должна ехать в лагерь. Даже в повозке.
Она посмотрела на высокий живот, подпирающий круглые груди. Заметила с легкой гордостью:
– Когда я носила сына, то была почти такая же стройная, как в девушках. Может быть, ты носишь двоих? Что сказала тебе Цез? Она должна видеть.
– Цез ничего не говорит мне. С тех пор как поняла, что нет мне судьбы, ни слова о будущем не сказала. Но двое это было бы неплохо, а, сестра? Один маленький воин и одна степная красавица.
Хаидэ рассмеялась и смолкла, прижав руку ко рту. Переждала приступ тошноты и поправила волосы дрожащими пальцами. Ахатта с беспокойством следила за ее жестами. Как она измучена. А за повседневными делами и не видно было. Вечно в седле, или на совете, у ночного костра. Или в шатре с купцами и посланниками. А перед тем она хоронила отца, стояла рядом с высоким костром, сжав губы и глядя перед собой сощуренными глазами. И не плакала, нельзя ей – теперь она вождь.
– Ты сразу посадишь ее в седло перед собой, да, сестра? – пошутила Ахатта, но та замотала головой, тоже смеясь в ответ:
– Нет-нет, я посажу ее в шатер, надарю платьев и украшений, и буду баловать так, что вырастет чистый демон капризный и злой – на погибель всем мужчинам!
– Что Теренций? – отрывисто спросила Ахатта и тут же пожалела о ненужном вопросе. Ветер загудел в коротком молчании. Убог тенькнул струной и прижал ее пальцем, испуганно посмотрев на женщин.
– Мой муж прислал мне пергамен, – усмехнулась Хаидэ, – заверил меня в том, что полностью верит моей клятве и чтоб я сообщила ему, кто родится – девочка или мальчик. Он приготовит одежды и детскую комнату.
– Не приедет, значит, – пробормотала Ахатта, – вот уже танец змеи и хорька, ночь идет, день проходит, а вы все пляшете, кто победит.
– Он пляшет, Ахи. А мне недосуг.
– Но он мужчина, сестра! Женщины эллинов, ты знаешь, всю жизнь в гинекее, ему тяжело смириться с тем, что ты такая вот.
– Он это знал, когда брал меня в жены.
– Он сговаривал двенадцатилетнюю!
– Но я с рождения дочь Торзы непобедимого, разве нет? – напомнила ей Хаидэ и толкнула локтем в бок, – хватит бушевать, так есть и к чему мучиться сожалениями или злобой. Я еще молода и здорова, боги дали мне выносить ребенка, рядом со мной ты, у тебя есть Убог, а у меня – Фития, да будут дни ее бесконечны, как воды большой реки, и еще у меня есть…
Она замолчала и оглянулась. Из-за высокого, согбенного, как огромный древний старик, камня, вышел Техути, неся на локте седло. Ремни волочились по траве. Египтянин давно, еще осенью, переменил одежду, и Ахатта вспомнила, как они потешались над Нубой, обряжая черного великана в косматый тулуп и толстые стеганые штаны. Бронзовое лицо египетского жреца казалось приклеенным к меховой шапке с оттопыренными ушами и поднятым вверх козырьком.
Мягко ступая кожаными сапожками, жрец подошел и прижал к груди свободную руку, здороваясь с подругой княгини. Она кивнула ему.
Как складывается женская жизнь, думала Ахатта. Вот Хаидэ и ее чужеземцы, сперва черный Нуба, потом эллин Теренций с его пирами, и вот – Техути, жрец из далекого сказочного Египта. А она – Ахатта, выбрав себе одного, родного по крови, была лишь с ним и его ждала и убежала к нему.
Думая так, ощутила гордость за себя, и вдруг вздрогнула, ударенная мысленным шепотом. Не ты ли повернула судьбу своей сестры, Ахи, когда убежала в гнилые болота, и отобрала у нее Ловкого? Кто знает, может быть, их любовь стала бы крепче сговора князя с полисом, и княжне не пришлось бы ложиться в постель к старому торговцу…
Шепот был таким ясным, что женщина оглянулась, боясь, что его услышали все. Но Хаидэ говорила с Техути о лошадях, а Убог, наклонив большую голову, тихо перебирал струны и шевелил губами, напевая. Теньканье струн намечало мелодию, еле заметно. Будто кулик шел по песку, перебирая длинными лапами, оставлял следки, редко, но все же цепочкой. И слова, простые и не особо красивые, падали в промежутки между следков.
Он пел о веселых рыбах, которые прыгают из воды и когда все думают – умерли, вдруг расправляют крылья и улетают, сверкая радугой.
И вот тут Ахатта, глядя на лохматую светлую голову, медленно, пригибаясь от тяжести наваливающейся мысли, впервые подумала не о себе. Вот он, без памяти, пришел, таща за собой свою невидимую судьбу, и что там в ней? Ведь если не помнит и не говорит, это не значит, что там пустота. Пустота не оставляет глубоких шрамов на груди и рубцов на спине. Где он жил? Какие потери перенес, какое горе обрушилось на него так сильно, что убило память? А ее сестра? О ней Ахатта знает все. И, если эта упрямая сидит и улыбается, глядя на дальнее море, разве это значит, что ее тоска по отцу, по ушедшему Нубе – слабее, чем горе Ахатты? Десять лет исполнять грязные прихоти нелюбимого, жить в полусне, почти таком, как смерть для вольной степной всадницы, любить отца так сильно, что суметь отпустить его в смерть, от себя. Потерять преданного друга, исчезнувшего в огромном мире, взвалить на плечи заботу о целом племени, переломив недоверие суровых воинов. И еще нянчиться с ней, с Ахаттой, с ее тоской и болью, принимая ее в себя.
Тихо звучала простая мелодия, ветер бился в изломах старого камня, а внутри Ахатта шагнула в сторону, освобождая середину мира, где стояла до этой поры, стеная и жалуясь, окруженная собственным горем, как столбом безжалостного света, не дающего увидеть ничего вокруг. И маленький шажок вдруг сделал душу легче, открыл ей глаза, она осмотрелась, вздохнув и увидев. Стоя рядом с толстым столбом света, Ахатта боязливо прислушалась к своему телу, страшась ощутить тяжесть в груди, которая приходила вслед за свирепой тоской или приступом ярости и наполняла груди проснувшимся ядом. Не навредит ли сестре ее новая любовь? Ее жалость?
Она подняла голову и наткнулась на взгляд певца. Он улыбнулся ей, покачал головой, успокаивая. Нет, услышала она в словах песни о сверкающих рыбах с летучими плавниками-крыльями, нет, не навредит, ты идешь правильно, и жалость твоя чиста.
Ахатта обняла подругу за плечи, и снова заплакала. На этот раз от того, что они такие худые и острые, как у брошенного ребенка. Слезы текли, щекоча щеки и нос. Не вытирая их, сказала в ухо прижавшейся к ней Хаидэ:
– С тобой поеду, в повозке. И все буду возить, что нужно. Родишь моему сыну брата-князя, а я приму его.
Глава 2
Луна висела чуть сбоку от верхушки прозрачного неба, и потому казалось – наклонила бледное лицо и рассматривает мелких людей, занятых своими заботами.
Спутница Тота и Имхотепа, луна хранила его, пока был писцом и врачевателем. Но вряд ли он обрадовал богов Египта тем, что перестал молиться их сонму, предпочтя своего, единого бога.
Техути сел так, чтоб лик луны не маячил перед глазами, подтянул к себе плошку с квашеной зеленью, ухватил пальцами мокрую горстку, сунул в рот. Жевал медленно, морщась от щиплющего язык вкуса: весна, нет еще плодов, а зелени полно, Фития собирает каждый день большую корзину щавеля и ушек, томит в казане, сдабривая бараньим салом, а что остается, квасит в пузатых глиняных крынках. Там у костра в середине стойбища, жарится мясо, он может пойти туда и получить свою часть подгоревшего бараньего бока, тогда с кислой зеленью будет вкусно и сытно.
Но там совет, снова старейшины, пропуская через горсть бороды, слушают княгиню, задают вопросы, подсчитывают, растопыривая пальцы. Он тоже советник княгини и значит, должен быть там, но сегодня они все обговорили еще в степи, в седлах, возвращаясь от караванного тракта, где Хаидэ ждали купцы-наниматели. На тракте, не слезая с лошади, она поклонилась и, показав на свой живот, извинилась, что говорить и слушать будет сидя в седле. Слухи по тракту бегут быстро и купцы, без удивления покивав, рассказали о своих просьбах и выслушали ее предложения. Трем караванщикам нужны были воины для охраны. Трое каждому. Значит, завтра княгиня поедет в лагерь к старшим мальчикам и там сама выберет наемников. Техути пытался уговорить ее остаться на стоянке, пусть бы поехал Кайза, он всех знает наперечет и справится. Но княгиня сказала отрывисто, покачиваясь в такт медленной рыси:
– Двое купцов не лгут, третий хитрит. Мне нужно самой объяснить каждому воину – что надо делать и на что обратить внимание.
– И на что?
– Зубы Дракона – не убийцы невинных. Если купец сам решит заняться грабежами, то воины должны вовремя порвать договор. Но нельзя ошибиться.
Техути помолчал, слушая, как глухо кидается под ноги Крылатке затянутая травой земля. Сказал осторожно:
– Ты уверена, что Торза непобедимый так учил своих воинов? Я слышал, Зубы Дракона тем и славны, что никогда не бросают нанимателя.
– Я не Торза непобедимый, я дочь его Хаидэ. И настало время мне самой заслужить себе имя, – сухо ответила княгиня.
И Техути замолчал.
Завтра они и еще два воина поедут в лагерь, это треть дня в седле. Следом Ахатта в повозке со всем необходимым на случай, если у княгини раньше времени начнутся схватки. Просилась и Фития, но Хаидэ отказала, и старуха сейчас была крепко не в духе, ходила у маленького костра, где кипел котелок с травами, залезала в палатку и чем-то сердито гремела там, бормоча. Наконец, встала над египтянином, уперев руки в худые бока:
– Чего сидишь? Если не захотел торчать с умниками у костра, пойди за водой, что ли.
Техути поставил наземь миску и вытер рукой рот. А руку обтер о подол куртки. Усмехнулся новым привычкам. Это он, который всегда ценил тонкий лен праздничных хитонов, носил многорядные ожерелья, вышитые золотом воротники, – таскает засаленные одежды из старых шкур и радуется, что чем старее они, тем значит, мягче и удобнее. Куртка досталась ему с убитого в степной стычке парня. И хороша, обношена, как надо.
– Давай ведро, принесу.
Вода в маленькой речке была ледяной и сладкой на вкус. Он напился, черпая горстью, умыл лицо, прогоняя усталость и раздражение. Понес жесткое кожаное ведро обратно, перегибаясь, чтоб не плескать на ноги. Дома, живя у входа в маленький храм, он утром выбирался из хижины, окунался в теплую мутную воду великой реки, а потом бежал по сонной дороге к рисовым чекам. Все время бегал, чтоб живот, лежащий на широком поясе мягким валиком, не вырос в большую подушку. Он зарабатывал тем, что писал прошения и читал письма, что приносили неграмотные, да еще работал на маленьком огороде. Потому старался держать свое тело в форме… А тут нет нужды стараться, тут при каждом удобном случае надо сесть на корточки, свешивая руки между колен и отдыхать. Потому что после краткого отдыха снова в седло. Или к стаду. Или военные занятия, чтоб обучиться владеть местным оружием. До степной жизни он вообще не владел никаким, кроме острого ножа.
Фития жестом показала – подлить воды в котелок, и он послушно нагнул колеблющееся ведро, аккуратно вливая ледяную струю в кипящую воду. Старуха его не любит. Он знает таких, устойчива в привязанностях, и верно, старого друга девочки-княжны Нубу поначалу не любила точно так же. Но если ее приручить, то не будет преданнее существа в племени, где он чужой всем. Кроме княгини. Но предана ли ему княгиня? Несмотря на данное обещание. Нет, конечно, нет. Если того потребуют интересы племени, она принесет его в жертву, может быть, с плачем в сердце, но что ему от того плача.
Техути поставил ведро и вытащил из сумки, что болталась на бедре, пучок травы.
– Посмотри, что я принес, Фития, да будут всегда добры к тебе небесные воины.
В темнеющих сумерках уже терялись очертания руки, и он поднес ладонь к костерку, показывая растопыренные листочки.
– Да что ж я, не знаю кутевника? – удивилась нянька, – вон, кругом растет. Мошку от лошадей хорошо отгонять, а больше ни на что и не годен.
Жрец разломил стебли, выдавил на ладонь капли белого сока. Достал мешочек и зубами развязал шнурок на горловине. Потряс, высыпая поверх клейкой лужицы порошок, растер по коже.
– Возьми нож. Тот, острый.
– Ну…
– Режь.
По лицу старухи прыгали красные тени, освещали удивленно поднятые брови. Но глянув на Техути, она кивнула и, приложив нож к ладони, надавила, повела кончиком лезвия. Длинная ранка раскрылась, блеснула темной кровью. Когда мужчина сомкнул ладонь, сжимая кулак, и снова медленно разогнул пальцы, старуха охнула, разглядывая слипшиеся белые края.
– И крови нет?
– Нет и боли. Даже разрез к утру затянется.
– А ну, давай-ка, – нянька смяла остатки травы, растерла по своей ладони. Техути сыпанул порошка.
– Режь, что встал!
Поворачивая рассеченную ладонь, цокала языком, сжимая и разжимая кулак.
– Возьми, – жрец протянул мешочек, – твое теперь.
– Возьму. Значит, кутевник. А пыльца – это что? Заморская, небось, диковина?
– Это мел, со старых камней, там за лагерем они есть. Нужно только наскрести в полную луну и потом носить под рукой в полотне, чтоб пропиталась живым потом.
– Гляди-ка, – Фития сунула нос в горловину, смешно поморщилась, чихнула и улыбнулась.
– Себе-то оставил? Ты вози с собой, а то птичка моя, вдруг в пути ей рожать.
Сказала и снова расстроилась, нахмурилась, пряча подарок в кошель. Техути ответил мягко:
– Я сам боюсь за нее, Фити. Потому буду следить, как следил бы за любимой женой. Я много врачевал и спасал от болезней. И от яда, помнишь. Я спас Ахатту и княгиню тоже.
– Помню я, помню. Ты садись, вот кружка, попей горячего. Рука-то не болит?
– Нет.
Сидели рядом, пили горячий отвар, глядя, как языки пламени лижут копченое дно старого котелка.
– Я ее принимала, жрец. Стоял день без теней, одно сплошное солнце. Всю траву выжгло в то лето, и на поляне умирали змеи, если по глупости выползали из нор. Ее мать рожала стоя, сунув руки в ремни, смотрела на меня и не видела, а глазищи из серых стали темные, как ночь, большие, что два колодца. Две шаманихи прыгали, били в бубны, чуть не убила я их, когда скакали вокруг.
Фития тихонько засмеялась.
– А потом Эния захлопала глазами, заговорила, мне и не понять что, на своем языке. Поднатужилась. И выпала девочка прямо мне в руки. На солнце. Я ее держу у груди, а сама рукой шарю позади себя, где же нож, ой думаю, тупая твоя голова, нянька, чем отсечь пуповину. Чтоб не класть ребенка на каленую землю, думаю, сейчас перегрызу зубами. А он, нож, будто сам мне в руку прыгнул. Открыла маленькая глаза и как закричит, сердито и звонко. А в ротике солнышко, как у пойманной рыбки, светит туда, до самого горла. Так вот с солнцем с тех пор и живет, и сама как солнце. Ты ее береги, жрец. Сейчас-то я не всегда могу с ней, видишь, она в делах все дни. Когда я тут остаюсь, ты береги.
– Я сберегу.
От большого костра донеслись возгласы и стихли. Послышались в темноте шаги, заглушаемые ором лягушек, что хороводили свадьбы по крошечным бочагам на краю лагеря. Свет упал сначала на ноги и подол куртки, осветил руки, держащие накрытую миску. Хаидэ подошла, медленно села, придерживая рукой живот, вытянула одну ногу и, сунув Техути теплую миску, взялась рукой за согнутое колено.
– Поешь, мясо тебе.
Он замер, уставившись на миску. Сидящая рядом беременная женщина, это о ней рассказала старуха…Девочка с открытым маленьким ртом, полным солнечного света. Она принесла ему мясо. Как мужу. Швырнуть бы эту миску, чтоб упал в костер котелок, схватить ее в охапку и убежать. Туда, где нет важных старейшин, сухого хитроглазого шамана, хмельного Теренция, пишущего ей короткие письма. Чтоб никого, и чтоб она приходила и протягивала ему, с женской заботой, будто само собой разумеющееся… Поешь… потому что так должна поступать женщина со своим мужчиной. Только так.
Что же она делает с ним? И как? Ведь не пляшет, извиваясь и блестя глазами под накрашенными веками, не показывает бедра, обводя их змеиными движениями тонких рук. Сидит, усталая, с горой живота, в котором чужой ребенок, и даже не смотрит на него, погруженная в заботы племени. Но и не думая о нем, крепко держит в маленьком кулаке его сердце. А он – беззащитен.
Техути вытащил кусок, истекающий жиром, откусил, поставив миску на колени. Ахатта ходила за спиной, зевая, собирала какие-то мелочи, спорила с Хаидэ вполголоса, убеждая взять то и это. Та отмахивалась и, наконец, рассердилась.
– Жужжите, как мухи по осени! На рассвете туда, к ночи вернемся. Потом к утру соберем лагерь и двинемся к дальней границе, там скоро пройдут еще караваны. Там и встанем надолго.
– Нет, – решительно сказал Ахатта, прижимая к груди связку ремней, – пока не родишь, никуда не двинемся. Съездим за парнями, и тут будем ждать!
– Ты забыла, кто вождь? Ахи…
– Не забыла! Но я сказала!
Хаидэ посмотрела на Фитию. Потом на Техути. Махнула рукой.
– Вот и заговор. И кто? Самые любимые! Идите спать.
Ахатта исчезла в темноте, и сразу оттуда послышался тихой говор Убога, поджидавшего ее. Фития забралась в палатку, открыв полог, чтоб видеть сидящих у костра, поворочалась и заснула, посвистывая носом.
А Техути сидел, доедая мясо, думал. Старая нянька будет добра, а потом он купит ее еще чем-то, лучше всего – заботой о княгине. Она привыкнет к нему. Хаидэ родит, и, мальчика или девочку – заберет Теренций, ведь ребенок обещан ему клятвой. Ахатта… Она постоянно с бродягой и становится все мягче и разумнее. Ее завоевать просто. Не слишком умна, Техути сумеет найти нужные слова и поступки, чтоб поняла – он не враг. Есть еще старая Цез, но та не вмешивается в их жизнь, сама по себе. Уходит на весь день в степь, собирать травы. Или подолгу живет в стойбище шаманов.
Враг у него пока что только один. И бороться с ним труднее всего, потому что он в сердце княгини. Только она слышит его и говорит с ним. А значит, придется сражаться за свою любовь вслепую.
Техути искоса посмотрел на короткий нос с горбинкой и круглый подбородок, пряди волос, свитые в две растрепавшиеся косы. Он все делает верно. Каждый должен биться за свою любовь, и он честен, не совершает подлостей, просто обдумывает все шаги. А когда невозможно обдумать, все равно делает еще шаг, главное – в нужном ему направлении. Вот как сейчас…








