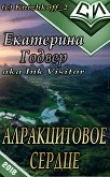Текст книги "Алракцитовое сердце. Том II (СИ)"
Автор книги: Екатерина Годвер
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Помешалась что ль? – недоуменно спросил капитан.
– Нет, она в своем уме была, не подумай: понимала, что к чему, что козел – скотина бессловесная, неблагодарная. Но все чувство, что родне, мужу да сыновьям раньше шло, козленку тому отдавала, чтоб с горя не убиться. А потом в привычку вошло… Сватались к ней мужики – да она всем от ворот поворот давала. Потом она со всей скотиной церемониться начала. Кроме коз и коровы, еще два десятка свиней у нее было; расплодились – поросят резать жалела. Жили в тесноте и грязи, вонь от них стояла – на три двора; как померла старуха, соседи всех забили: надоело уж очень. Но перед самой смертью она молодняк выгнала в лес, к кабанам; потомки до сих пор, может, бегают. А я смотрю на Голема, на себя – и вспоминаю Леку и ее козла, – с натянутой улыбкой закончил Деян.
Капитан недоверчиво хмыкнул.
– Ты бы себя видел давеча со стороны! Ага, позволил бы он тебе глотку драть, если б за козленка держал. Как же!
– Да мне вот думается – в том-то и беда, что позволил, – со вздохом сказал Деян. – Совсем дошел человек… Не к моей выгоде переубеждать тебя, Ранко, но, по-моему, твоя темная лошадка хромает на все четыре ноги.
– Лучше уж хромая лошадь, чем пешком ковылять, – отмахнулся капитан.
«Что-то в нем есть странное, – подумал Деян. – Даже очень».
Капитан подлил себе вина.
– Все, кого я встречал последние дни, рады были бы бежать от войны, – сказал Деян. – Ну, кроме Голема: он, понятно, не в счет. Даже твой сержант вчера боялся, что его отправят с нами назад. И остальные твои люди недовольны: я слышал утром, как они между собой говорили. Оно понятно – дело опасное… Но ты – ты будто бы и рад! Снова возвращаю тебе твой вопрос, капитан Альбут: что не так с тобой?
– Сказал же: сплю и вижу, как поджарю бергичевским ублюдкам пятки! – Капитан хищно оскалился.
Деян пожал плечами: «Не хочешь – не говори».
Разговор надолго прервался.
– VII –
Спустившийся вниз Джибанд о чем-то толковал в дальнем углу залы с помятого вида мужчиной в линялой красной шапке; Деян узнал в нем давешнего музыканта и прислушался – но великан наконец-то научился говорить тихо. Капитан, проследив за взглядом Деяна, тоже неодобрительно пробурчал что-то себе под нос.
Джибанд не удостоил их вниманием, но его собеседник, заметив к себе интерес, стянул шапку и отвесил шутовской поклон.
– Что это еще за хрен? – вполголоса спросил Деян.
Капитан скривился:
– Бард бродячий. Из тех, что ошиваются с маркитантами: вроде блох, только хуже… Этого хмыря вроде Выржеком звать. Не первый раз мне на глаза попадается!
Все вился вокруг и сюда увязался за Ритшофом, к Андрию пытался подобраться, а теперь вон твоими дружками занялся. Как пить дать, шпионит или для Бергича, или для Круга чародеев, волки их сожри: делать это их общество ничего полезного не делает, но суются господа колдуны всюду; и пока между собой собачатся, пакостят всем подряд помаленьку… Может, он и сам колдунишка мелкий, этот Выржек. Подвесить бы его за ноги и тряхнуть хорошенько – сразу бы все выложил! Жаль, повода нет. Ваш-то третий… – капитан взглянул вопросительно.
– Джеб Ригич, – подсказал Деян.
– А! Господин Джеб что в нем нашел?
Деян пожал плечами:
– Понятия не имею. Вообще он музыку любит, Рибен упоминал. А этот Выржек, ты сказал, бард. Может, поэтому…
– Может, – согласился капитан. – Бард он недурный.
Деян вздохнул украдкой о тех временах, когда для него, воспитанного на сказках матери и Сумасшедшей Вильмы, бродячий музыкант был бродячим музыкантом, фигурой безобидной и романтической, – и никем больше.
«Может, правда – колдун?» – Он заставил себя приглядеться к Джибандову собеседнику повнимательнее, всмотрелся в вытянутое, со скошенным подбородком и кривым горбатым носом лицо. Одет тот был не богато, но не бедно, лет ему могло быть чуть за тридцать, но могло и под пятьдесят. Эта неопределенность чем-то роднила его с Големом.
Деян поморщился. Бард – или не просто бард? Выржек определенно ему не нравился; но для Джибанда это вряд ли стало бы аргументом. Потому приходилось надеяться, что повзрослевший и набравшийся опыта великан сам сумеет не вляпаться в неприятности.
Капитан вдруг подался вперед:
– Вопрос за вопрос, а, Деян?
Деян кивнул, невольно чуть отодвинувшись в сторону. Что-то в голосе Альбута заставило его насторожиться.
– Марима болтает, ты вчера с ней назвался Хемризом.
– Марима… – как завороженный, повторил за Альбутом Деян. Мгновением позже он сообразил, что Марима, должно быть, настоящее имя «Цветы»; но остальное яснее не стало.
Капитан ждал.
– Ну да, было такое, – растерянно сказал Деян. – А что?
– Почему?
– Первое, что в голову пришло.
Капитан ждал.
– Я встречал в прошлом человека с таким прозвищем, – добавил Деян. «А еще у меня его нога», – но этого Альбуту знать точно не следовало. Хотя вряд ли бы он поверил.
– Что же это был за человек? – с деланным безразличием спросил капитан.
– Дрянь был человек. – Деян прямо взглянул Альбуту в глаза, рассудив, что, чем бы ни был вызван капитанский интерес, врать мало смысла. – Дезертир и убийца. Встреча, на мое счастье, у нас получилась короткая. Но запоминающаяся. Он с приятелями пришел с оружием в руках в дом, где я жил. Грабить, насиловать и убивать.
– И?..
«Почему же тогда ты до сих пор жив?» – читалось в капитанских глазах.
– Думаю, в конце концов Хемриз убил бы и меня, и мою подругу, даже и того парня, что привел его к нам. Но вернулся Рибен и пальцами проткнул ему череп. – Эту подробность Деян посчитал не лишней – на случай, если капитан задумывает выкинуть какую-нибудь глупость.
Но тот долго молчал о чем-то одному ему известном, а затем откинулся назад, заметно расслабившись.
– Понятно. Видно, так Господь рассудил, – с неожиданной хрипотцой в голосе сказал он. Прокашлялся, отхлебнул вина. – Какая жизнь, такой и конец. Повезло тебе, что твой чародей не лыком шит. Хемриз был парень лихой: замучились бы старухи ваши мертвых хоронить.
– Повезло, – признал Деян. – Только с чего ты взял, что мы об одном человеке говорим? Мало ли, кого еще люди так же прозвали.
Даже в маленькой Орыжи одно время жило сразу трое «Косых», а уж в «большом мире» мире тезок наверняка сыскалось бы пруд пруди, тогда как встретить среди огромного множества людей кого-то, кто знал бы того, кого знал ты, было невероятно и потому почти невозможно – так казалось Деяну.
Но капитан покачал головой, отметая возражения:
– Погоняло иноземное, так просто не придумаешь. Знали Хемриза здесь многие, а слыхали о нем – еще больше, и до тебя не сыскалось еще дурака себе его имечко присваивать, – сказал капитан без усмешки. Какое-то странное, горькое умиротворение теперь чувствовалось в выражении его лица. – Впрочем…
В десятке фраз он описал въевшуюся в память Деяна внешность покойника с поразительной точностью, упустив разве что дыры во лбу – что было простительно: ведь у живого Хемриза их не было.
– Ты прав, точно он, – признал Деян, подумав, что «большой мир» на поверку оказался не таким уж и большим.
– Да уж, новость… – Капитан махнул рукой, подзывая Мариму-«Цвету», и задумчиво посмотрел на Деяна. – Раз он у вас резню учинил, тебе за помин души выпить предлагать не буду. Но скажи… По-людски тело похоронили или волкам бросили?
– За оградой закопали, но священник наш, добрый человек, отходную за всех прочитал. Хотя родне наших покойников это не больно-то понравилось, – сказал Деян.
«И мне тоже: пока Терош соблюдал обряд, вся Орыжь на меня таращилась и на труп этот одноногий со лбом пробитым…»
– Не пойми неправильно: я его не оправдываю. – Капитан щедро плеснул себе из принесенной Цветой бутылки и удержал девушку за локоть. – Давай со мной, Марима. Чтоб по обычаю, не одному. Тут весточка прилетела: Берама Горбатая нашла, – пояснил он в ответ на ее удивленный взгляд.
– А-а, – протянула она. – Ну давай. – Она кивнула капитану, но садиться не стала, а оглянулась на дверь, ведущую на кухню. – Погоди чуть: доделаю дело и вернусь.
– Я тебя понимаю, – сказал Деян, когда она ушла. «Кенек Пабал был моим другом», – крутилось в голове. – Сожалеть о смерти… по-настоящему Хемриза Берамом звали?
– Берамом Шантрумом.
– Сожалеть мне не с руки: я, уж прости, рад его смерти. Но выпить с вами по обычаю, раз так положено, – почему бы и нет? – закончил Деян, удивляясь сам себе. Почему-то он не чувствовал сейчас ненависти к мертвому убийце: злость отгорела, страх забылся. Осталось только щекочущее чувство какой-то неясной связи, родства, вчера толкнувшее его назваться тем же прозвищем, а сегодня его рукой подтолкнувшее к капитану Альбуту кружку.
Капитана он понимал хорошо, куда лучше, чем хотел.
«Если бы я тогда решился… если бы Голем тогда убил и Кена, что бы сейчас было?» – эта мысль по ночам часто возвращалась к нему и зудела, как клоповый укус, не давая заснуть. На душе было бы спокойнее, но…
«Ты так же ворочался бы по ночам, сожалея уже не о бездействии, но об убийстве», – подумал Деян.
– Твой Хемриз вернулся не один, капитан, – сказал он. – Его привел наш земляк, которого я прежде звал другом. На него ни у кого из нас рука не поднялась: посадили под замок, но оставили жить… Вот я все думаю – зря или нет?
Капитан пожевал губу.
– Я бы сказал, зря. Опрометчиво. Но раз он, – капитан указал взглядом на лестницу наверх, в комнаты, где спал одурманенный лекарствами Харраны чародей, – вам разрешил, то, наверное, ничего страшного.
«Надо же!» – Деян недоверчиво покачал головой. В словах капитана звучало совершенно искреннее почтение к Голему. Это было полезно для дела, но немного пугало.
Деян пододвинулся на скамье, освобождая место вовремя вернувшейся Мариме-«Цвете». Хотя бы к ней у него никаких вопросов не было. Как не было больше и влечения: после ночи осталась лишь легкая приязнь, как к неблизкой, но доброй знакомой; и она вела себя с ним так же – по-видимому, чувствуя то же самое.
Похожим образом она держалась и с капитаном, хотя их знакомство явно было намного более давним.
– Берам умер, значит… Ну, земля ему пухом. – Она отхлебнула крепкой и очень горькой выпивки, закашлялась. – Тяжелый он был человек. Раз, помню, чуть с пьяных глаз шею мне не свернул: то ли злость на весь свет разобрала, то ли померещилось ему чего. А другой раз головорезы заезжие меня на улице зажали – так он мимо шел, увидел и встрял, двоих уложил и третьего покалечил, меня, считай, спас. И даже погулять тут в благодарность на дармовщину отказался. Тяжелый был человек, лихой: пусть грехи ему простятся, добро зачтется. – Она хлебнула еще и посмотрела на Альбута. – Что ж за дрянное пойло, прости Господи! Берамово любимое, да? И как только вы его хлестали постоянно!
Капитан хмыкнул.
– Молодые были и бедные. А Берам хорошее пойло от плохого всегда отличал по тому, как скоро оно валит его с ног: быстро – значит, хорошее!
Марима ответила непристойной шуткой; Альбут стал рассказывать, как Берам-«Хемриз» давным-давно в какой-то военной заварушке освободился сам из плена и вывел десятерых товарищей; потом снова заговорила Марима. Она то и дело искоса поглядывала на Деяна, по-видимому, гадая, какое отношение он имеет к покойному Бераму и к тому, как тот покойным стал. Но ни о чем не спрашивала.
Деян вытянул под столом ногу, которая после дневной ходьбы все еще ныла, и осторожно пригубил настойку: дрянь в самом деле была редкостная, даже мерзче давешнего чародейского пойла.
Слушать о том, что подонок и убийца когда-то кого-то спас, кому-то помог, было странно. Мариме вспомнить о Бераме-«Хемризе» что-то хорошее стоило недюжинных усилий – но то, что рассказывала, она не выдумывала, и припомнить побольше она старалась искренне: Берам был для нее плохим человеком – но человеком, а не волком, явившимся резать овец... И, к счастью для тех овец, попавшийся на зуб – на три пальца – к захожему шатуну, которому достало благородства за овец вступиться.
«Пес его поймет, колдуна чудного. – Деян подумал о Големе и поежился, снова со стыдом вспомнив свою недавнюю ярость. С самой Орыжи чародей прощал ему много такого, за что люди вроде Берама убили бы, не задумываясь, кого угодно, хоть родного брата. – Надо будет с ним объясниться. Извиниться как-то, что ли».
– VIII –
Странные поминки продолжались. Марима-«Цвета» отошла пошептаться со вставшим за стойку Лэшем, но вскоре снова вернулась за стол. От крепкой настойки Альбут заметно захмелел:
– А ведь по правде дрянь одна все это, Марима. Дрянь, дерьмо собачье! – заявил он вдруг. – И пойло это, и забегаловка ваша, уж прости, и город этот – выгребная яма.
– Да уж не поспоришь, – со смешком отозвалась девушка. Деяну вспомнилось, с какой ненавистью говорила она о городе ночью. – Ну, будет, Ранко: не расходись, ты пьян.
– И мы сами не лучше: дрянь, черви, – с горечью продолжал он, не слушая. – Потому в срани такой и живем: Господь справедлив, воздает по заслугам. И за глупость, и за сговор с еретиками – вдвойне; их же руками вам отсыплет. Зря ты своего дурня, – он бросил короткий взгляд на стойку, где стоял Лэшворт, – не убедила уехать, помяни мое слово: зря.
– Видно будет, – пожала плечами она. – Ты вон тут сидишь, а Берам бежал. И где теперь Берам? Срезали под корешок: только запашок и остался, – переиначила она какую-то местную поговорку, чем заставила капитана заскрежетать зубами.
В разговоре наступила долгая неуютная пауза. Деян подумал, что лучшей возможности разузнать что-нибудь не представится; но по-простому, в лоб, спросить капитана: «Кем он тебе приходился?» – показалось неловко, да и тот ни разу прямо не обмолвился, что был хорошо знаком с покойным.
– Ранко, а почему «Хемриз»? – вместо этого спросил Деян. – Я слышал, это вроде как «резчик». Чудное для солдата прозвище.
Две пары глаз тотчас уставились на него; Цвета посмотрела осуждающе и тотчас отвернулась к Альбуту. А тот…
Тот смотрел странно и недобро.
– Если вопрос неуместный, извини, – быстро сказал Деян. – Просто… интересно.
– Слыхал сказку о трех братьях? Первый был сильный, второй – храбрый, а третий – дурак. – Капитан Альбут усмехнулся беззлобно, но как-то неприятно. – И жили они коротко ли, долго ли, но нескучно, а кое-в чем даже и счастливо.
– Слыхал, – коротко ответил Деян. Таких сказок он знал множество, но в тех, что ему нравились, старшие братья не погибали на бессмысленной войне за сотни верст от дома…
– Все слыхали: у каждого когда-то мамка была, – со вздохом сказал капитан. – Даже у Берама, хоть и таскала его за пятку вверх тормашками и называла паршивым крысенышем. Он и был как крысеныш: мелкий, юркий, злобный, отчаянный – и вырос в отличного бойца. – Капитан сжал кулак. – Среди новобранцев Второго Горьевского стрелкового полка было трое побратимов из одной деревеньки родом, и Берам Шантрум среди этих троих шел за «Храброго». Жошаб Гурниш звался «Силачом». А третий, что с ними был… – капитан ухмыльнулся, – третий был дурак-дураком, без особых способностей. Но такой же бешеный ублюдок, как Берам и Жош.
По тому, с каким вниманием прислушивалась Цвета, несложно было догадаться: она тоже слышит эту историю впервые.
– Держались они друг за друга крепко: дружки их «горьевскими братьями» прозвали, по названию, значит, полка, – продолжил капитан. – Слава за ними шла лихая. За три неполных года – по несколько медалей наградных у каждого, но и взысканий – по два листа; Берама из сержантов дважды разжаловали. И секли их, и под арест сажали, и вешать собирались – но выпускали скоро… В ту пору у командиров спрос был на бешеных не тот, что сейчас. Война была другая. Все было другое! А сейчас к гадалке не ходи: или Бергич бабу королевскую отымел, или самому Вимилу на брильянты бабенке новой монет в казне не хватило – за то и режем с бергичевцами друг друга: за бабьи юбки да королевские слюни; как подумаешь, противно делается. – Капитан шумно отхлебнул, утер рукавом усы. – А тогда – другое дело… У нас с хавбагами старый спор – еще дед мой, земля пухом, рассказывал, как задавали жару поганцам; то мы к ним лезли, то они к нам – тесно нам под одним небом; и хлеб на их островах каменных растет, говорят, скверно. В землю нашу зубами вгрызались! Бойцы знатные, с бергичевцами никакого сравнения нет. И непоняток прежде не было: они бьются насмерть, мы бьемся насмерть, чего ж тут не понимать. Уважение даже между нами было, несмотря на то, что еретики они и безбожники. Год война шла, на год стихала, и опять… Горьевский полк без дела не сидел, а с ним и «братья». Но потом пошли в штабе бабьи разговоры: про милосердие, про перемирие… Дескать, хватит друг дружку резать, пора разойтись по хорошему; и это после всего! – Капитан ударил кулаком по столу. – Но приказ от самого Вимила шел, так сказали. Велено было крови зазря не лить и, значит, показать готовность к миру. Чтоб переговоры сподручнее вести было. Командиры, чтоб, мать их, «показать готовность», придумали обмен пленными устроить. Приказ есть приказ: хочешь не хочешь, а надо выполнять… Но бывалый солдат в дурном приказе всегда лазейку найдет. – Он осклабился зло и страшно. – Батальон, где братья служили, незадолго до того госпиталь захватил, в старой каменной усадьбе устроенный. Видно, при отступлении раненых вывезти хавбаги не смогли, да так и бросили. Но дрались недобитки, как сущие бесы! Сжечь надо было всю усадьбу, но там и наши люди оказаться могли – противник тоже к перемирию готовился… Не стали жечь, взяли штурмом; пять дюжин штыков потеряли! Лекарь, который там всем заправлял, хорошо оборону устроил – даром что одни бабы в помощниках и тяжелораненые. И вот их-то всех – кого не убили сразу – генералы горьевцам и приказали под обмен выпустить; им-то плевать, сколько хороших ребят полегло, пока госпиталь этот клятый брали! Но лейтенант с сержантом, земля им пухом – оба они погибли скоро, – не случайно братьев в охрану поставили и в другую сторону смотрели. Берам после штурма с перебитой рукой ходил, злой, как сам Владыка, – а тут еще такие дела! Ну, он и придумал, как со всеми поквитаться: калечить пленных запрещено было, но царапнуть ножом – это ж разве калечить? Раненых трогать не стал, проявил, мать его, «милосердие», но обоим лекарям выжившим и сестрам-помощницам вырезал на лбу по амблигону и заявил прилюдно, дескать, что это – не в наказание, а наоборот. В знак нашей благодарности и для их же безопасности: чтоб в следующий раз отличить их среди других и не убить нечаянно. Побратимам и остальным ребятам из караула шутка страсть как понравилась. – Капитан снова прервался ненадолго, чтобы промочить глотку.
– Закончив дело, Берам к остальным пленным пошел и там слух пустил, что, врачеватели и сестры по отметине получили за сотрудничество с дарвенцами, – продолжил он. – Слушок на благодатную почву упал: их лекари в самом деле кое-кого из наших раненных перед тем залатали, под угрозой расправы, но все же. Так что хавбагские солдаты Бераму поверили, тем паче врать он был мастак. Полковник обо всем узнал, конечно, еще до обмена, но что ему было делать? На вопросы хавбагского командира он только плечами пожал: не знаю, мол, что и откуда. Берам с побратимами рытьем выгребных ям отделался, ну и прозвище получил на всю жизнь. Первым его «Хемризом» хавбагский лекарь обозвал, пока Берам на его глазах сестричкам лбы разукрашивал: все хваленое достоинство и выдержку растерял, Хранителями клялся отыскать и убить, а Берам, понятно, только посмеивался… Тот хоть и громила был, и колдун сильный – связали его заговоренной веревкой против колдовства и держали вчетвером, так что только слюной брызгать бедолага и мог. А горьевцы, глядя на то, со смеху покатывались; рассказы по всему полку разошлись. Потом перемирие подписали, время прошло, и таким уж забавным это все перестало казаться, приелось. А погоняло за Берамом осталось. И лучше его в этих краях не поминать зазря: хотя всей истории люди непричастные нынче не помнят уже, Горьевский полк тут, бывало, неподалеку подолгу стоял, и Берам многим запомнился… по-всякому.
«Да понял я, понял». – Отчего-то Деяну совсем не хотелось смотреть на капитана и не хотелось, чтобы тот говорил дальше. Но Альбут продолжал сухо и по-деловому, будто делал доклад. Насколько очевидно было то, что говорит он о себе, настолько и то, что не стоит мешать ему в этой маленькой хитрости.
– Полковник все надеялся отметить братьев, но Берам по службе так и не продвинулся: слишком много чудил и Жошаба-Силача подбивал на выходки. Зато младшему, дураку, повезло: кто-то посчитал, что он достаточно туп, чтобы правильно салютовать генералам и без запинки отдавать приказы, и направил его за казенный счет в офицерское училище… Через два года вернулся он в полк лейтенантом, братья воссоединились, но прежней дружбы между ними уже не было. Вскоре все для них пошло наперекосяк. Ушел Силач, дезертировал: моча в голову ударила – сбежал к лесной ведьме, с которой снюхался, когда по деревням провиант собирать ходил… Недалече отсюда дело было, всего-то несколько дней пути, но чтоб его прокурорские поймали – не слыхал. А жив он или помер – не имею понятия, но думается отчего-то, что помер, и давно...
Деян от души хлебнул из кружки, пытаясь заглушить неприятное чувство, что, в отличие от капитана, наверняка знает, что случилось со вторым «братом» и под стеной какой лесной хижины лежат его кости; но поминать двух негодяев в один день было бы уже слишком.
– Младший, лейтенант-дурак, еще прежде о переводе на должность при епархии попросил: связи у него подходящие были, – говорил тем временем капитан. – А Берам потихоньку стал сдавать. Поначалу еще ничего, но как Бергичевский бунт разгорелся, как отступать стали, как слухи пошли… Струсил Храбрец. – Капитан замолчал, ожидая, по-видимому, вопроса, но, не дождавшись, продолжил сам. – Лекарям и сестрам, которых Берам с побратимами разукрасили, у своих несладко пришлось; их командиры не умнее наших были. Оправданиям не поверили и знак чужой веры на лбу посчитать подлой раной отказались. Казнить – не казнили: у хавбагов странные обычаи… От них потребовали или отречься от своего народа и не возвращаться больше на родину, или признать вину перед Хранителями и всем миром: понести наказание и дать клятву, что более предательство не повторится. Но ложное покаяние, ложная клятва – для честного хавбага это хуже смерти. До братьев доходили слухи, что все жертвы выбрали изгнание; их проводили молчанием и вычеркнули из родовых книг. Оказалось, однако, иначе. Тот лекаришка, что в госпитальной палатке клялся Берама однажды разыскать и прикончить, посчитал, что та клятва дороже всех других. «Марагар», то есть «меченый роком» – так его теперь между собой хавбаги зовут. – Лицо капитана исказила гримаса отвращения и ненависти; но страха в ней не было ни толики. – Он принес покаяние. И после того, как отбыл срок в заключении на Островах, вернулся сюда, на материк, вступил в один из наемных хавбагских отрядов и сделал там карьеру. И сейчас он во всей их наемной армии – первый лекарь… И своих пользует, но больше – пленных. Вот ты, дура, думаешь, небось – раз лекарем называется, так и вправду лечит! – Капитан отчего-то зло уставился на Цвету. – Милосердие! Как бы не так. Одного из ста, может, и лечат для виду, пока остальные на голой земле лежат, никому не нужные, – и это им еще свезло, коли так. Лекари у хавбагов – первые мастера допросы вести: пытать Хранители им не велят, так можно ж залечить до того, что мать родную не узнаешь – и это вроде как не в счет. А колдунам в таких «лечениях» свой интерес. В узел людей завязывают, из двух одного лепят, да так, чтоб и баба, и мужик вышел – якобы лекарскую науку так изучают. Черное колдовство, жуткое. Даже среди еретиков мало охотников до такой службы. Марагар, знающие люди говорят, истязатель шибко одаренный. Даже сами хавбаги его побаиваются… Слухи о нем по всей армии ходят; дошли в свое время и до Берама. Дураки думают, Марагар делом таким занялся, потому как выбора не было – для меченого, для предателя работа такая в самый раз. И диву даются – почему он теперь, когда имя и положение себе сделал, на родину не вернется и нормально жизнью не заживет. Ха! Горьевские – все, кто дюжину лет тому назад, в палатке был – вот те взаправду знают, отчего он службу такую себе выбрал и отчего оставить ее не желает. Знают, по чьи души он здесь сеть закинул и ждет, когда рыбки попадутся. Берам-Храбрец как прознал, что с бергичевцами хавбагские наемники на нас идут, а с хавбагами – Марагар, стал сам не свой. Пробрал его страх и с ума свел: на том и кончился храбрец. – Капитан покачал головой. – Последнее соображение потерял и совесть; потом писарь полковой мне рассказал, что подбил Берам мальчишек каких-то на мятеж, офицера своего зарезал и был таков… Но, как сегодня выяснилось, и того ему мало оказалось: разбоем занялся. И кончил в собачьей яме за оградой, мир праху его. – Альбут, ни на кого не взглянув, одним глотком осушил стакан и уставился в стол.
– Да уж, история, – пробормотала Марима.
– Не он первый, не он последний, кого страх ума лишил. У многих горьевцев-ветеранов, кто еще жив и воюет, сейчас поджилки трясутся. Прошлое рано или поздно нагоняет всех. – Капитан продолжал говорить с пьяным остервенением, и в его голосе по-прежнему не слышалась страха – лишь горечь и гнев, и, может быть, толика жалости к самому себе. – Младшего дурака оно догнало и того раньше: потому он службу сменил и обо всех новостях из третьих рук узнавал… Еще прежде, в училище поднабравшись ума, он прошлыми делами гордиться перестал, да только что с того? Сделанного не воротишь. И однажды он встретил женщину… – Голос его дрогнул. – Необычайной красоты женщину, пусть и одевалась та чудно. По дороге со службы на зимнюю квартиру случилось ему разнимать жестокую драку; двое солдат были легко ранены и один серьезно. Раненый угрожал истечь кровью, и чтобы не терять времени, дурак приказал отнести беднягу в ближайший дом, где, как шепнули ему, жила чужеземка без лекарской лицензии – но очень сведущая… Дурак увидел ее и влюбился, как… как дурак. Она без охоты принимала его, но не гнала. Счастья у них не случилось; не любовь – одно мучение. Даже жениться, как положено, дурак не смог: канцелярия без священнического одобрения, хоть бы и от жрецов-еретиков, супружество не регистрирует. Долго дурак упрашивал, но чужеземка истинного Господа не пожелала принять. Он бы сам на грех пошел – Господь милостив! – но единоверцы подруги его тоже не пожелали благословить брака, поскольку от веры и народа своего она была отлучена… Будь между ними какой-никакой законный брак, люди бы не смотрели косо; лицензию ей, может статься, удалось бы выбить, жалованье бы можно без помех пересылать; да хоть вдовья премия ей перепала бы, когда дурак голову сложит… А так – грех один да неудобства. Ни счастья между ними не случилось, ни хоть чего хорошего: но отчего-то не разошлись. Так и живут, мучат себя и друг друга, по сей день. И я там был, с дураком брагу пил… – Капитан отхлебнул из споро наполненного Цветой стакана, поморщился, утер усы. – Дрянь все-таки пойло. И сказка моя – дрянь. Не про трех братьев она: про трех дураков и трех подонков. Да, Марима?
Побледневшая девушка во все глаза смотрела на дверь, в которую всего пару часов назад вышла Харрана, и Деян с обжигающей ясностью понял, что знает, отчего той приходится так низко повязывать платок на лоб.
– IX –
– Господь Всемогущий, Ранко… – Марима-«Цвета» перевела взгляд на капитана. На глазах у нее выступили слезы, но за ними плескался страх, и вряд ли зверства прошлого были тому причины.
Не пожалеет ли утром Альбут о своей пьяной откровенности и не избавится ли от свидетелей единственным доступным и надежным способом – вот что пугало ее; и это опасение вряд ли можно было поставить ей в вину.
– Марима, глупая твоя голова, – хмыкнул капитан; ее нехитрые страхи были ему очевидны. – Нешто я зверь? Ну, положим, так, зверь я и есть; но зверь прирученный. Кормящую руку не кусаю. Разве я хоть раз тебе дурное сделал?
– Нет, – прошептала Марима. – Но это… это…
Рука ее, сжавшая стакан, задрожала. Одним глотком она допила его; надсадно закашлялась.
– Эх ты! – Капитан раздосадовано покачал головой. – Я в здравом уме, хоть и пьян. Не начнешь направо-налево болтать – бояться меня нечего… А если и начнешь – все одно нечего. Не тебе меня бояться.
– Она знает? – тихо спросил Деян, кивнув на дверь. Услышанное мало касалось его – и все же легло на душу тяжелым камнем.
– Нет, – ответил капитан и сразу же поправил сам себя, – надеюсь, нет… Но иногда… Она говорит иногда о мести, о том, как поквиталась бы с негодяями, представься ей такой случай. Когда полк еще стоял неподалеку, мне стоило немалого труда устроить так, чтобы они никогда не сталкивались с Берамом. Пришлось кое-кого подкупить, чтобы его лишали увольнительных; Берам прознал об этом: на том и кончились остатки нашей дружбы… Иногда мне кажется – она все знает. Но тогда я не сидел бы сейчас с вами. Она не может знать, нет! Я много раз сам хотел ей сказать. И раньше, и сегодня хотел… Подумал, вдруг все-таки уедет. Но не смог и рта раскрыть. – Такая неподдельная боль звучала в голосе капитана, что Деяна передернуло. – Увечных и болящих своих она любит; среди ночи пойдет, если позовут. А я ей – что я? Надоел давно, скуку скрасить – и то не гожусь. Право слово, хоть руку себе отстреливай! – Капитан засмеялся злым сухим смехом. Несколько выпивох из-за дальнего стола обернулись в его сторону; он показал им кулак. – Ну да что уж теперь. Поздно.
– Ты все это рассказываешь… Как будто прощаешься, – нетвердым голосом сказала Марима. Кровь вновь прилила к ее лицу, на пухлых щеках от выпитого горел багровый румянец.
– Как знать. – Капитан равнодушно пожал плечами. – Берам мертв. Жошаб исчез: наверняка еще раньше в землю лег. Я последний остался небо коптить. Господь когда захочет, тогда и приберет.
– Да ну тебя! Ты это брось. Настроения такие. Нельзя так, Ранко. – Марима, позабыв свой страх, подалась вперед. – Берам сложный человек был. И ты непрост. Но мне ты друг… Друг ведь? Друг. Чего тебе погибать? Жить надо!
– Ладно, ладно, уговорила! – засмеялся Альбут. Глаза его оставались как камень, – холодные, неживые, – но Марима была слишком пьяна, чтобы это заметить, и довольно улыбнулась в ответ, а затем перегнулась через стол и поцеловала капитана в небритую щеку.
– Ну вот! Другое дело!
Лэшворт из-за стойки поглядывал в их сторону с недовольством, в котором легко угадывалась ревность. Деян невольно присвистнул: похоже, Марима не только прислуживала в зале и в постелях важных постояльцев, но и была хозяину любовницей, а Ранко Альбут к важным постояльцем не относился и, в отличие от них, не исчезал через день-два навсегда, а часто возвращался в город. Такая интрижка была хозяину обидна.