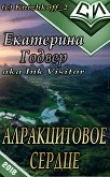Текст книги "Алракцитовое сердце. Том II (СИ)"
Автор книги: Екатерина Годвер
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Харнум намного больше, чем Нелов, напоминал настоящий город, каким Деян его представлял: в нем были большие дома и широкие мощенные камнем улицы, по которым лошади тянули хрупкие двухколесные повозки; от сточных канав не так разило нечистотами и тухлой рыбой. От войны город почти не пострадал – быть может, потому, что едва ли не с самого развала Нарьяжской империи он постоянно переходил из рук в руки и в недалеком прошлом, полвека назад, уже принадлежал Бергичам: у многих – поговаривали, и у самого барона – в Ханруме жили знакомцы или родня. Броджеб упоминал, что при наступлении только в самом центре сожгли несколько лавок. Невнимательному и неискушенному наблюдателю могло показаться, что все в городе хорошо, но лица и вид прохожих быстро развеивали иллюзию благополучия.
Город заполнили беженцы из разоренных и разрушенных сел, ищущие пропитание и хоть какой заработок. Но работы для них не было – и потому они промышляли разбоем и грабежами. Гарнизон бергичевцев в Харнуме был невелик, потому по приказу коменданта города порядок поддерживали наспех сформированные отряды из числа добровольцев и бывших дарвенских солдат и офицеров, согласившихся перейти под синие знамена барона. Но, как неохотно признавал лейтенант Броджеб, были отряды эти ненамного лучше бандитов, а то и хуже, потому как творили все, что им вздумается. В серьезные стычки они не ввязывались – зато охотно обирали лавочников, кабатчиков и просто всех, кто казался подходящей добычей или попадался под руку: комендант города в добровольных помощниках нуждался и на такие происшествия смотрел сквозь пальцы. Дядя Броджеба, пожилой аптекарь – его звали Михалом Робичем, – в городе был человеком уважаемым; знали и про то, кто его племянник, потому аптекарский дом и лавку не трогали; но другим доставалось сполна. Кому от «защитников», кому от наводнившей город голытьбы, а кому и от людей барона, которые, когда принимались все-таки сами наводить порядок, не разбирались – кто прав, кто виноват. Среди бела дня на людной улице человека могли зарезать за хорошую одежду, могли принять за грабителя и забить до смерти, могли без суда отправить на виселицу как шпиона; горожанами владели подозрительность и страх, беженцами – гнев и отчаяние, и всех без разбору мучила неопределенность будущего. От недоедания и постоянного напряжения в ожидании беды в человеческих лицах проступало что-то звериное.
Такова после прихода бергичевцев стала повседневная жизнь Ханрума, и многие уже свыклись с ней. Для тех, кто имел верный кусок хлеба, не так уж она казалась и страшна: пусть могло произойти все, что угодно, – но чаще всего ничего не происходило. Броджеба все это больше расстраивало, чем страшило.
– Зряшная война, – сказал он вечером за ужином. – Одни беды от нее.
В аптекарской гостиной было тепло и уютно. Трещал камин, отмеряли время напольные часы с начищенными медными гирями и спрятанной внутри механической куклой: каждый час дверцы открывались и показывался человек, кивавший головой в красном колпаке с крохотными бубенцами. Хрупкая, покрытая цветной глазурью посуда с непривычки тоже казалась Деяну игрушечной.
Аптекарь, худосочный мужчина с густой сединой в рыжеватой бородке, был радушным хозяином: наверняка незваные гости – лишние рты, к тому же нуждавшиеся в лечении, – тяготили его, однако он ни разу не дал им этого понять. За столом рядом с хозяином сидела Арина, его дочь – немногословная девушка лет восемнадцати, исключительно приятной наружности, но с неженской суровостью и холодом в небесно-голубых глазах.
– Так почему же воюешь, брат? – Недобрый взгляд ее обратился к Броджебу, и тот потемнел лицом.
– Не мы это начали, – буркнул он, не глядя на двоюродную сестру. – Но мы закончим.
Девушка собиралась что-то ответить, но тут аптекарь ударил кулаком по столу так, что зазвенели тарелки:
– Замолчите! Оба! Сколько раз повторять: я запрещаю вести такие разговоры под моей крышей, – добавил он уже спокойнее. – Хотите ссориться – идите за порог.
Арина недовольно поджала губы; Броджеб пробормотал извинения. Аптекарь, чтобы переменить тему, заговорил о цене на соль; капли выступившего пота блестели на его лысине. Он не злился, но боялся – боялся последствий нечаянной ссоры, боялся разрушить правдами и неправдами сбереженный игрушечный уют; быть может, даже побаивался любимого племянника – тот, облаченный в синий лейтенантский мундир, был в любом доме Ханрума полновластным хозяином и сам мог, если бы только пожелал, выгнать дядю за порог. По счастью, Броджеб был далек подобных мыслей: напротив, двусмысленное положение явно смущало его.
Ужин за пустым разговором тянулся долго; в конце концов Деян, измотанный прогулкой на костылях, задремал над тарелкой, а очнувшись, не сразу понял, где находится; такое после пробуждения в госпитальной палатке случалось с ним нередко. Но мгновением позже память, конечно, вернулась; хоть он о том и не просил, она всегда возвращалась. Кукла из часов кивала головой и звенела бубенцами: время шло вперед…
– VI –
Иногда вечерами к аптекарю приходили гости: у него было немало друзей, самых разных – от бывшего секретаря мэра, теперь служащего в бергичевской комендатуре, до простого работяги-каменщика, восстанавливавшего разрушенные дома в центре Харнума; в такие дни разговоры в гостиной тянулись часами. Сперва Деян при посторонних избегал показываться на виду, но вскоре по настоянию хозяина стал брать костыли и выходить вместе со всеми к столу.
– Да знаю я, что вы никакие Алеку не сослуживцы! – сердито заявил ему аптекарь на следующий день после того, как они с Петером снова до ночи отсиживались в комнате. – Не слепой! Но пускай вы двое дарвенские солдаты, нет нужды скрываться: никто под моей крышей против вас ничего не имеет.
– Я не солдат, – возразил ему Деян; не из намерения переубедить – скорее по привычке.
Но аптекарь оставил его слова без внимания.
– Алек обмолвился, за вас просил сам хавбагский Мясник. Это правда? – спросил он.
– Он не мясник, а лекарь. – Деян почувствовал, что начинает злиться.
– Ладно, ладно! – отмахнулся аптекарь. – Пусть он не мясник, а ты не солдат. Мне не нужны ваши тайны. Но и проблемы из-за вас не нужны. У нас здесь есть поговорка, – добавил он, заметив, что Деян смотрит на него с удивлением. – «Хочешь сберечь сундук – поставь его на виду». Если не будете прятаться – никто и не подумает, что у вас на то есть причины, а скрытность уже вызывает нежелательные вопросы… У тебя же ноги нет, а не языка! А Петер так и вовсе здоров. Пока вы здесь – вы друзья Алека, так что ведите себя соответственно!
Деяну его настойчивость казалась глупой, но в аптекарском доме и вообще в Харнуме были иные, чем в Медвежьем Спокоище, нравы, о которых они с Петером ничего не знали. Хочешь не хочешь, а указаниям хозяина приходилось подчиняться.
Петер куда больше времени провел среди людей в «большом мире», но за столом помалкивал, а когда к нему обращались – отвечал односложно или бурчал что-нибудь неразборчиво. В обществе он казался сам себе неотесанным и неуклюжим и от того себя стеснялся – тогда как Деян, к собственному удивлению, легко переборол неловкость. Он взял за правило всегда прямо смотреть собеседнику в глаза, как делал Альбут, и обнаружил, что люди не выдерживают его взгляда. На расспросы он обычно отвечал уклончиво, предоставляя любопытным возможность самим додумывать, что пожелают.
– А расскажи по секрету, друг: в каком полку лямку тянул на самом деле? – спросил однажды вечером крепко выпивший Милош Собрен, когда Деян вышел проводить его на крыльцо. – Понимаю, тайна… А все-таки страсть как интересно!
Милош – круглолицый и тучный мужчина в летах, страдающий одышкой, – был отставным военным лекарем-хирургом, осматривал прежде его культю и знал больше, чем кто бы то ни было другой, за исключением аптекаря и Броджеба.
– Не состоял на службе и двух дней, – сказал Деян, что было чистой правдой.
– Да будет тебе брехать-то! – пьяно прикрикнул на него Милош. – Так в каком?
– В Горьевском, – ответил Деян, беспокоясь, как бы обиженный лекарь не расшумелся; но теперь тот рассмеялся, будто услышал хорошую шутку.
– Ох-хо, ну ты, друг, дал маху! – Милош утер раскрасневшееся лицо. – Горьевцы, они как один, бешеные… каждому известно. Ври, да не завирайся: не умно это. Скрытник ты. Ну и Владыка с тобой, не хочешь – не говори… – Он махнул рукой и, пошатываясь, побрел по улице.
– Так, может, я тоже бешеный, – мрачно сказал Деян, глядя ему вслед. – Думаешь, нет?
Не первый раз его принимали за кого-то другого, но сейчас он задумался о том, что и сам не знает, кем теперь себя считать. Больше он не был тем, кем был раньше. Возможно, Милош и остальные в своих подозрениях подходили ближе к истине, чем ему казалось…
– VII –
Милош Сорбен играл в жизни аптекарского дома и, как следствие, в жизни Деяна немалую роль. Отставной лекарь служил ему частым собеседником, сделал эскиз для плотника, чтобы тот изготовил подходящий протез. А в час, когда будущее уже казалось ясным, именно Милошу, по злой шутке Небес, суждено было стать глашатаем новой беды.
Лейтенант Броджеб, у которого закончился отпуск по ранению, накануне уехал, но спустя несколько дней должен был вернуться – и, получив дозволение, отправиться, наконец, в Медвежье Спокоище. Деян уже мысленно попрощался с Ханрумом и его жителями, когда поздним вечером в гостиную, не сняв мокрого пальто, ввалился раскрасневшийся и задыхающийся Милош и объявил:
– Господа, худо дело… Я только от Румнера, – по-свойски назвал он городского коменданта. – Он сам меня вызвал… на нас идет мор! Косит людей тысячами.
– Ты уверен? – с неестественным спокойствием уточнил аптекарь.
– В Радее уже карантин, дороги на запад перекрыты. – Милош плюхнулся в кресло. –Ставлю месячное жалованье – у нас начнется со дня на день. А все Бергич, будь он проклят! Завезли его дикари заморскую заразу…
На всю жизнь Деян ясно запомнил это чувство: еще ничего не случилось, до ночи люди все так же мирно сидели, пили кисловатый эль, продолжали обычные разговоры – но все уже было предрешено, и каждый за столом в тот вечер сознавал это со всей ясностью.
– VIII –
Проклятий в последующие дни звучало множество, и на кого они только не были направлены: на барона и его солдат, на коменданта, на беженцев, на лекарей, на немногочисленных иноземцев, живших в Ханруме, – ходили слухи, будто бы те травят колодцы. Пока одни стремились бежать, другие пытались не допустить за городские стены заразу, но и те, и другие претерпели неудачу; несмотря на закрытые ворота, на третий день после сообщения Милоша мор пришел в город. Болезнь, не имевшую известного названия, ханрумцы между собой называли «крученой» или «трясучкой». Она начиналась несильной лихорадкой, нараставшей со временем, в поздних стадиях сопровождавшейся помутнением сознания и сильными судорогами и чаще всего оканчивавшейся смертью; выздоравливали немногие.
Сам Милош Сорбен, со свойственной ему добросовестностью искавший способ помочь больным, но не отличавшийся сильным здоровьем, вскоре слег и, недолго промучившись, скончался. Отставного лекаря похоронили со всеми положенными обрядами и почестями, но еще через десять дней тела умерших можно было увидеть прямо на улицах – погребальные команды поредели и не справлялись больше.
Всего «крученая» опустошала Ханрум сорок семь дней, окончательно отступив лишь с приходом суровых холодов и забрав жизни почти половины жителей города.
Броджеб так и не вернулся; почта больше не ходила, потому никто не знал, что с ним. Аптекарь, верный своим убеждениям, не прекратил работы и каждый день видел множество больных, но мор до поры до времени щадил его. Первыми в доме заболели пожилая кухарка и ее муж, помогавший по хозяйству; вскоре они скончались. Следующим заболевшим стал Петер – однако у него болезнь протекала легче, чем у слуг; стараниями аптекаря и Арины он, пролежав в беспамятстве два дня, пошел на поправку. Но на том удача хозяина дома закончилась.
Заразившись, аптекарь долго скрывал лихорадку: первый судорожный приступ свалил его на улице. Деян и Арина – единственная, кого, в конечном счете, болезнь обошла стороной – вместе отыскали его и довели до дома. Но большего они сделать не могли. Арина пробовала давать отцу лекарства, которыми тот лечил Петера, однако толку от них было чуть. Аптекарь умирал долго и тяжело; он был еще жив, когда Деян, проснувшись среди ночи, понял – настал его черед. Утром без страха, с каким-то брезгливым отвращением к самому себе он взял костыли и в последний раз вышел на полные смерти улицы, чтобы раздобыть каких-нибудь продуктов: запасы в аптекарском погребе, он знал, подходили к концу, а Петер был еще слаб и с трудом вставал.
Удивительно, но, несмотря ни на что, город продолжал жить: работали некоторые лавки, куда-то спешили прохожие, обходя мертвецов и зажимая носы. Почти исчезли с улиц бергичевские солдаты – говорили, в казармах уже перемерли едва ли не все, а в точности никто не знал, да и не хотел знать; еще говорили – мор отступает, но про это судить было невозможно.
У сына пекаря, сменившего за прилавком умершего отца, Деян выторговал за тройную цену мешок муки, который едва сумел дотащить до дома. Без аппетита он проглотил несколько ложек супа, сваренного накануне Ариной, и лег в постель. Его трясло от озноба.
– Теперь ты?.. – спросил Петер, избегая глядеть в его сторону.
Деян не ответил: в словах не было нужды. Выжить он не надеялся и не собирался слишком стараться.
Уже к следующему вечеру заморская «трясучка» – смешавшись, возможно, с обычной легочной простудой – крепко взялась за него и, то отступая, то возвращаясь, держала долгих тридцать дней. Судороги прекратились на десятое утро, но, когда в городе уже хоронили последних мертвецов, он все еще метался ночами в лихорадочном бреду, не помня самого себя и того, где находится. Однако смутное чувство неисполненного долга удерживало его на краю до тех пор, пока отчаянные усилия Петера и Арины сохранить его жизнь и та малая частица колдовской крови, что он, возможно, нес в себе, не изгнали болезнь прочь.
Смерть, дыхнув в лицо, опять прошла мимо.
– IX –
Когда он сумел подняться с постели и подойти к окну, во дворе уже лежали сугробы по пояс. Снег был ослепительно белым, искрился так, что резало глаза.
Во всем доме они остались втроем: Арина, он и Петер; даже часы с куклой из гостиной исчезли. До мора в пригородах не успели запасти достаточно леса, потому хорошие дрова стоили дорого, и раздобыть их было нелегко. В одну из холодных ночей, когда дом совсем выстыл, Петер порубил короб часов кухонным топориком и сжег обломки в камине; перед тем он так же сжег все большие шкафы и почти всю другую мебель.
Железные части механихма неопрятной кучей лежали в углу, и кукла вместе с ними.
«Интересно, как там Джибанд?» – отрешанно подумал Деян, первый раз увидев ее. Как встретил великан известие о смерти чародея? Нашел ли себя в новой свободной жизни – или же время для него остановилось и он стал таким же, как эта кукла с в колпаке бубенцами, нелепым и ненужным обломком прошлого?
Хотелось верить в лучшее, но не верилось.
Арина часов не жалела: она была равнодушна к вещам. Болезнь и смерть отца сделали ее взгляд еще суровее, чем раньше, но выгонять чужаков-постояльцев в зиму она не собиралась, а с Петером и вовсе поладила. Говорить друг с другом им было не о чем, но они могли часами молча сидеть рядом, иногда переглядываясь; в такие мгновения ее глаза теплели – пусть и самую чуточку.
– Тебе следовало дать мне умереть, – сказал Деян как-то вечером, когда они с Петером остались вдвоем. – Тогда ты был бы свободен ото всех обещаний.
Без тиканья часов и треска камина в гостиной было отвратительно тихо; за стеной Арина беззвучно оплакивала отца.
Петер взглянул с обидой и гневом, на мгновение превратившись из чужого угрюмого мужика в прежнего Петера Догжона; затем покачал головой:
– Ты очень изменился, Деян.
– Ты тоже, – пробормотал Деян, отвернувшись. Ему сделалось стыдно.
Петер отошел к окну и уставился на темную улицу.
– В большом мире все меняются, – с грустью в голосе произнес он. – Такое это место.
– Знаешь, я ведь любил твою сестру, – сказал Деян. Он ожидал – или хотел? – получить в ответ изумление, гнев, даже насмешку. Но Петер только кивнул:
– Знаю. Она тебя тоже. – Он помолчал. – Но я не мог позволить ей такой судьбы. Ты ведь понимаешь.
– Да, – с горечью сказал Деян. – Понимаю.
– Девчонки мои. Как они жили, какими они были, когда ты их последний раз видел? – отрывисто спросил Петер непривычно охриплым голосом. – Я пытаюсь лица припомнить – и отчего-то не могу. Никак не получается.
– У них все было хорошо, только по тебе скучали, – сказал Деян полуправду.
– Наверняка ведь врешь. – Петер глубоко вздохнул. – И ладно. Что теперь вспоминать? Кончено все.
Деян видел, как он украдкой утер тыльной стороной ладони глаза.
– Из наших, кто с тобой служил, еще остался кто живой? – спросил Деян
– Теперь уж не могу знать. После… – Петер запнулся, очевидно, не желая поминать Кенека, – после истории меня разжаловали и в штрафники записали. Потом восстановили в другом полку, где был недобор. А потом сразу плен. Я долго у Мясника могилы копал. Некоторым из наших тоже вырыть довелось. Но кто-то, может, и служит еще. Хочется верить.
Деян кивнул:
– Хорошо, если так.
После этого разговора пропасть между ними не стала меньше, но настороженность ушла; исчезла тягостная отчужденность. Они вновь сделались товарищами – пусть и только по несчастью.
Арина, очевидно, чувствовала то же самое. Трое непохожих друг на друга, неблизких, потерянных и одиноких людей, чьи жизни были разрушены войной и последовавшим за ней мором, – волею случая и лютой зимы они надолго оказались заперты под одной крышей: им предстояло научиться уживаться друг с другом и каждому – с самим собой.
Существовала еще одна проблема: сбережения покойного аптекаря быстро таяли, и, чтобы протянуть до весны, необходимо было найти какой-никакой заработок. Без надежных бумаг задача казалась непростой. Но тут пришел на помощь один из частых прежде гостей – старый друг семьи, бывший секретарь мэра, служивший теперь в комендатуре и имевший там связи. Рабочих рук не хватало, потому при личном поручительстве бергичевские военные чиновники не слишком присматривались к документам.
– X –
Первый день весны Деян встретил в тесной комнатушке во флигеле бывшего здания мэрии, где он под диктовку составлял жалобы и писал письма за неграмотных горожан – каких, к его изумлению, в Ханруме оказалось превеликое множество, – а иногда по поручению коменданта делал списки со старых книг и документов. Пригодилась наконец данная Сумасшедшей Вильмой и Терошем Хадемом наука.
Работа была в прямом смысле пыльная – но несложная и уважаемая; и платили за нее совсем недурно.
На службе нельзя было выглядеть простаком или оборванцем, потому он сменил старую куртку аптекаря на бежевый сюртук военного кроя, натянул на сложный, сделанный по эскизу покойного Милоша протез второй сапог и наловчился ходить, вместо костыля опираясь на тяжелую трость, какими пользовались многие состоятельные горожане; носил, по городской моде, остриженную клином бороду и не выходил из дома, не повязав поверх шрама на запястье платка. Многие принимали его за отставного офицера и объясняли сильную хромоту плохо зажившим ранением в ногу: ни в том, ни в другом Деян никого, конечно, не разубеждал.
Петер записался в один из добровольческих отрядов и быстро выбился там в командиры. Он легко ладил с товарищами и с начальством, исполнял приказы без самоуправства и ненужной жестокости, не трепал попусту языком и не грабил бедняков, чем заслужил хорошую славу, хотя доходы его, как и у всех дарвенских добровольцев на баронской службе, не ограничивались одним лишь жалованьем. Арина давала уроки музыки в нескольких богатых семьях: этим она занималась и прежде, до войны. На жизнь хватало; в доме вечерами вновь стало жарко натоплено – и снова появились небольшие напольные часы, без куклы, но с маятником. Петер, которого раздражала тишина в гостиной, с первой же получки по дешевке купил их у старьевщика. Работали они скверно и постоянно то отставали, то убегали вперед, но пустое место занимали и тикали громко, а большего от них никто и не хотел.
Дни становились длиннее, солнечнее, теплее. На улицах таял снег, в город стали доходить новости и почта; важных известий, впрочем, не было, кроме того, что обе армии значительно поредели от мора и война не до сих пор не возобновилась. С тех пор как пепел Старожского князя, принудившего стороны к миру, был развеян над рекой, больше никто о нем не вспоминал – но чародейский Круг по-прежнему держал «бунт» под присмотром. Потому где-то южнее, в междуречье, барон Бергич и король Вимил вели переговоры; а о чем и зачем, комендант Ханрума знал не больше, чем любой городской нищий.
С утра и до шести часов пополудни Деян просиживал за письменным столом в комнатушке в мэрии. В кабинете аптекаря он обнаружил небольшую библиотеку; однако чтение, против ожидания, не приносило ни успокоения, ни удовлетворения. Потому все чаще вечера – а иногда и ночи – он проводил в «Пьяном карасе»: недорогом, но довольно приличном заведении, где на первом этаже в просторной комнате за обеденным залом шла игра на мелкую монету, а на втором пышногрудые девицы привечали всех, кто готов был платить. В игре ему чаще везло, чем нет: как раз хватало оплачивать визиты наверх и крепкое вино, ко вкусу которого он постепенно привык.
Под утро, после ночных загулов, обыкновенно он пешком возвращался в аптекарский дом переменить одежду и привести себя в порядок; в иные дни ходьба причиняла боль – но ему нравилось ходить и тогда: это была настоящая, правильная, его собственная боль; боль телесная – терпимая, излечимая. Надежно защищенный чарами от патрульных и грабителей, медленно он брел по темным улицам. Деревья тянули к небу пока еще голые черные ветви; дома, многие из которых после мора оказались заброшены, равнодушно смотрели мимо него окнами, не закрытыми веками ставен. Ночной Ханрум полнился призраками и тенями, и только глухой стук трости о мостовую отличал его от одной из них. Проходящие мимо патрульные слышали звук, оборачивались, но, не найдя источника, суеверно осеняли себя защитными знамениями и ускоряли шаг.
Каждый день походил на предыдущий, и каждый в отдельности был не так уж и плох. После весеннего равноденствия распутица стала подсыхать; можно было начинать собираться в дорогу – но Деян медлил: спокойная городская жизнь притупляла разум и чувства, затягивала, словно трясина. Петер праздным развлечениям не предавался, но тоже разговора об отъезде не заводил; в свободные от службы дни он занимался хозяйством – подкрашивал в аптекарском доме стены, сам мастерил неуклюжую, но крепкую мебель взамен той, что в разгаре зимы пустил на дрова.
Неизвестно, сколько бы все это еще тянулось, но в одни непогожий день в комнатушку Деяна ввалился подвыпивший молодой мужчина и, стянув грязную шапку, по-хозяйски плюхнулся на табурет.
На посетителе была повязка добровольца-патрульного: Бергичевская комендатура исправно выплачивала ему жалованье, но, как и многие ему подобные типы, родительскими деньгами обеспечившие себе когда-то офицерский чин, он без счету тратил монеты на женщин и выпивку и без зазрения совести слал письма в далекий отчий дом с просьбой выслать денег. На письме веля называть отца «любезным батюшкой», а между строк не брезгуя, по-свойски ухмыляясь незнакомому писарю, обласкать того «зажившимся старым скупердяем».
Деян записывал не вслушиваясь – наглец-патрульный был не первым таким посетителем и не последним; но когда пришла пора записывать адрес, ухо выхватило из потока невнятной речи знакомое имя.
– Трактир на Нижней улице. Хозяину, господину Лэшворту, лично в руки.
– Господину… как вы сказали?! – Деян, разом выйдя из задумчивости, поднял взгляд на патрульного. – Повторите.
– Господину Лэшворту, – раздраженно повторил тот. – Хрену старому! Но этого не пиши.
Теперь, приглядевшись как следует, Деян смог угадать в лице молодого человека знакомые черты: патрульный был так же круглолиц, как трактирщик из Нелова, имел слишком широко посаженные глаза и мясистый нос с горбинкой. Сходство было вполне очевидным.
– Господин Лэшворт и есть ваш отец? – все же уточнил Деян.
– Ну да, ежель мамка покойная не лукавила. – Патрульнуй сально ухмыльнулся.
– Мне доводилось встречать вашего отца: прежде он не получал от вас известий и не был уверен – живы ли вы, здоровы ли. – Деян взглянул в мутные от пьянства глаза патрульного, чувствуя, как кровь начинает закипать.
Трактирщик-осведомитель не нравился ему – но все же Лэшворт был человек. И, как всякий человек, нес в себе и хорошее. А этот… Этот!..
– Он ведь ничего для вас не жалел, – сказал Деян. – Даже своего доброго имени; на виселицу мог отправиться. А вам не иначе как тяжкая служба не позволяла послать весточку?
– Ну так а чего писать было, – патрульный пожал плечами, – только зряшный на почту расход, господин э-э…
– Берам Шантрум. – Деян широко улыбнулся. От гнева стучало в висках. – По прозванию «Хемриз». Слыхали о таком?
Патрульный нахмурился, пытаясь припомнить; пьяная расслабленность проступала во всей его позе. Деян привстал, перегнулся через стол и, ухватив за вихор на затылке, дважды со всей силы впечатал мужчину лицом в столешницу, прямо в исписанный лист бумаги. Затрещали зубы.
– Возвращайся домой, ты, ублюдок! – рявкнул Деян. Ярость, захлестнувшая его с головой, чуть отступила. Он оттолкнул патрульного назад: тот упал на пол, опрокинув заодно табурет. – Отцу и Мариме от меня кланяйся, если живы. Последний раз, когда я видел Неелов, город горел так, что зарево на полнеба в ночи светило.
– Что вы… что… горел?.. – непонимающе переспросил патрульный, сидя на полу и ощупывая окровавленное лицо. Он был оглушен, пьян, слишком растерян и напуган, чтобы возмущаться или оказать сопротивление; хотя начни он драться – дело наверняка решилось бы в его пользу. – Как так горел?
– Сожгли твой Нелов родной; осенью еще. Не до того отцу твому сейчас, чтоб тебя, мразь бессовестную, обеспечивать – если он вообще жив. Вон отсюда! – выкрикнул Деян, замахиваясь тростью. – Еще раз увижу …
Угроза осталась неоконченной: патрульный, двигаясь нетвердо, но резво и позабыв на полу шапку, выскочил за дверь.
Деян отложил трость, взял запачканный кровью лист бумаги и разорвал на мелкие клочки. Руки дрожали.
Он был сам порядком обескуражен и даже напуган своей вспышкой, однако не сожалел о ней. Стоило вспомнить сальную ухмылку патрульного, как его всего передергивало от омерзения; но было и что-то еще.
«Если так посмотреть, то вот чем я лучше него? – Он достал гравированную чародейскую фляжку, в которой всегда теперь носил немного хлебной водки, сделал глоток и взглянул на отполированную до зеркального блеска заднюю поверхность: та отражала лишь бледное овальное пятно. – Все мы здесь на одно лицо…»
До конца приемного времени оставался час, в коридоре, гадая о причинах подслушанной ими ссоры, стояло еще четверо посетителей, но Деян, комкано извинившись, запер комнату и вышел наружу.
Никогда прежде он еще не заканчивал так рано; пока он хромал по непривычно светлым улицам к «Пьяному карасю», солнце било ему в лицо. Уродливые туши сугробов на обочинах почти истаяли за день; в сточных канавах журчала вода. Мор проредил население Ханрума вдвое, и все же в центре города было многолюдно: одни, пешие или конные, спешили по делам, другие неспешно прогуливались, третьи, согнувшись в три погибели, просили милости у Господа и прохожих, цепляя тех протянутыми руками за полы одежды. Солнце одинаково освещало красоту и увечья, гримасы страдания и мимолетные улыбки. Набалдашник трости проскальзывал по мокрым камням мостовой. Беспризорные мальчишки у стены полуразрушенного дома затеяли игру, по очереди швыряя перочинный нож в начерченный на земле круг; от их вида что-то сжималось внутри.
С облегчением Деян нырнул в пропахший хмельными испарениями полумрак трактира, но и там ему было не по себе; даже два кувшина крепкого вина не исправили положение. Изрядно захмелев, но так и не почувствовав себя лучше, с трудом он поднялся по крутой лестнице на второй этаж
Полноватая женщина с густо нарумяненными щеками, имени которой он не помнил – хотя пользовался ее услугами не первый раз, – затянула его в одну из спален. Половину крохотной комнаты занимала кровать, другую половину – тумба со старинным зеркалом-трельяжем. Деян вгляделся в пошедшее от времени черными пятнами стекло: с отражения смотрел незнакомый сердитый мужчина с огрубевшим от зимнего ветра и осунувшимся от пьянства и бессонных ночей лицом, полосками ранней седины в бороде и на висках и мутными, по-коровьи сонными глазами. Незнакомец внушал опаску, неприязнь – и вместе с тем какую-то брезгливую жалость; с таким типом не хотелось бы ни столкнуться на узкой улице, ни сидеть за одним столом.
Деян отшатнулся от зеркала; незнакомец отступил в глубину.
Женщина в призывно расстегнутом платье, сбитая с толку тем, что он никак не отвечает на ее ласки, отстранилась. Он, чувствуя слабость в коленях, сел на кровать; женщина осторожно присела рядом. Под румянами и белилами проступали морщины; впервые Деян заметил, что она намного старше него.
– Что, милый, на службе нелады? – произнесла она глубоким грудным голосом с какой-то материнской снисходительностью.
Деян пожал плечами.
– Ты сегодня странный. – Она вдруг улыбнулась. – Да что я говорю! Ты всегда странный. Хотела бы я знать, что ты там прячешь. – Она осторожно коснулась пальцами узла платка на запястье.
– Память, – сказал Деян.
– Память? – Она удивленно взглянула на него.
– Память, – повторил Деян. – Ты прости… за сегодня. И раньше, если что было не так, – прости; и другим скажи. Не поминайте лихом.
Последний раз он взглянул на незнакомца в зеркале, надел сюртук и взял трость. Женщина, имени которой он так и не вспомнил, безмолвно смотрела за его скорыми сборами; в ее взгляде ему чудилось понимание. Он поклонился и, не оглядываясь, вышел, перед тем оставив на тумбе трельяжа полный кошелек.
– X I –
На площади перед таверной он впервые взял двуколку и через четверть часа уже входил в дверь аптекарского дома. Петер возился в прихожей: прилаживал к стене крюк для одежды.
– Петер, я должен ехать, – сказал Деян. – Ты оставайся, если хочешь. Так будет лучше.