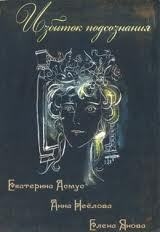
Текст книги "Избыток подсознания"
Автор книги: Екатерина Асмус
Соавторы: Елена Янова,Анна Неёлова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
И тогда Алла стала частью моей жизни. Ее уже не приглашали в дом, а дружба с тридцатилетней девушкой, еще не вошедшей в семью, не приветствовалась. Не думаю, что я сама стала инициатором «тайной» дружбы с Аллой, но, услышав от нее предложение замаскировать наши почти ежедневные встречи существованием целых двух выдуманных подруг, охотно поддержала игру. Итак, Алла стала называться Людой Дмитриевой (действительно существовавшей, но не слишком мне близкой девушкой) и совершенно немыслимой Раей Турлаевой. Звонила мне обычно она – Люда-Рая-Алла. И приглашала на прогулку. Прогулка стремительно вела меня до угла Зверинской и Кронверкского проспекта, и бегом, за 10 минут, – через парк, к Кировскому, 2, в четырехкомнатную квартиру Аллы. Перед этим домом чуть позднее поставили большущую статую Максима Горького.
Что привлекало меня? В первую очередь, сама таинственность нашей дружбы. Личность Аллы? Да простит меня Господь, но к тому моменту я уже знала, понимала, чувствовала, что ее привязанность ко мне тоже игра, во всяком случае, частично. К тому времени я была довольно начитанна. Мне было понятно, что в меня и со мной играют. И мне это нравилось! Насколько Алле нравилось быть режиссером, сценаристом и кукловодом наших тогдашних отношений – не мне судить, но внешне она горела энтузиазмом, и к каждой новой нашей встрече был готов замысел новой авантюры, знакомства, прогулки. Соскучиться я не могла, даже если бы умела. Рослая девочка с формами взрослой девушки, для мамы я все еще была умирающим от пневмоний ребенком. И на меня, тринадцати-четырнадцатилетнюю, надевали детскую панаму и немыслимые детские же платья. От полного морального уродства меня спасло то, что ко времени моей юности вошли в моду дерзкие «мини». Поэтому короткие детские платья стали казаться вызовом обществу и наглым подражанием «плохой» западной моде. В отличие от Лерика, которого как «стилягу» в 50-е годы неоднократно задерживала милиция, меня милиция не задерживала. Но, по нескольку раз за день, подходили злобные домохозяйки, озадаченные учительницы, а чаще скрытые педофилы и сексуально неудовлетворенные отцы семейств из среды воинствующих партийцев. Я ведь до сих пор патологически обидчива, но откровенное хамство и наезды в свой адрес воспринимала восторженно. Наконец-то я «скверная девчонка и модница», а не урод в детской панамке. Лерик не часто заходил к Алле во время моих визитов. Чаще я видела другого ее поклонника – князя Чавчавадзе, внешне неуловимо похожего на Лерика. Американец Ральф, вскоре высланный из страны, не произвел на меня впечатления. Впечатление произвела Евгения Васильевна Дзержинская, жена композитора и эстрадная певица. Будучи дамой лет пятидесяти или чуть более, выглядела она великолепно (последний раз я видела ее в 1994-м, на похоронах Аллы, но и тогда она была красива). Великолепных, красивых женщин старшего поколения я видела немало, но Евгения, Женя, как называла ее Алла, сочетала подлинную эрудицию с откровенным эпатажем, нарочитую вульгарность – с грацией и утонченностью. Вся сотканная из противоречий, она пила водку хлеще старого солдата, через минуту превращаясь в племянницу английской королевы, впервые вышедшую в свет.
Алла наряжала меня в свои платья и повышала мою самооценку рассказами о моей красоте. Занимаясь в драматических коллективах, искусством грима я овладела еще будучи третьеклассницей, но Алла учила меня боевой раскраске для походов в кафе, рестораны и нанесения визитов ее многочисленным знакомым. Даже странно, что никто не принимал меня за юную путану (скорее всего вследствие не утраченной мной манеры витиевато и по-петербургски правильно выражать свои мысли, а также автоматизма в соблюдении правил хорошего тона). Алла стала придавать значение моей манере общения с противоположным полом, говоря, что не нужны мне «всякие мальчишки» и нужно научиться быть на уровне интеллекта и интересов людей постарше, например Миши. Алла знала историю о том, как Миша заявил себя моим женихом, едва мне исполнилось 13, и как был в этом качестве отвергнут и мной, и моей мамой. (Спустя чуть ли не 50 лет, в 2010 году, Миша понятно, доходчиво и просто объяснил мне те странности в наших отношениях, которые мучили меня и были непонятны мне всю жизнь.) Но театр есть театр. И тогда, в начале 60-х, роли были распределены. И режиссер Алла предложила мне сыграть роль юной жеманницы, вдохновляющей тридцатилетнего обожателя на подвиги, с применением техники, называемой в современной психологии «контрастный душ». Я не была влюблена в Мишу. Ни влюбленностью трехлетней девочки, для которой он был ангелоподобным спутником игр, ни чувством расцветающей юной женщины. Я хотела любить и быть любимой, но плохо еще представляла своего потенциального избранника, запутавшись в многочисленных романах сестер Бронте и более трезвой литературе, которую читала запоем. И Миша говорил, что Джульетте было тринадцать… Однако я знала, что Ромео не достиг тридцати одного года… Но почему бы не поиграть? Ведь Алла такая прекрасная, такая несчастная, и Лерик не женится на ней только потому, что все (кто ВСЕ?) послушны Мише. А Миша, по сценарию, послушен мне…
Вскоре Лерик женился на Алле. Мы с Аллой перестали встречаться наедине, и иногда они с Лериком брали меня куда-нибудь с собой.
Квартира Аллы стала похожа на дом римской патрицианки: на стенах всех комнат (кроме, возможно, той, где жили родители Аллы, чаще бытовавшие в своем кишиневском поместье) появились фрески, на которых больше всего было любимых Лериком тигров (помню рассказ отца о том, как маленького, возможно годовалого, Лерика впервые привели в зоопарк, и он, восторженно глядя на сидящего в клетке тигра, уверенно обратился к нему: «Папа»).
Он освоил и преобразил пространство квартиры на Кронверкском. То, что былой потребности в общении со мной не стало у Аллы, отразилось на моей дружбе с братом новой волной привязанности. В Худфонд, в Союз художников, в гости, а еще чаще просто в ресторан по нескольку раз в неделю Лерик брал меня.
Не скрою, все наши походы не были безалкогольными, но я была девочка рослая, после кутежей мы обычно долго прогуливались, и мама, обладавшая прекрасным обонянием и вынюхивавшая меня (в буквальном смысле этого слова) после всех подобных прогулок, ничего не подозревала. К алкоголю, как и ко многому в жизни (и это у меня от отца, от его буддистской абстрагированности от суетного), я относилась как к игре, наблюдая самое себя со стороны. Знаю, что не только Лерик, но и многие из поколения Лерика, да и из моего даже, обладали столь устойчивой и безупречной генетикой, что даже обширные многолетние возлияния не влияли на эрудицию, память, логическое мышление, свойства темперамента. Не меняли личностных качеств. У более молодых подобная психическая устойчивость – редкость. Практически не выпивал мой отец. Можно по пальцам сосчитать случаи, когда он поддавался уговорам и пробовал, в общем застолье, что-нибудь спиртное (и при этом никогда не пьянел). В самые последние годы своей жизни папа «почувствовал вкус» к красному сухому вину, по античной традиции разбавленному водой. Не ради какого-либо возбуждающего эффекта, а «для вкуса», так как очень любил соки и всякого рода освежающие напитки. Мечтал о клюквенном квасе, любимом с детства, который нигде не продавался и который, увы, я не умела готовить самостоятельно, заменяя его традиционным морсом.
Мама могла только пригубить вино, именно попробовать кончиком языка, не делая даже глотка, поэтому ей казалось, что все хорошие вина – сладкие, и не различала их по качеству. Тем не менее в доме было принято подавать вино к обеду, и мне, даже совсем маленькой, старорежимные еще врачи прописывали «для здоровья» кагор. Поэтому когда Миша, входя в роль моего жениха и выполняя мои капризы и иногда совсем неожиданные просьбы, купил большую красивую бутыль с шоколадным ликером, она немедленно была поставлена на стол. Мне, уже приученной к детскому лекарству – кагору, позволили попробовать ликер, принесенный в дом по моей просьбе. И мне так понравился этот напиток, что когда едва пригубленную бутыль спрятали «до следующего торжества» в самую глубину буфета, я не смогла удержаться в рамках приличий и ежедневно и тайно наведывалась к буфету. Через неделю от вкусного ликера не осталось ни капли. Папа посмеивался, мама же пришла в состояние неподдельного ужаса и применила ко мне, столь не по-девичьи провинившейся, какие-то серьезные штрафные санкции. Поэтому и принюхивалась ко мне с пристрастием, когда начался бурный период школьных прогулов и посещений всех популярных в то время ресторанов и кафе. Прогуливать школу было просто, так как из-за вечных моих пневмоний я имела «свободное расписание», а в 14 лет и вовсе, чтобы не остаться по болезни и полному непосещению занятий на второй год (фу, как стыдно, с моими-то способностями!). Ведь, обучаясь почти заочно, я все-таки сумела до 7-го класса остаться «круглой» (то есть не имевшей оценок ниже пятерки даже в тетрадях) отличницей. Затем я была переведена в вечернюю школу, с посещением занятий три раза в неделю. Работать при этом по малолетству и медицинским показаниям мне не полагалось. О том, что из себя представляла школа рабочей молодежи, могу вспоминать много и забавно, но тогда слишком уж далеко уйду от основной темы – о моей семье и о моем Лерике. Я вполне умышленно говорю о любимом, бесконечно любимом – брате? и брате тоже – «мой» не потому, что приписываю или хочу приписать себе какие-то эксклюзивные на него права, а потому, что сказать о самом себе досконально и достоверно вряд ли смог бы даже он сам. Он знал многих, многие знали его, и для каждого он был иным, отдельным, собственным. Факты, поданные даже со всей беспристрастностью, могут рассматриваться только односторонне, даже если эта сторона – секретарь, записывающий каждое слово и действие. Я пишу слишком много о себе, но только так я могу рассказать о своем образе Лерика, своих чувствах к нему, своем восприятии тех или иных событий.
Часто думаю о бедном Пушкине и других великих, право на эксклюзивное понимание которых присваивается столь многими. Здесь же я даю себе только одно право: вспоминая факты – не трактовать их, вспоминая слова – не приписывать им исключительно для меня приятного значения. Правда так же далека от истины, как порыв ветра от незыблемого горного хребта, как божья коровка, коснувшаяся руки и растаявшая в воздухе, от света звезд. Каждый, и то в весьма малой степени, может отвечать только за себя, за те обрывки эмоций, впечатлений и сюжетов, которые, меняясь, словно в калейдоскопе, могут ежесекундно принимать новые очертания.
Самой многогранный, самый точный язык статичен, а жизнь мимолетна. Но мимолетность делится на мириады мгновений, каждое из которых – вихрь.
Когда Лерик умер, мне позвонила родственница, позвонила в день и час его смерти. Может быть, потому, что весь последний год его жизни я была рядом, а быть может, и потому, что за последние двадцать лет я стала семейной похоронной командой. Похоронив в девяносто первом мужа и не прибегая ни к чьей материальной и моральной помощи, ровно через год я похоронила маму, тоже уповая только на Господа Бога. Идя в слезах по Невскому, не зная, на что похоронить мать, я узнала, что в этот день были проданы в магазине на Невском, 18 все мои декоративно-прикладные изделия, продать которые было практически невозможно, вследствие их исключительной аляповатости. Денег хватило как раз на похороны. Я уже хорошо изучила весь ритуальный регламент, когда в 1994 году не стало Аллы. 10 февраля 1996 года ушел папа. После короткой передышки 1999 год унес мою сестру Аду. Март 2001-го – сын, любимый, ежедневно оплакиваемый… Верочка – 2004 год. Это не считая знакомых, друзей или тех родственников, в похоронах которых деятельное участие принимала не только я. Да и вообще я не о том. Я о Лерике, его уходе и моей короткой поездке в Финляндию, из которой я вернулась в день его смерти. А уехала – чтобы не думать, не знать, не слышать…
Но я как-то очень быстро оказалась в 2009 году из начала шестидесятых… Тогда жизнь преподносила нам разные и не всегда радостные сюрпризы. Так, в сентябре 1963-го папа попал под автобус. Он переходил Кронверкский к трамвайной остановке, чтобы ехать на студию. Переходил, как всегда, стремительно по залитой дождем скользкой брусчатке и… не увидел автобуса, вынырнувшего из-за приостановившейся перед трамваем машины. За несколько дней до этого мне было очень жаль папу. Не знаю, была ли эта жалость вызвана незначительными, пустяковыми раздорами, возникшими незадолго до происшествия между родителями. И мама казалась мне тогда неправой. Или действительно я что-то предчувствовала? Но перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг надолго приковали отца к постели. Около полугода мы поочередно дежурили возле папы сначала в больнице, а через четыре месяца дома. Когда это случилось, тотчас известили Трауготов. Верочка, совсем незадолго до этого потерявшая мужа, философски заметила: «Костя сделал все, что мог». Может быть, она таким образом хотела успокоить нас, потерявших ориентацию в пространстве от страха и горя? В тот же или на следующий после несчастья день мы с Лериком, в поисках каких-то лекарств, переходили Гулярную улицу. И тоже едва не оказались под грузовой машиной. Полная отрешенность от реальности. В голове был только отец.
Папа, к счастью, поправился и вернулся не только к живописи, но и к работе на студии.
В 1965-м родился Юра, Георгий Валерьевич. Впервые я увидела Аллу с маленьким Юрочкой, сидевшим в коляске типа «Мальпост», когда Юре было семь-восемь месяцев. Он выглядел уже совершенно разумным ребенком лет двух от роду. Года полтора до этого мы не виделись с Аллой. И реже виделись с Лериком. Такое бывало. Но никогда не бывало, чтобы исчезали все Трауготы. Во-первых, мы жили близко друг от друга и не могли не сталкиваться на улице. А во-вторых, никогда, до самого наступления болезни в девяностые годы и Верочкиной многолетней жизни на даче за Зеленогорском, не прекращались папины еженедельные ритуальные, магические, мистические, традиционные визиты к сестре.
А я? В 1963–1966 годах я больше общалась с Мишей. Мне было интересно, легко, забавно и немного страшно (что только добавляло харизмы и любопытства) навещать Мишу, жившего в тот период в мастерской. Он уже ездил на одном колесе, создавал все новые и новые варианты моноциклов, занимался потрясающей проволочной скульптурой, выделывая тончайшие и точнейшие скульптурные формы из разнообразной, в том числе и технической, проволочной сетки. Вся мастерская превращалась под его руками в нечто среднее между средневековым замком и «летучим голландцем», отдельными своими частями напоминая этот мистический корабль. Мама не приветствовала мое пребывание наедине со взрослым мужчиной, и я лгала, рассказывая о вымышленных встречах с существовавшими в реальности, но совсем неинтересными для меня подругами. Мама могла не бояться. Даже если бы я захотела в своей откровенности попытаться поделить лавры романтических приключений с Натальей Медведевой 2 2
Наталья Медведева, петербурженка, бывшая жена Э. Лимонова, написавшая крайне смелые, откровенные, блестящие воспоминания.
[Закрыть], ничего бы не получилось. Право же, не знаю, до каких состояний общение со мной доводило стойкого и рыцарственного Мишу, но кроме поцелуев, чтения стихов, разговоров о литературе, живописи и нашей семье не было ничего, за что могли бы порицать меня строгая мораль того времени и моя строгая мама.
Я заканчивала школу, по-прежнему регулярно прогуливая занятия. Поэтому сдавать некоторые предметы приходилось экстерном. Так я сумела отстать даже в легкой для меня и вполне любимой литературе. А здесь снова Лерик, возможно уставший от роли молодого отца или просто по какой-то прихоти решивший провести день – нет, несколько дней – именно со мной. И мы отправились в ресторан «Садко», потом «Кавказский», потом еще куда-то. Домой я являлась только ночью, ссылаясь на перегрузки в занятиях. Надо было как-то оправдываться и перед школой, и перед родителями. И вот Лерик, в той же мастерской на улице Блохина (Миши почему-то не было), за пару часов написал грандиозное сочинение на тему и под названием «Пергамский алтарь», которое я даже не стала переписывать и за которое благополучно получила годовой зачет. Уверена, что сочинение (помню его смутно) было блестящим не только по силе и образности, но и по количеству цитат, точности исторических дат и культурологических знаний. Вряд ли мои педагоги могли это оценить. И мне искренне жаль, что эпохальный труд пропал в ворохе школьных тетрадей.
Сейчас мне особенно трудно, так как я взяла на себя самое строгое обязательство: не лгать себе и, если что-то забыла, или не поняла, или продолжаю оставаться в заблуждении, не пытаться расцвечивать пробелы фантазией или эмоциональной подсветкой. Убежденная Аллой в том, что я люблю Лерика, а самой собой в том, что Мишу я все же не люблю, я вышла замуж. За юношу, который стал отцом моего ребенка, моего сына Ярослава. Здесь не стоит проводить аналогий с принцессой из «Свинопаса». Не такой уж он был и свинопас. Даже неплохо знал не печатавшуюся тогда поэзию Серебряного века, да и сам что-то писал. Беда одна, и весьма распространенная. За любовь я приняла влюбленность, за желание пожизненно быть вместе – женскую гордыню, когда хочется любой ценой сюиминутно настоять на своем. Полуингерманландский мальчик, напоминавший внешне и повадками красивую, хорошо воспитанную дворняжку, нравился маме, папа его терпел за склонность к черчению и умению аккуратно рисовать машинки, а Трауготы и вовсе не воспринимали всерьез. Только Миша как-то спросил, как поживает мой «слесарь». Поженившись в 1967 году, мы благополучно расстались в 1969-м, мирно оформив развод летом 1970 года.
К лету 1970-го рядом со мной был другой мужчина, почти на десять лет старше меня, преподававший в одном из художественных училищ; он тем меня и восхитил, что преподавал. Пожизненно боюсь людей в белых халатах и педагогов. А здесь почти ручной педагог. Я всегда была слишком труслива, чтобы войти в клетку с тигром; вот в клетку с преподавателем живописи – куда ни шло. Именно с этим поклонником летом 1970 года я зашла в гости к Лерику. В дом, смотрящий в спину задумчивому Буревестнику – памятнику Горькому. Аллы не было. Как всегда в летние месяцы, она была с маленьким Юрой в Кишиневском поместье, куда иногда приглашала и меня. Но побывать в Кишиневе мне так и не довелось. Лерик был не один и, как всегда «на свободе», что-то праздновал. С ним был Федя Бернштам, которого я хорошо знала с детства, Женя Линсбах, вальяжный и уже несколько грузный, и московский товарищ Лерика – Олег Скрипко, которого я тоже знала с детства, но только по рисункам Лерика, которыми полны были письма, посылаемые Лериком мне, еще маленькой, с армейских сборов, где после вуза Лерику довелось побывать. И побывать именно в компании с Олегом. Молодые, уверенные в себе люди были на порядок старше меня и несколькими годами старше моего поклонника-преподавателя. Все огромные (Лерик среди них был самым миниатюрным), они приняли моего поклонника как друзья Паратова и вся купеческая братия – Карандышева. В роли же Ларисы Огудаловой мне пришлось выступать не впервые, так как мама, любя пьесы вообще, а Островского в особенности, еще в ранней моей юности (за какие-то ведомые ей провинности и качества характера) частенько называла меня вещью. Я, со своей стороны, конечно, хорошо знала хрестоматийную «Бесприданницу»: «уж если быть вещью, так дорогой, очень дорогой». Однако знала я и то, что ценность вещи не определяется материальной градацией. И, не увидев в человеческих, романтических, в любых отношениях ничего и никого более глубокого, более значимого, чем люди и отношения в моей семье, я знала также и то, что, обладая паратовской удалью и внешними атрибутами этого образа, Лерик многограннее, оригинальнее и многократно талантливее героя пьесы Островского. И начался странный, страшный для моего пуританского воспитания, нелепый по своим последствиям роман длиною в жизнь. Лерик не только окружал меня непрестанным вниманием, требуя частых встреч, он сделал своими наперсниками и помощниками, можно сказать – кураторами наших романтических отношений Федю Бернштама и Женю Линсбаха. Часто мы встречались в мастерской Жени, Детгизе, в Союзе писателей ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЕЖАТЬ КУДА-ТО ДАЛЬШЕ И КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ БЫТЬ ВМЕСТЕ. Часто мы встречали кого-либо из многочисленных знакомых Лерика, считавших себя его друзьями. Иногда я откровенно и аффективно кокетничала с некоторыми из них. Чтобы вызвать ревность Лерика? И это тоже, но только чуть-чуть. В основном же для того, чтобы ни тени сомнения не было ни у кого в том, что я любимая младшая сестра… И все. Сам же Лерик бывал и раздражителен, и ревнив. Помню, как-то зайдя в пивной бар «Феникс» и не найдя свободного столика, мы подсели (а я, как дама, шла впереди и выбирала место) к двоим молодым людям моего возраста. Вероятно, я им понравилась, и они стали изображать боевых петухов и чем-то задели Лерика. Обоих он оттаскал за шиворот, меня же обвинил в неуместном кокетстве и долго сердился. Все попытки Лерика декларировать наши отношения как чисто родственные были не менее смешны и нелепы, чем мои собственные. Так, часто находясь со мной в компании дам, он пытался театрально отдавать предпочтения кому-либо из них, а в светской деловой обстановке и вовсе ставил меня в неловкое положение, джентльменски соблюдая правила хорошего тона в отношении всех дам, кроме меня, которой отводилась роль, скажем, секретаря. Я робко несла за ним папку с рисунками, плелась позади всех и не претендовала на то, чтобы и мне, как остальным дамам, подали пальто или пододвинули стул.
Лерик рисовал меня в иллюстрациях ко всем книгам (в 1980 году вышли сказки Перро, где в «Рикке-хохолке» глупая принцесса – тоже я). Он совместил приятное с полезным: сказав, что мне жизненно необходимо ему позировать, создал несколько панно по заказу французской школы, где тогда учился его сын Юра, и изобразил меня героиней французских сказок.
Я все еще рисовала и работала то в области портретной миниатюры, то художником-оформителем, не освоив тогда еще керамики, которая стала успешно кормить меня после 1984 года. Лерик часто появлялся передо мной взволнованный собственными идеями, с горящими глазами и говорил, что вот сейчас, через неделю, месяц, совсем скоро я оформлю наконец ту или иную книгу. Часто свидетелем этих лестных предложений оказывался мой папа. И так же спокойно, как сами предложения стать наконец иллюстратором, папа воспринимал неизбежное рассеивание предложений в воздухе. Я никогда и ни о чем не просила Лерика. Ни о возможности что-то иллюстрировать; ни о какой-либо финансовой помощи, ни о протекции для своих детей. Напрасно не просила. Лерик помогал всем, кто просил. И только племянникам, которых он, по его словам, любил согласно римскому праву больше, чем ребенка собственного, он не дал ничего. Да мне и в голову не приходило ничего подобного. Пришло сейчас, после того как появилась молодая дама, сумевшая даже с больного, умиравшего Лерика взять все, что ей было нужно, и использовать плоды своей предприимчивости. Впрочем, я понимаю, почему любимый Лерик никак не поддерживал ни своего дядю (а моего отца), ни меня, ни моих детей. По внутреннему убеждению Лерика, да и всех троих моих братьев, к нам, близким, любимым и ТАЛАНТЛИВЫМ, а значит отмеченным, поцелованным НЕБЕСАМИ и принадлежащими по праву рождения к особому, семейному пантеону, все, вплоть до житейских мелочей, должно было приходить САМО, по ВОЛЕ НЕБЕС! Остальные же – пусть чудесные и интересные, но люди, и помогать им – своего рода долг и почетная обязанность избранных…
А тогда, уже в 1980 году, Лерик прибегал в мою, папину квартиру без звонка, без предупреждения и требовал, чтобы я немедленно отправлялась с ним, бросив детей, бросив отца, бросив то или иное дело, которым я тогда кормила свою семью. И папа никогда не возражал. Лерику дозволялось все.
Уже в октябре 2009 года, когда я организовала поминки в кафе с пошловатым названием «Две блондинки», в Союзе художников раздались возгласы негодования: «Да ведь это… Да ведь там гей-клуб был… И вдруг мы, такие чудесные художники, туда поедем… А Валерий Георгиевич – да ведь он почти святой, и о нем последние слова – там?!»
Лерик не был святым, не был и узколобым ханжой. Так, живя в доме № 82 по 15-й Линии Васильевского острова, Лерик прекрасно знал, что дом строился для особого заведения, долгие годы в нем находившегося. И знание того, что он живет в бывшем публичном доме, отнюдь его не шокировало, а забавляло. Вполне лояльно он относился и к сообществам сексуальных меньшинств. Но не было гей-клуба на 15-й Линии, 32, и поминки прошли достойно там, где Лерик в последний год жизни бывал очень часто, так как там была я, арендуя кабинет для своей психологической практики. Но нет Лерика, и не нужно мне уже ежедневно навещать его, а значит, и кабинет в «Двух блондинках» уже не нужен.
Впервые же мы попали в этот ресторан для того, чтобы, по желанию Лерика, отпраздновать недалеко от его дома старый Новый год – 2009-й, И приехали, и отпраздновали с купеческой широтой, от которой Паратов-Лерик не хотел отказываться до конца своих дней. По уловке судьбы, хозяйкой ресторана оказалась одна из моих давних клиенток, любезно предложившая мне арендовать кабинет на ее территории. Я согласилась и даже обрадовалась ее предложению, так как, почти ежедневно навещая Лерика, я смогла таким образом территориально сблизить уход за любимым человеком и необходимость стабильного заработка. Однако еще чаще, чем к «блондинкам», мы ходили с Лериком в 2008–2009 годах в китайский ресторан «Мулан» на углу 14-й Линии и Малого проспекта Васильевского острова: туда он еще мог доходить пешком, несмотря на прогрессировавшую болезнь ног, мучившую его с 2004 года. О болезнях Лерик не любил говорить никогда в жизни, считая тему здоровья дурным тоном, скучной, неприличной потерей времени.
И именно тогда, когда дело касалось физических, физиологических проблем и всего с ними связанного, становился раздражительным, ворчливым и неуступчивым. Так было всегда, смолоду, поэтому лечить Лерика было почти невозможно.
Была в нем какая-то особая форма целомудрия, возможно врожденного, – те же качества я хорошо знала за своим отцом. Лерик мог лгать, ворчать, сердиться и иногда даже бушевать, но никогда не позволял себе ничего, что имело по сути хоть малейший налет пошлости и вульгарности. Внешнее и общепринятое не имело для него значения. Значение имели собственные, и очень жесткие, этические критерии.
Целомудрие и ханжество – вещи разные и подчас несовместные. Я не знаю, каким образом дифференцировал их Лерик. Но иногда запутывался и он. Приписывал Верочке и Шурику мысли и реакции стереотипные, по сути пошлые, когда думал, что, узнав об истинной глубине наших отношений, «семья не простит», а значит, он будет подвергнут творческому и деловому остракизму. При этом за меня он ничуть не опасался: папа все знал и молча благословлял. И все же моя бесконечная любовь к Лерику не была чувственной, я любила его любого – больного, ворчливого, пьяного, спящего, забывшего обо мне ради творческих или даже жизненных планов. Наталья Николаевна, тетя Лерика со стороны Трауготов, психиатр и умница, говорила мне, разводя руками: «Какие вы оба сумасшедшие, и как похожи… Вы не могли не полюбить друг друга!»
Я не устраивала сцен ревности тогда, когда в жизнь Лерика вошла Наталья Григорьевна Фефелова, его гражданская жена, умершая за год до Лерика, 27 октября 2008 года. Да и не было повода ревновать, поскольку именно мне Лерик рассказывал, несколько конфузясь, о начавшейся весьма прозаично и буднично связи, без романтической влюбленности, без ухаживаний. Так случилось. И Алла, взбешенная изменой, быстро превратившейся в будничную привязанность, сродни поднадоевшему многолетнему супружеству, снова призвала меня в свои подруги, чтобы было перед кем излить душу, пожаловаться на то, что не какая-нибудь красотка, из числа многих воздыхательниц по ее мужу, а дама, явно не вписывающаяся в стериотипы Лериковых представлений о женской привлекательности, оказалась с ним рядом. Я знаю, как и почему оказалась, от самого Лерика… Но Аллы не стало, и именно Наташа дала Лерику то, чего ему так не доставало: покой. Наташа, несомненно, была мудрой и любящей женщиной. Очень деликатно она не допускала меня в дом, сводя общение к минимуму. Догадывалась о чем-то – или Лерик сам, как большинство пьющих мужчин, проявил ненужную откровенность? Во всяком случае, в начале их совместной жизни Наташа с видимым удовольствием носила керамические украшения, сделанные мной, и как-то уж слишком настоятельно знакомила меня со своими друзьями мужского пола. Никто из этих людей не был достаточно интересен, да и достаточно заинтересован тоже… Сборища по поводу и без повода превращались из попоек интеллектуальных в возлияния чисто делового характера, и уровень общения с людьми, теперь окружавших Лерика, изменился настолько, что перестал вызывать во мне даже естествоиспытательский интерес.
Мы продолжали встречаться, просто гуляли, часто сидели в демократическом кафе-распивочной на углу ул. Блохина и переулка Нестерова, невдалеке от главной семейной мастерской. Потом, когда Лерик получил мастерскую на Наличной, 36, получила ключи от мастерской и я. Но встречались мы чаще на нейтральной территории, в кафе, на улице, на моих скромных семейных праздниках. И Лерик, как прежде, неотрывно на меня глядя, говорил, говорил, какая я красивая и как бесконечно он меня любит. Наташа периодически звонила на мобильный телефон и, услышав честное признание, что он со мной, требовала немедленного возвращения домой.
Лерик брал такси, возвращался, обычно прося, чтобы я сначала завезла его на Васильевский остров и уже потом ехала в свою комендантско-аэродромскую тьмутаракань. Я как-то упустила в своем рассказе, что еще в 1974-м мы с папой и еще одним моим сыном – Славочкой – переехали в пустоту и безликость бывшего комендантского аэродрома. И даже сейчас, через 36 лет, я не чувствую себя здесь ДОМА. Папа смирился с районом новостроек быстрее. Только, глядя на кубики соседних домов в окно, часто фантазировал: «А не приделать ли, например, вот к тому дому-башне крылья? А на крыше другого кубика не разбить ли зимний сад?»
Мне не вполне понятно и сегодня, почему артистичные и вполне исполнимые идеи, витавшие в воздухе (ведь не одному же моему отцу они приходили в голову), так и остались неосуществимыми, а наверняка не менее дешевые кубичные сооружения, модернизированные под сборные домики из детского конструктора (только выполненного детьми бездарными), прижились? К счастью, отец находил вдохновенье в детских воспоминаниях, сновидениях, в себе самом, а не в окружающих реалиях, поэтому продолжал рисовать, бесконечно расширяя спектр образов, ложившихся на бумагу. Иногда, совсем редко, к нам приходил Шурик. Миша и Верочка не бывали в этой квартире. То есть как-то они пришли, пришли без предупреждения (да и телефона у нас тогда, возможно, еще не было), но мы праздновали «китайский Новый год», и, увидев через окно большое количество веселящихся гостей, самые желанные, самые долгожданные гости повернули вспять.








