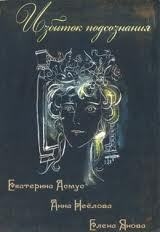
Текст книги "Избыток подсознания"
Автор книги: Екатерина Асмус
Соавторы: Елена Янова,Анна Неёлова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
А тогда, в пятидесятые, в самом их начале, каждая минута была насыщена микеланджеловской силой, духовностью храма и непременной радостью каждого дня. Радостью – несмотря на то, что с четырех лет я начала непрерывно, на протяжении каждого из девяти долгих зимних месяцев, тяжко болеть пневмониями в нашей холодной маленькой комнате, единственным окном выходившей в непроницаемую для света и солнца стену фабрики «Светоч». До этой стены можно было дотянуться если не рукой, то лыжной палкой, так близко она была расположена к нашему окну. Поэтому осенью и зимой я почти не выходила из дома. Братья приходили ко мне, принося с собой воздух улицы, бодрость, веселье и неповторимый запах, который всегда им сопутствовал. Этот настой красок, чудесных Верочкиных духов, которыми была пропитана квартира на Пушкарской, и дух здоровых молодых мужчин сразу создавал в нашей маленькой комнатке атмосферу праздника, веселья, карнавала. Хотя не было ни карнавальных масок, ни сколько-нибудь громких бравурных возгласов, но даже после ухода милых кузенов хотелось еще долго чувствовать себя здоровой и счастливой, несмотря на тяжелый кашель, удушье и медсестер в белых халатах, которые ежедневно кололи меня только появившимся в то время пенициллином и ставили мне банки. И тогда мир, мой цельный и добрый мир начал раскалываться на две половины: одной из них стала боль, реальный страх задохнуться, страх смерти, которую, по странному закону противоречия, олицетворяли те, кто меня от этой смерти спасал, – люди в белых халатах; другой – кипучая и красивая, пахнущая краской вместо карболки, изумительными японскими кимоно и платьями Веры Павловны (часто она сочиняла их сама, лишь подкалывая булавками в нескольких местах струящуюся шелковую ткань), чудесными кузенами, игравшими со мной во всевозможные и невозможные игры, пугая маму тем, что я переутомлюсь и мне станет хуже.
Мне не было и двух лет, когда папа научил меня играть в карты. Рисовать было интереснее, но рисовала я одна, сама, абсолютно не признавая с младенчества коллективного творчества. А карты… Во-первых, можно было играть всей семьей – в «дурака», в «дурака круглого», в «Акулину». Захватывал сам процесс игры, и хотя я не сомневаюсь, что в какой-то период мне «:подыгрывали», важен был не столько выигрыш, сколько то, что карты, особенно фигурные, давали невероятный простор для фантазии. Поэтому часто я играла в карты и в полном одиночестве, когда папа был на работе, сестра в школе или занималась своими девичьими делами, а мама, как всегда, «гуляла в очереди» или готовила (в моем раннем детстве – еще на примусе, керосинке или керогазе), мыла, стирала, топила печь (паровое отопление на Большом, 19 провели только в 1953 или 1954 году). Каждая карта имела свой характер и действовала, жила в контексте этого характера. Жили все эти персонажи, вне зависимости от задуманной мной преамбулы, очень своей, затейливой и не всегда известной мне жизнью. Ну разве могла, например, бубновая дама отреагировать на претензию, просьбу или предложение валета пик так, как отреагировала бы на вмешательство в свою жизнь короля крестей?.. И могла ли бы она, к примеру, огорчившись, спрятаться в своей комнате, как дама червей? Или ответить пощечиной, как дама пик? Или, полная невозмутимого достоинства, не заметить чьего-либо кривлянья, как дама крестовая… Я никогда не знала заранее, как тот или иной персонаж, оживляемый картами, поведет себя в обстоятельствах, которые тоже возникали вне моего участия. Мое режиссерское и сценаристское командование сводилось к минимуму и поэтому, думаю, было даже более изощренно наблюдательским, чем в современных компьютерных играх. Но, конечно же, я не только театрализовала действие. Живыми карты были и в самых традиционных и примитивных семейных играх. Играть «по настоящему» меня научил Лерик. Прибегая ко мне, болящей, он не рассказывал сказки, как папа, не экзаменовал, подобно Шурику, не светил тихо и ласково, как розовощекий и кроткий в то время Миша. Он сразу предлагал действие. И одним из действий была игра в карты. Так, в четыре года я уже умела играть в покер, кинга, девятку и во многие другие игры. Не доросла только до бриджа и преферанса. Но и полутора десятков игр вполне хватало, чтобы играть в них с Лериком, старшей сестрой и родителями. По-видимому, Господь спас меня от азартности, т. к. ни в отрочестве, ни позднее не было искушения играть в карты не за «интерес», а на деньги. Даже когда товарищ Александра, тоже Александр, сын астронома Козырева, научил меня игре на двух колодах, в канасту, и в тринадцать лет я крайне увлеклась этой игрой, карты все равно были самодостаточны, были интересны сами по себе, а не тем, что можно через них получить.
Но снова возвращаюсь к детству. Когда я, здоровая (как называл меня отец, «богатырка-синеглазка»), гуляла с папой к Трауготам, или пребывала в мучительной обездвиженности домашних концертов, или слушала, так же незаметно и тихо, разговоры старших, я впитывала тот неповторимый аромат «культурного слоя», который был там, только там, в квартире 59. Интересно, что мы с мамой и сестрой жили в другом доме, на Большом проспекте, но в квартире 60. Только написав эти строки, подумала об этом: шестерка – 6-й Аркан таро. 59 – более удачно, так как получается или 5-й Аркан, или 14-й. Тогда я еще не знала карт таро. Мне было хорошо. Я не озадачивала себя размышлениями о значимости каждого в отдельности гения, среди которых довелось жить, расти, общаться. Поэтому когда весной, совсем ранней, холодной и темной весной 2009 года Лерик, живо обсуждая с очаровательной дамой-искусствоведом времена моего детства, в частности Стерлигова и других (которых я ясно, фотографически четко помню), любезно представив нас друг другу, предпочел общаться с дамой наедине, слегка прикрыв дверь в свою узенькую комнату (в которую мазохистски перебрался прошлогодней зимой, оставив две более удобные комнаты в распоряжении внезапно переехавших к нему невестки и внучки), я не совсем поняла, почему он это сделал. После этого переезда, на который сетовал Лерик и который по сей день мне не вполне понятен, и мне и другим визитерам часто приходилось мыть оставленную в раковине грязную посуду. Этим я и занялась, сделав вид, что для того и пришла. Удивило только то, что вызвал меня Лерик после работы, требуя, как с ним бывало, чтобы я приехала незамедлительно. В тот период я сочиняла нечто вроде эссе на тему эгоцентрической психоастении, которое очень нравилось Лерику. Не захотел ли он столь витиевато создать иллюстрацию к моему опусу? И до, и после этого случая я приезжала по первому требованию Лерика, примерно через день. И не стоило бы об этом говорить, если бы любые мои передвижения не стали для меня крайне затруднены после внезапной потери зрения 11 сентября 2008 года. И именно Лерик снова, как делал всю жизнь, протянул мне руку и вытащил из мрачных страхов и треволнений. Но он же, так неожиданно и непонятно, топил.
Когда в жизни Лерика появилась Алла, ему было 25. Алла, начинающая актриса, к тому моменту уже закончила театральный и успела и быть принятой в БДТ, и уйти из него – по ее словам, чтобы не играть на одной сцене с «шепелявой» Дорониной, которой доставались все главные роли. На меня, тринадцатилетнюю, Алла произвела ошеломляющее впечатление раскованностью манер, умением красиво одеваться и носить одежду. И запахом. От нее пахло сценой даже тогда, когда она совсем отошла от театра, занимаясь оформительским творчеством, затем (многие годы) – семьей, домашним дизайном, а зачастую прожиганием жизни. Ничем. Я не знаю, что творилось в ее красивой голове, в душе. Могу судить лишь поверхностным взглядом наблюдателя. Но Алла была несомненно талантлива, во всем. Играть могла равно блистательно и ангела, и демона. Не случайно на могиле Аллы, когда она так странно и внезапно ушла из жизни в 1994-м, всего лишь за год разрослась самая большая и высокая ива на кладбище, не ограниченная ни размерами могилы, ни генетическим кодом дерева. Я долго сажала у подножья ивы люпины и дельфиниумы, чтобы по этим синим цветам узнавать могилу и посильно ухаживать за ней, приезжая на Ковалевское кладбище к моим родителям, мужу, сыну Ярославу, поселившемуся под одним холмиком со своим гениальным дедом. И к моей сестре Ариадне, красавице, недожившей, недолюбившей, многого не успевшей… Хотя кто из нас успевает все? И, быть может, предназначение человека – в одном слове, взгляде, поступке… Кто знает. Неисповедимы пути ГОСПОДНИ.
Но именно Ада познакомилась с Аллой на одном из вечеров в Мухинском училище, куда молодой красивый Лерик часто приглашал мою старшую, а свою названую сестру Ариадну и знакомых девушек. Всех девушек я, конечно, не знала, тем более что была тогда совсем юной астенической девочкой, пробующей в перерывах между болезнями свои силы в школьном театре и ленфильмовской самодеятельности. В возрасте гадкого утенка крайне важно поверить в себя, свои грядущие возможности, а здесь, дома, – Алла, настоящая актриса в атласном платье, перетянутым по моде того времени широким поясом, подчеркивающим и без того узкую талию. И потом… Ее выбрал Лерик. Именно ее он представил членам семьи, в отличие от других девушек. Помню, как спустя уже годы Лерик рассказал мне смешную историю о том, как одна, вероятно обаятельная, но слабовидящая москвичка, восхитившись красотой и дарованиями молодого Траугота еще во время его учебы в Москве, спустя несколько лет попыталась найти его в Ленинграде. И нашла через адресный стол. И пришла в дом на Пушкарской, из кокетства не надев очки. Ей открыл дверь красивый темноволосый молодой человек… Трудно даже представить, какая буря эмоций, обид, любви и незаслуженных упреков обрушилась на голову… Шурика. Ибо дверь открыл он. А Алла – Алла обладала удивительным, нечеловеческим чутьем. Так, уже взяв меня, тринадцатилетнюю, в подруги, как-то днем, в ее доме, на минутку задумавшись, она сказала: «Лялька, а ведь ты его любишь…»
– Конечно, люблю, – ответила я и осеклась, поняв, что Алла имела в виду несколько иное чувство, чем сестринское.
И уже в 2009-м Лерик, задумчиво и мрачно взглянув на меня, спросил, действительно ли я люблю его. Я ответила вопросом на вопрос и услышала прежнее, как сорок лет подряд: «Люблю, как сорок тысяч братьев любить не в силах. Но нужен ли я тебе – старый, больной?»
– ЛЮБОЙ нужен.
Я не помню точно, в каком именно году – 52-м, 53-м, 54-м – началось семейное занятие собственно книжной графикой. Помню только, что мой отец, всю свою жизнь крайне увлеченно занимавшийся созданием шарнирных фигурок и композиций, часто демонстрировавший их Трауготам, восторженно приветствовал первые книжки-раскладушки, в которых рисунки оживали благодаря взаимозаменяемым деталям, наложению одной части рисунка на другую. Осмелюсь утверждать, что немалая часть консультативной, начальной работы принадлежала отцу. В устных и письменных интервью Александр и Валерий часто говорили о том, что учились у своего отца, но не забывали добавить, что и у дяди, то есть Константина Янова. Отец вряд ли именно учил, как учил впоследствии в изостудиях пионерлагерей, школ, ДК имени Ленсовета… Он был самим собой, то есть человеком, досконально и образно передающим окружающим свое видение истории, искусства, человеческого общения. Вероятно, и учил искусству линии, цветопередачи, композиции… Но, думается, их, с рождения впитавших семейную культуру, и не нужно было ничему учить. В них было заложено главное: способность к развитию, потенциал, который невозможно исчерпать за одну человеческую жизнь.
Меня папа не учил рисовать. Он просто творил рядом. И я рисовала рядом с ним. И свои многочисленные фантазии, и, с особым удовольствием, автопортреты, портреты близких, своего замечательного отца: как он ест, чихает, идет на работу, а главное, рисует. Рисует рядом со мной! Многие из моих детских рисунков сохранились именно благодаря папе, всегда бережно их хранившему. Наблюдать за рисующим отцом было и наслаждением, и откровением. Он мог не есть, до предела сокращал свой сон; насколько я помню, даже во времена, когда ежедневная повинность на студии закончилась, отец спал не более пяти часов в сутки. Бывало, правда, что он засыпал в местах присутственных. Например, в Доме кино, особенно если фильм был откровенно скучным. Хорошим снотворным являлись и фильмы Антониони, с их философской глубиной, настолько уж вытянутой на поверхность, что смотреть, к примеру, на щепку, плавающую в бочке, в течение пятнадцати экранных минут и не заснуть после десятичасового рабочего дня было просто невозможно. Своих, медитативных, образов у папы было предостаточно, поэтому, мгновенно поняв, для чего режиссер засунул в бочку щепку и пр. и пр., можно было и вздремнуть. Я не присутствовала на вынужденных, тоже после работы без выходных, занятиях отца в Университете марксизма-ленинизма, который он благополучно и с отличием закончил. Но мы с мамой очень смеялись рассказам отца о том, как он использовал время занятий, чтобы наконец выспаться. Т. е. все часы занятий отец сладко дремал. Он говорил, что главное – это сидеть прямо, не склоняясь в какую-либо сторону, а прикрытые глаза объяснять глубоким раздумьем. Облегчало положение и то, что сквозь дремоту отец все же слышал отдельные фразы, произнесенные преподавателем, и всегда мог ответить на любой заданный вопрос, благодаря замечательной памяти и сообразительности. Память отца была действительно уникальной. Не задумываясь, мгновенно, он мог ответить на вопрос из любой области знаний. Все искусствоведы того времени, в том числе и действительно сведущие в своем предмете, могли почерпнуть в беседах с моим отцом (и делали это) огромную часть знаний, не дававшихся тогда в вузах, и восполнить многие пробелы в своем академическом образовании. Таким же уникальным кладезем информации был Лерик и, к счастью, остается Александр Георгиевич Траугот. Моя прямая обязанность – в кратчайшие сроки систематизировать и издать личные воспоминания отца. Здесь же – и, вероятно, не совсем в русле прозвучавшей летом 2009 года просьбы – я пытаюсь рассказать о семье. О семье гениев, в которой мне посчастливилось родиться и жить. Рассказать как с нынешней позиции – несостоявшегося психолога, бездарного художника, неудавшейся и неудачливой красавицы, – так и с позиции маленькой, невероятно счастливой девочки, которой довелось иметь не просто неординарных, а невероятных, немыслимых родственников, которые были мной так трепетно и жадно любимы, что и по сей день, в 60 лет, я еще не сталкивалась с тем, что называется собственной жизнью, живя так, как будто только готовлюсь к ней. Я успела несколько раз выйти замуж, вырастить двоих необычных, одаренных, вполне культурных детей. Удивительные, яркие, трагичные, небанальные судьбы у моих родственников со стороны матери. Но здесь и сейчас я взялась и должна вспомнить все, что связывало и связывает меня с близкими со стороны отца. Вспомнить об отце, его сестре Верочке, ее детях Александре и Валерии. За несколько месяцев до смерти об этом просил меня мой Лерик. Потом, придя во сне уже в 2010 году, порицал меня за то, что я еще не написала ни строчки, сказал, что ЭТО могу сделать только я. И вот я пишу, хотя никто и никогда уже не подтвердит того, что могу помнить только я и Лерик…
Не собираюсь вступать в соревнование с искусствоведами и литераторами, написавшими и рассказавшими о моих братьях и их творчестве достаточно много. Поэтому спонтанный срез впечатлений, пронизывающих все мое существо, – единственное, что я хочу и могу сделать здесь и сейчас.
Несколько дней назад я вернулась из Базеля, где пробыла более двух недель, навещая своего младшего сына. Он не умеет рисовать, никогда не умел, так как, обладая порывистым темпераментом, не хотел учиться тому, что не давалось сразу. Но кто знает, что ждет нас впереди? Ведь дивная художница Вера Павловна (Верочка) всерьез занялась живописью, перешагнув сорокалетний рубеж.
Вернувшись из Швейцарии, я заболела. Сказалось то, что радостная эйфория, возникшая от элементарной возможности ходить и нормально дышать (чего, по ряду причин, снова, как в детстве, я была лишена на протяжении нескольких последних лет), сменилась страхом возвращения в занесенные снегом и покрытые льдом родные пенаты. Совсем не хочется писать трактат о неизвестных науке болезнях, но, заболев пневмонией, не могу не провести параллели со своим детством, когда вот так же, задыхаясь от «собачьего», как говорила мама, кашля двенадцать долгих зим подряд, перенося по нескольку пневмоний в год, я жила только летом. Тогда, в юности, меня вылечила мама, и весьма неординарно. Мне было лет четырнадцать, когда она начала посылать мне по почте написанные чужим почерком, на небывалой красоты открытках, романтические послания в стиле поэзии XIX столетья, говорящие о моей невероятной красоте и неординарности. Возникла уверенность в себе, подкрепленная бескорыстной верностью неизвестного поклонника, выражавшего свои восторги крайне витиевато, но с завидным постоянством. И я уверена, что именно мамина артистичная авантюра, а не «взросление», как говорили врачи, спасла меня. Жаль, что я не столь самоотверженна и мудра, как мама, иначе, возможно, не только мои дети, но и мой любимый кузен были бы счастливее. Тогда, в детстве, братья не верили, что я не хожу в школу, принимаю бездну немыслимых лекарств по адекватным причинам. И Шурику, и Лерику, и, конечно, Верочке казалось, что мама преувеличивает степень моего нездоровья, но никто из них не был со мной дома тяжкими, бессонными ночами, когда я, полусидя в подушках, надрывно и ни на секунду не прерываясь, кашляла тем отвратительным и мучительным кашлем, который периодически переходил в хрип и остановку дыхания. А сейчас… Все то же, да еще чувство вины – за то, что, поддавшись неуместной женской гордыне, оставила Лерика, моего Лерика, за пять дней до его смерти. Со стороны, возможно, никто и не понял, что я его оставила. Но я-то знаю, что даже все номера его телефонов в «черный список» занесла. Я не хотела больше слышать его, такого любимого, такого неповторимого, голоса. Ведь голос – музыка души. И нестерпимо больно было слышать эту музыку, послушную чужой, чуждой, вульгарной и лицемерной дирижерской палочке. Очень немногие мужские голоса созвучны душе и обладают горловыми и грудными звучаниями, в которых тембр, скорость произнесения звуков, само дыхание гармоничны. Отец, кузены, сыновья – только они из всех мужчин, которых я знала, слышала, обладали этой уникальностью голоса, речи. Эти голоса не обманывали, и каждый, при очевидном различии, был совершенен. Мягким, бархатным, всегда молодым был голос отца. Даже когда папа сердился, что бывало чрезвычайно редко, его голос становился далеким раскатом грозы, после которой тучи непременно рассеются. Голоса отца, Шурика, Лерика, двоих моих сыновей различны по тембру и интонациям, но их всех объединяют едва заметное грассирование, придающее речи особую импозантность и изысканность, и нотки той доброжелательности, которая не зависит ни от настроения, ни от ситуации и сразу проникает в сердце и греет душу.
Когда же мне было девять, десять, одиннадцать лет, Шурик, милый Шурик спасал меня своими способами, вероятно и не думая, что спасает. Просто (как, впрочем, и Лерик) он невероятно быстро ходил. Шурик летал по городу, не делая скидок ни на мой возраст, ни на бесконечную слабость. Сначала я, задыхаясь, не могла за ним угнаться и стыдилась своей немощи, своей одышки. После же того, как прогулки-пробежки с наступлением весенне-летнего, звонкого, легкого, неустойчивого еще тепла становились систематическими, часто ежедневными, я обретала крылья, передвигаясь так же легко и стремительно, как мой старший брат. Иногда мы заходили в Эрмитаж, Русский музей, на выставку в ЛОСХ. Но Шурик больше экзаменовал, чем учил, иногда порицая: «Как, Костина дочь не знает такой-то и такой-то простой истины?» (Касающейся, конечно же, живописи, истории, других культурологических знаний.) Я не знала многого, хотя и была Костиной дочерью. Папа никогда не вел со мной познавательных, исторических, иных развивающих бесед. Он жил в своем мире красок и образов, думая (или даже не задумываясь), что все примитивно житейское, включая рост и развитие детей, складывается само собой. Так, например, папа никогда не знал моего точного возраста. Мог ответить вопрошающим, что мне – к примеру, пятилетней – уже девять лет. Если вслед за вопросом о возрасте следовал традиционный вопрос об успехах в школе, папа искренне задумывался, и впрямь не понимая, почему его подрастающая дочь бездельничает.
Частой гостьей в доме Трауготов была известная художница Щекатихина-Потоцкая – вдова Билибина, мать ученого-биолога Мстислава Потоцкого, столь часто навещавшего Трауготов и даже нас в нашей маленькой комнате на Большом, что в детстве я искренне считала семью Потоцких нашими родственниками. С невысокой, яркой и обаятельной Александрой Васильевной мы всегда крайне мило и приятно для меня, чувствовавшей ее расположение, общались, еще когда мне было пять-семь лет. Через два-три года после этого с Щекатихиной случилось несчастье: ее сбил мотоцикл. Оправившись от травм, среди которых было и сотрясение мозга, Александра Васильевна снова стала навещать дом на Пушкарской, и мы снова встретились. Внешне по-прежнему любезная и светская, она озадачила меня ласковым вопросом, интересно ли мне работать на фарфоровом заводе. В тот период работать по росписи фарфора действительно начала моя старшая сестра – Ариадна. Случай комичный, но, будучи всего лишь третьеклассницей, я растерялась, не поняв, что меня, девочку рослую, рассеянная дама просто спутала со старшей (на десяток лет) сестрой. Помню некоторое свое замешательство и чувство вины за то, что я, бездельница, не только по фарфору, но и вообще не работаю. Мне было стыдно признаваться и в какой-либо грани своего невежества: казалось, что признанием я не только покажу себя недостойной СЕМЬИ, но и каким-то образом обижу своего отца, раскрыв, развенчав его спокойное неучастие в моем развитии. Легче было признаться в своем невежестве Лерику. Он доброжелательно, без тени иронии заполнял пустоты в моей голове и образовании. Почему-то так стало получаться, после моего девяти-десятилетнего возраста, что я редко общалась с обоими братьями сразу. Я общалась поочередно то с Шуриком, то с Лериком, то с Мишей. Я росла – менялось и отношение ко мне. Так, в одной из иллюстрированных Трауготами книг Андерсена я нарисована в виде глупой принцессы из сказки «Свинопас». Не осмелюсь утверждать, что ко мне, двенадцатилетней, Миша уже сменил братское отношение на очевидный интерес, созерцая, как из неуклюжей худышки я превращаюсь в довольно женственную особу, но дар предвидения по поводу моих грядущих романтических заблуждений был налицо. Годом позже Шурик создал цикл острых и неожиданных рисунков, объединив их под названием: «Невесту надо воспитывать с колыбели». Я видела эти рисунки, снабженные остроумнейшими комментариями. Помню, что Миша изображен крайне серьезным, романтичным и совершенно обезоруженным глупостью и коварством юной нимфетки-идиотки, имеющей со мной безусловное внешнее сходство. Надеюсь, что талантливый сериал в рисунках сохранился где-нибудь у Шурика.
Кажется, всего один раз в жизни я услышала из уст Верочки, боготворимой папой – ее братом, сыновьями, мной – конечно же, в контексте какой-то преходящей, малозначимой фразы – мнение о себе: «эстонкина дочка». Допускаю, что никакого особого подтекста в этой фразе не было, но она надолго запомнилась потому, что до этого мне и в голову не приходило, что мои ненаглядные, самые близкие родственники могут воспринимать меня не как естественную и неотделимую часть СЕМЬИ, а как некий, слегка ущербный придаток, и я подумала (и до сих пор не знаю, правда ли это), что Верочка долгие годы была раздосадована тем, что ее брат, ее целомудренный обожатель, которому СЕМЬЯ когда-то позволила женитьбу на художнице Наташе, не подарившей ему детей (а по воспоминаниям Шурика, и вовсе их, детей, недолюбливавшей), все же женился, и не на протеже семьи, а на женщине с ребенком, да еще и меня, ДЕВОЧКУ, на свет произведшей. Талантливая во всем мама (актриса, художница, хотя и не состоявшаяся из-за войны, разрухи, вечных моих болезней) обладала темпераментом львицы, беспредельным чадолюбием и страстной любовью ко всему, чем ей доводилось заниматься. Право же, она не заслуживала пренебрежения… Был у папы и Верочки и другой брат, старший, – дородный, к тому времени (времени моего детства) очень спокойный, сдержанный и невероятно гостеприимный, – Николай Павлович. В доме Николая Павловича (а его я называла именно так) никогда не убиралось со стола, полного по тем временам небывалых яств. Как стало мне известно позднее, такой образ жизни возник из-за тяжелейших мытарств, голода, дистрофии, перенесенных супругой Николая Павловича – Ниной Ивановной Асмус – и сыном Эдгаром во время войны. Семью Николая Павловича шутя называли: «три толстяка». Действительно, и сам Н. П., в отличие от всегда стройной Верочки и стройного тогда папы, и Нина Ивановна, кстати немецкого происхождения, и их юный тогда сын отличались весьма заметными габаритами. Голод не прошел даром, породив уже на уровне подсознания синдром еды; но в этом гостеприимном доме мы бывали значительно реже, чем на Пушкарской. Близость отца с Верочкой была не только духовной, фенотипической, но и, в первую очередь, творческой. Спустя годы все мы с удивлением узнали, что Николай Павлович (о его военном прошлом и работе фотокорреспондентом, а затем фотографом на Ленфильме немало написано, в частности, в сборниках «Ветеран», «Одна секунда войны» и т. д.) – великолепный скульптор. Его работы по дереву ждут своего часа, и, уверена, скоро дождутся, так как столь гротескных и в то же время реалистичных, увиденных с доброжелательным юмором, а иногда и едким сарказмом живых скульптур, я не видела никогда и нигде. Посмотрев на его первые работы, Георгий Николаевич Траугот сказал: «В этой семье все гениальны, даже Коля, в котором этой гениальности не подозревали». Иногда, на каких-либо семейных торжествах, мы собирались у Николая Павловича все вместе, то есть семья Верочки и моя мама. Право же, не знаю, к какой семье принадлежала я – Верочки или мамы. Вероятно, позиции менялись от случая к случаю. Но того монолитного единения, как у отца с сестрой (которое появилось, думаю, даже не тогда, когда Верочка спасала его от голодной смерти в годы блокады, а в самом раннем детстве), со старшим братом все же не было. Николай Павлович относился к отцу вполне по-братски, но с элементами того снисходительного сочувствия, которое прозвучало в раннем детстве, когда Николай посоветовал Косте стукнуться головой о стену, чтобы юный романтик и фантазер мог отрезвиться и заземлиться.
Папа рассказывал, что часто между еще маленькими братьями происходили дискуссии, в результате которых каждый оставался при своем мнении. Так, например, показывая на икону, Коля вопрошал младшего брата: «Скажи-ка, Костя, что это?»
– Бог, – отвечал Константин.
– Нет, доска, – резюмировал Николай. Я не знаю (и не мне судить) об истинном отношении, тем более с течением жизни, Николая Павловича к философии и религии, но роли были распределены с детства, и, взрослея (и, несомненно, любя друг друга), братья этих ролей придерживались. Совсем редкими визиты к Николаю Павловичу (сначала в квартиру на Казанской, затем на Московский, 198) стали тогда, когда Алла, как большинство актрис, лишенных возможностей играть на большой сцене (это же качество я замечала за своей мамой), разыграла, при определенном количестве в том числе и посторонних гостей, какую-то импровизированную интермедию в стиле бурлеска, что не было адекватно воспринято большинством присутствовавших.
Но возвращаюсь к моменту появления Аллы в нашем родительском, моем доме… Тогда мы уже жили на Зверинской, 33, куда переехали в 1959 году. Папе «улучшили» жилищные условия от студии. Помню мамины слезы и негодование вследствие того, что из крошечной коммуналки мы переезжали в большую (комната, которую предоставили отцу, была более чем в два раза больше, чем та, в которой я родилась и провела первые годы своей жизни). Но альтернативы не было, и мы переехали. У каждого члена семьи появился свой угол, своя территория. Помню огромные окна, смотревшие на противоположную сторону улицы и пугавшие своим проникновением в окна дома напротив. Главное же то, что наш дом № 33 был совсем рядом от любимых Трауготов. Примерно в этот же период они получили мастерскую на улице Блохина. И было рукой подать и до мастерской, и до любимой квартиры на углу Пушкарской и Съезжинской.
Знакомство с Аллой состоялось весенним днем 1960 года. Бабочка Алла в своем атласном платье, говорившая низким грудным голосом, которому умела придавать любые нотки, вплоть до самых нежных и детских, восхитила нас всех. Отнюдь не чопорную, но «правильную» маму слегка шокировала чрезмерная непосредственность и некоторое разгильдяйство, выражавшееся в игнорировании правил и стереотипов. Тем не менее мама, свою актерскую школу и возможности тогда уже направившая исключительно на детское творчество и режиссуру школьной самодеятельности, не могла не вспыхнуть отблеском своих довоенных выступлений на сцене. А мама, будучи красавицей, совсем не имела жеманства и кокетства, свойственных мне. Она не только не боялась гротескных ролей, но и хотела когда-то быть клоуном. Поэтому театр одного актера, клоунады, разыгрываемые Аллой, оживили и омолодили маму, стали необходимыми ей, всю себя отдавшей семье, моим бесконечным болезням и детям вообще. Итак, самой частой и дорогой гостьей в доме стал Алла. Пока мама, запутавшись в Аллиных противоречиях и фантазиях, не ограничила ее визиты в наш дом. И отрезала совсем это общение гибель Георгия Николаевича в сентябре 1961 года. Лерику было не до женитьбы. В моей жизни это была первая смерть близкого человека, первые похороны, на которых я присутствовала. На гражданскую панихиду в Союзе художников мне нечего было надеть, и я оказалась в каком-то веселом летнем платье. Мне хотелось провалиться сквозь землю от взглядов, которые, казалось, были обращены на меня. Помню, что панихида проходила в том же синем зале, где спустя 48 лет прощались с Лериком. И точно так же мне хотелось спрятаться, стать неузнаваемой, невидимой. Не эти чувства, но боль и мгновенная глубокая старость отразились на моем лице и запечатлены на фотографиях доблестного Виктора Маньшеньюаня (который зафиксировал всю церемонию прощания и похорон В. Г. Траугота). Я не оставила у себя ни одной из этих фотографий. Во-первых, надеюсь, что я несколько пришла в себя и не похожа более на столетнюю даму. Во-вторых, не припоминаю в нашей семье традиции фотографироваться в гробах и тем более демонстрировать эти фотографии. Я люблю Лерика живого! В том, что Георгий Николаевич погиб так нелепо, в расцвете творческих и жизненных сил, не верилось совсем. И панихида, и похороны казались нелепой инсценировкой. Ведь совсем незадолго до этого начались наши незабываемые прогулки по Петербургу, и только Георгий Николаевич дарил мне кисти и краски, веря в возможность моего творческого развития. Никто этого не знал, даже я сама, но именно после смерти Г. Н. Траугота я перестала считать себя художником. Расхотела ли я им быть или исчерпала заложенный от рождения потенциал? А нового почему-то взять было неоткуда.








