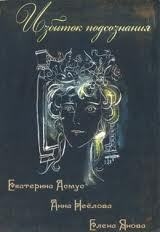
Текст книги "Избыток подсознания"
Автор книги: Екатерина Асмус
Соавторы: Елена Янова,Анна Неёлова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Анна Неёлова

У меня нет писательской биографии. Яничего не написала, кроме этих рассказов и еще нескольких на английском. Мои любимые писатели – Достоевский и Хармс, Кафка, Джойс, Борхес…
Мне кажется, я пишу, исходя из принципа «честности», а не для того, чтобы заинтересовать читателя интригой. Мне все время хочется поделиться с людьми открытиями, которые я делаю в так называемой жизни. Поэтому, я выбираю слова, которые еще не успели потерять свежесть от избыточного употребления, свежие слова, близкие к коже, в странных сочетаниях, непривычных, нетрадиционных, не вполне литературных.
Так не говорят. Так не пишут. Я знаю.
Конь Валет
Сменим карты. Как бы сменим лица. Ха-ха-ха. Простенькая метафора. Обновим milieu. Пересдадим. Ведь понятно? Тебе надо срочно как-то все улучшить. Мне это ясно видно, а тебе как бы нет, но на самом деле ты тоже это знаешь и мучаешься. И так можно начать опять расстраиваться и опять заболеть. Вот я тебя и заговариваю. Предлагаю сменить кое-что. Или нет: сменить – это слишком резко, это ты сейчас не поймешь и будешь сопротивляться и цепляться и противиться и только больше расстроишься. И я тоже. Так я просто предлагаю, чтобы ты сама себя увидела с небольшой высоты взгляда медитирующего, по-над собственной головой. То есть не с высоты птичьего полета, а поближе к себе: зачем так улетать высоко, просто с высоты немного выше себя. На два с половиной сантиметра. Глупо тебе сейчас рассказывать, зачем я тебя прошу на себя посмотреть, усевшись в позу медитирующего, закрыть глаза и – и что? А что дальше, я не скажу, потому что ты не поймешь, пока не сядешь. Поэтому пока будем иметь дело с тобой как ты есть. Просто представь себе себя. Знаю, тебе покажется это заезженным приемчиком всех гуру, которых ты встречала или читала. Мол, начните делать как я, и все вопросы ваши глупые отпадут сами собой. Да-да, я знаю, тебя тошнит от такого довода (я знаю, ты думаешь – кто они вообще такие, чтобы хотеть быть, как они?). Тогда ты просто представь, что ты меня послушалась, и села, и вдохнула воздух через нос, и выдохнула, и так множество раз, и потом посмотрела на себя с высоты своей макушки. (Не буду тебе говорить, что взгляд образуется изнутри твоей собственной головы – не буду, чтобы не впасть в патологию трюизма, который обречен на пустое произнесение, ибо смысл из него был вымыт из-за слишком частого употребления). Я знаю тебя, знаю, как ты не любишь заезженные выражения, – и знаю, что я уже запятнала себя, потому что вдохнуть воздух – это, ясное дело, тавтология. Прости, прости. Но хотя бы заезженного выражения «взгляд в себя» удалось избежать, ты заметила? Я с тобой тут, в смысле стиля. Я с тобой. Я это говорю не просто как психиатр, который пытается завоевать доверие своего пациента, – нет-нет, я тоже люблю стиль и грамотность. Ты давно замечала, что там, где гуру, там безвкусица. Это так верно! Я тут совершенно с тобой. Ну пожалуйста, пожалуйста, представь себе, что где-то там есть гуру со вкусом и он говорит те же самые слова, все те же самые слова про дыхание, только он перемежает их ссылками на Гадамера. Он тоже говорит – вдохнуть воздух через нос, так и говорит, не боясь тавтологии, и он ничего не пророчит, просто очень хочет помочь. А помочь – это быть как он. Свободным. Спокойным. Понимать Гадамера. Ах нет, не сломить мне твое отвращение без ссылок. Ну тогда поверь. Я знаю, если бы ты встретила того самого гуру со вкусом, ты бы ему немедленно сдалась. Делала бы, как он скажет. Так можешь ты мне поверить, что есть гуру со вкусом? И вот представь, что вместо меня те же самые слова говорит гуру со вкусом, и он говорит: поверь, что если ты будешь дышать со смыслом, то жизнь твоя радикально улучшится.
Сядь и подумай, посмотри на себя с высоты своей макушки и скажи мне, что ты видишь. Видишь ли ты то же, что я? Что твоя игра не идет так, как хотелось бы? Только не спеши пожелать изменений, просто смотри. Ничего не желай, ничего не хоти – ты же помнишь, очень важно правильно сказать, чего ты хочешь, я и сама еще толком тут не знаю, знаю лишь, что это самое главное – знать, чего просить, потому что – сбудется. Так надо быть очень осторожной. Да?
Так пересядем. Нет, пересядем – не то. Пожалуй, пересдадим. Да. Точно: надо пересдавать. Надо пересдавать – я вот вижу: то, что происходит, ужасно. Мне тебя жаль – нет, пожалуй, нет: мне тебя ЕЩЕ не жаль. Но в будущем мне может быть тебя очень-очень жаль. Так сядь и посмотри на себя с высоты своей макушки и пожалей себя моей жалостью. Это будущее – для тебя всего лишь печальная возможность, в которую ты можешь и не впасть, и тебя не придется жалеть, потому что ты не проведешь свою вечность в ожидании следующего, единственно правильного и окончательно победного хода, который они сделают, и вы вместе выиграете.
Так вот: мне сейчас тебя еще не жаль. Я просто предлагаю посмотреть, что происходит. Просто посмотри, что можно сделать, я имею в виду – что можно с ними сделать. С теми, что у тебя на руках. Я знаю, знаю, некоторых ты набрала сама, по собственной воле – положим, в некоем недальновидном предвкушении их воображаемой ценности. Ты же не просто так их набирала – посмотри на них, посмотри еще раз. Что-что? – But I love them? Нет-нет, подожди, посмотри пристальнее, честнее, чем обычно, чем всегда: разве можно с ними что-то сделать, куда-то пойти, как-то где-то? Ах да, ты гневно тут, наверное, спросишь: о чем это? Какой отвратительно упрощающий неприличный жаргон, какая пошлость – какое-то делячество! Что за «как-то где-то»?
Ну хорошо. Будем выбирать выражения. Никакого бизнес-заикания. Скажем так: с ними ничего нельзя сделать. С теми картами, что у тебя на руках. Знаю, знаю, это все, что у тебя есть. Ты их любишь и все такое. Но, милая, ты же не можешь ими ходить! Ах, милая, не можешь! Они – те, что тебе сдали, и особенно те, что ты набрала себе сама, – они же не могут ходить. Или почти не могут. Или: они практически никогда не могут ходить. Они стоят. Или так: да, они все же могут ходить, но в очень-очень специальных обстоятельствах – когда столько всего сойдется, чтобы они смогли сделать свой первый и последний победный шаг… Так что, ты будешь ждать этих специальных условий? И как долго? Всегда?
Даже если бы ты была гений игры и никогда не упускала ситуаций, в которых они могут сделать свой единственно правильный шаг. А ты довольно sloppy – сама знаешь. Да и они сами, те, что ты так любишь, подустали ждать, когда же придет их момент, – и часто спят целыми днями. В общем, я не хочу тебя обидеть, но они скорее всего проспят свой ход, даже если все сойдется и он придет, что, конечно, маловероятно само по себе, потому что это все какие-то не те.
Ты их любишь, я знаю. Я знаю. И их есть за что любить. Да. Так ты видишь. Даже за эту их способность спать. Ты говоришь себе, что это божественный сон, что это божественный вдохновенный сон, от которого они просыпаются, преисполнившись новых сил и прозрений. Я знаю, знаю, ты любишь их не зря. Они хорошие. Они стараются. В меру сил. Они даже иногда рискуют на доске и вдруг идут по прямой через всю доску, хотя им нельзя. Ну очень маленькая вероятность, что этого никто не заметит. Мы все это понимаем. Они тоже. И ты. Это риск глупый, на него глупо идти. Вот они и стоят. А ты ждешь, когда они пойдут. Пойдут и выиграют. Нет, они стоят. Ты ждешь. Вы стоите и ждете.
Но даже так, даже будучи всего лишь прыгучим конем, обреченным заранее на вечно острожные углы и заведомо трудные и почти непомерные к исчислению выигрышные подвижки, они дерзают. Они дерзают мечтать в некие редкие дни, когда они не спят и когда им кажется, что все еще возможно, – в некие дни, располагающие к вдохновению. Но таких дней мало, хоть ты и хотела бы, чтобы их было больше, потому что тебе нравится, когда они вдохновенно мечтают о том, как они сделают свой единственно правильный и победный ход. Они ведь много не могут. Не то чтобы они не старались. Просто они такие. Слабые. Ну хорошо, хорошо.
Не слабые. Просто они так не ходят. Они – конь, а не слон или ферзь какой-нибудь. Они могут ходить только в масть. И только по субординации. Ну, типа десятка старше девятки, и только черви. Потом валет. Потом дама. Нет, я не хочу сказать, что у тебя одни девятки. Это будет очень глупо, если я так скажу. Нет, я этого не говорю. Совсем не говорю. Они прекрасные, я никогда их не унижу таким утилитарным сравнением. Мы и сами их любим. Очень. Нет, я никогда не опущусь до того, чтобы сравнить их с какими-то девятками, нет, это просто негуманно, и неприлично, и неприбыльно.
Например, девятка пик. Ты говоришь: «Ну и что, что она девятка. У нее маленький сын растет. И вообще, посмотри, она такая величавая и правильная. Так важно ступает». Отец его убежал куда-то от девятки, и девятка растит сына одна. Сын окружен любовью и вниманием, его водят на плавание и пианино, как встарь, друзья девятки дарят ему вещички и календарики. «У нее большой потенциал. Она прекрасно играет на скрипке», – продолжаешь убеждать ты, почти уже в слезах. И вообще все остальные карты подозревают, что на самом-то деле она дама. Просто временно, по утрам после бессонной ночи или после досадно избыточной алкоголизации, у нее староватый, девяточный вид. Да, я знаю, знаю: может быть, все так и есть. Все точно так и есть, ты не могла так ошибиться в знаках – принять девятку за даму. Так ошибиться. Что значит так ошибиться? Значит ли это, что ты на девятки вообще смотришь свысока: по-твоему, не должно у тебя в арсенале быть девяток, только королевы какие-то. То есть ты не демократична. Сортируешь людей на девяток и королев. Смотришь на них только как на карты в твоей жизненной игре. Да? Да! Но только все пики уже отыграли, не правда ли?
Вот тут мне и становится жаль тебя – нет, извини, мне тебя еще не жаль, но будет жаль, если ты будешь продолжать ждать, когда будет ее ход, этой твоей любимой дамы. Да нет, я ее вовсе не «не люблю». Ну хорошо, мне не жаль тебя и не жаль ее. Мне вас не жаль. У вас все хорошо.
Да, я знаю, если уж кого жалеть, то надо жалеть того дядечку, который зимой жил в своем бывшем доме и которого из его бывшей квартиры то ли выгнали, то ли он ее потерял. Да-да, именно того, которого твоя мать поила чаем с хлебом, а соседи на нее орали, что она приваживает всяких там бомжей, и он тогда все кашлял на всю лестницу, болел, говорил, что он скоро не будет тут жить и просить чаю, потому что его должны забрать в больницу, вот-вот, совсем скоро, а потом его слышали в другом доме, а сейчас лето, и неизвестно, пережил ли он зиму со своим этим кашлем. Сейчас давно уже жара и мухи, и я знаю, тебе немного опять жаль себя, потому что ты живешь во дворе с дурацкой помойкой, и на помойке громко роется спозаранок другой бомж, роняя какие-то грязные склянки, которые ему для чего-то нужны, прямо сейчас, посреди жаркого летнего утра, а ты вспоминаешь того зимнего бомжа, и тебе становится очень странно, потому что тебе вдруг перестает быть жалко и зимнего бомжа, и летнего, они вдруг становятся как живая картина, на которую ты смотришь из равнодушного простора выставочного зала, потому что это их жизнь, – говоришь ты себе, – это они так хотят жить. Тебе также перестает быть привычно жаль себя – созерцаюшей убожество бомжей на помойке под твоим окном в полу-гетто, ведь это твоя жизнь – жить и видеть бедных бомжей; ой, нет, не бедных, просто таких можно так жалеть, как твоя мать.
Или валет червей. Ты так хочешь его поиметь. Так хочешь. Он такой твой. Такой. Такой. Ты на него ставишь, ведь правда? Признайся, что ты на него ставишь. Что вот он возьмет и станет королем. А ты королевой… Ты разливаешься в сладких мечтах… Про то, как великолепно сходит твой любимый валет. В своем легком ленивом стиле победителя-делающего-один-единственно-правильный-выигрышный ход. И что ты собираешься любить валета и стать королевой. Но тогда, может быть, тебе нужно смотреть за королем, потому что где это так играют, чтобы валеты выходили в короли?
Во что мы вообще играем? В дурака? Ну хорошо, не так. Что он станет важной частью твоего расклада. Может, мы тогда играем в покер? Но где тогда остальные карты? Или планируешь сложные расклады? Да? Ну ладно, тогда извини. Хотя я знаю: ты не любишь играть в покер.
А ты вспоминаешь того зимнего бомжа, и это было и есть всегда – твоя жалость к нему из твоего отдельного от него бытия. Ты его вечно жалеешь. Из окна, из своего рассуждения о жалости. Но, кажется, только когда твоя мать дала ему чай в банке и с хлебом – тогда произошла настоящая жизнь, ее настоящая жизнь. И его. Потому что что-то сдвинулось в мире, и он подвинулся от игры к настоящей жизни. Или когда тебе было жаль себя и тебе помогли. Бездумно. Не знаю, не знаю, ничего не знаю.
Год
Она очень хорошо помнила, что это все случилось в один и тот же день – примерно год назад. Не то чтобы она это «помнила» (потому что «помнить» подразумевает некую дуальность и таким образом отстраненность: «сейчас» и «тогда» – «она сейчас» и «она тогда» – ее мечты тогда и ее мечты сейчас – ее мечты о тебе тогда и ее мечты о тебе сейчас – она и ты), а понимала, что должна бы помнить просто потому, что прошел тот самый год, за который все прекращается и превращается в воспоминание. «Год прошел, – сказала она, – значит, я вспоминаю. Ну правда, ведь я же должна вспоминать. Не могу же я все время там жить». Но она призналась мне, что это воспоминание лишь приблизительное: это пустое пока долженствование воспоминания. Потому что хоть это произошло и давно, она сказала мне, что не может отделиться от того времени и ее самой, находящейся в том времени. Для нее, сказала она, нет разницы между нею тогда и нею сейчас: «тогда» все еще длится. Таким образом, она утверждала, что не могла вспомнить то, что было в том прошлом, но, отвечая на мои просьбы рассказать хоть что-то, чтобы иметь хотя бы искаженное представление о происходящем или происходившем, согласилась все же поделиться своими мыслями о том, что длится до сих пор. Для отчета некоего, сказала она, как бы небесного дневника, – чтобы те, кем мы со столь беззрассудным мистицизмом эти небеса населяем, порадовались на наши свидетельства. Или посердились. Просто отметили для себя наши метания. Я поэтому просто слушаю. Так что не только ты узнаешь про себя и про нее, но и небеса, хотя в небеса ты как раз не веришь. Но ты понимаешь, о чем я говорю, – ты, человек культуры.
Просто – просто… Нет, не выговорить, она еще пыталась остановиться, но ее уже несло в наш лихорадочный разговор; может, впрочем, эта лихорадочность была вызвана тем, что на беседу нам был отведен один час, даже чуть меньше, учитывая, что смена пациентов занимает минут десять: пять на то, чтобы предыдущий скомкал свои салфетки и носовые платки и договорился о следующем визите, и пять на то, чтобы следующий потоптался в приемной, мы произнесли свои приветы и он плюхнулся на кушетку. Хотя она всегда отказывалась от носовых платков и никогда не плакала.
– Такая глупость, а так трудно вспоминать. Ну, в общем, это невозможно прямо выговорить – то, что с другими случается – но не со мной – это только других – вот вам дурацкое слово наконец – бросают, не меня – ну вот и случилось – выговорилось же слово – бросили. Уф, слава богу. Знаю, знаю: нельзя «бросить», если вы друг другу никто, просто близкие приятели. Такие близкие и откровенные, что каждый из вас перешел для другого в привычку. А он бросил, хоть я была ему и никто, а так, просто частый собеседник. Ты же помнишь, он кайфовый человек, мы могли говорить подолгу обо всем. Часто, конечно, он говорил, я слушала, но и меня он любил слушать.
Я усомнилась и даже сделала лицо на это ее замечание, что ты был ей никто. Даже, кажется, прочистила горло, как бы намекая, что ты мне сказал. Но она продолжала тараторить свое и не настаивала, потому что если пациент не хочет рассказывать, я никогда не настаиваю, чтобы не разрушить наше нетвердое доверие, даже если я считаю, что правда могла бы иметь терапевтический эффект. Конечно, она не знала, что ты мне сказал, и не хотела нарушать ничьей хрупкой благопристойной благополучности, может быть и любви, я не знаю. Тут бы она расплакалась и стала припоминать, как ты боишься потерять дружбу ее мужа, и как ты боишься расстроить свою подружку, и все такое – у нее довольно длинный список претензий к своим знакомым, и вся сессия ушла бы на другие истории, и она бы так и не добралась до истории с тобой. Она, конечно, преувеличивает свою наивность и серьезно заставляет себя поверить в то, что ты мне ничего не рассказал. Ты же ее ко мне привел. Откуда она знает, о чем я с тобой говорю. Небось знает, что о тебе. Вообще я заметила, что мои клиенты, когда наконец влюбляются, обязательно советуют своим предполагаемым женщинам обратиться ко мне, и в этом для них покоится какое-то непонятное даже для меня, но очень сильное удовлетворение. Возможно, они относятся к своему чувству как к болезни, и когда вы оба ходите к одному врачу, им так спокойнее и легче пережить ее. Они ходят ко мне, потому что им скучно со своими женами или плохо одним, и они жалуются, что жаждут любви. Но когда я их освобождаю от этого груза и судьба дает им таких женщин, как она, мои мужчины (я называю их своими мужчинами, потому что они и есть мои: они скрываются от себя на МОЕЙ кушетке, и я единственная, кто дает им силу и слабость действовать наилучшим образом для них же самих и для общества, в котором мы живем вместе с их женами и их детьми) тащат их ко мне в кабинет, и постепенно их неудобство проходит. Ну ладно, довольно раздваивать тут сюжет. Они начинают бояться и осторожничать и благодаря мне понимают, как они на самом-то деле любили своих жен или свою свободу.
– Но ведь мне же первой стало скучно, и порою, идя на встречу с ним, я думала: «зачем?», но продолжала идти, потому что я не могу так легко бросить, мне жалко кого бы то ни было вообще бросать, а его и тем более жалко было. Да и невозможно было не ходить: к тому времени он поселился в моей голове, сидел там и говорил. Мы беседовали, смеялись – как я могла его бросить?
А кстати, раньше мы в моей голове часто смеялись, а теперь он там просто сидит, и все. Может, это отсутствие смеха – признак выздоровления? Да ладно. К тому же он постоянно жаловался на жизнь – в том смысле, что его все всегда бросали, и я чувствовала ответственность за всех этих женщин и мужчин – за всех, кто не сумел удержаться с ним наравне, за всех, кто не понял его шуток, за всех глупцов, которые видели в нем только угрозу, и мне было ему это не сказать. Неудобно. Какое странное слово. Наверное, оно означает осутствие self-esteem'a. Ну вроде как я сама без него ничто. Да? Я знаю, сейчас вы скажете – так нельзя, надо иметь любовь к себе. Self-esteem. Не должно быть «неудобно». Мол, надо менять, а «неудобно» – это просто застарелая привычка так называемой воспитанной девушки. А что я должна была делать? Ну, может, я это говорю из чувства мести. Да, было немного скучно, но все равно это было так прекрасно! Мне было скучно, но я ничего не делала, чтобы что-то изменить. Потом он стал что-то подозревать и капризничать. До невозможности. Он, по-моему, сам себя ненавидел в такие минуты, а я не прерывала, и он меня за это тоже ненавидел. Ну, а потом… Пришлось ему проявить волю и насилие. И все разрушить. Разорвать. Ну, типа потому, что я сама не проявляла.
– Что подозревать? Может, не подозревать, а бояться?
– Подозревать и бояться, что я не так прекрасна, как он себе мечтал в своих сладких снах о прекрасной, но недоступной иностранке. И не так недостижима. Да, недостижимость, наверное, главное. Я зачем-то стала слишком доступна – так ему радовалась… Сыграла против гадких правил по манипулированию мужчиной. Я, конечно, себя оправдываю тем, что мне было ТАК хорошо, что я имела некоторое право поступать против навязших в зубах правил всех ловких ловительниц мужей. Я знаю, знаю, вы мне сейчас скажете, что таков биологический закон: мол, мужчина должен охотиться, бегать за мной, как за тигрицей, которая может его сладострастно пожрать своими страшными клыками, – или хотя бы как за нежной ланью, – а то ему неинтересно и вообще не нужно. Знаю, знаю: отвечать одним мейлом на его четыре. Быть всегда занятой. Притворяться, что куча дел, ускользать, не дай бог навязываться. Список, короче.
В тот самый день, который я не «помню», потому что он повлек за собой столько событий, что говорить о его окончании еще преждевременно, я видела их обоих – его и моего ненавистного босса – в последний раз. Их объединяет то, что они оба жили в моей голове. То есть я точно помню тот день, когда произошла эта замена. Я так радовалась… Он это заметил и предложил выпить.
Когда босса удалось оттуда вытолкнуть и поменять на тебя, я помню из рассказов вас обоих. Вы мне оба рассказали, как вы выпили. Ты тогда пришел ко мне и рассказал. Мы даже выпили вроде. Помнишь? После сессии пошли в «Арчис» на саммит. Противный бар, конечно, но зато близко. Я знаю, давно пообещала себе – себе! – ходить только в красивые места, но иногда срываюсь и второпях соглашаюсь на какую-нибудь сверхдешевую дыру… Да ты и не пошел бы, если бы это было хоть на квартал дальше от моего офиса. Ты же всегда спешишь домой. К своим приятелям и собакам и влюбленным девицам. Упс… Прости. Ну да, отпраздновали ее освобождение, ты и правда был очень рад за нее.
– А в тот самый день, о котором я тут пытаюсь сказать, я сначала тоже очень радовалась, что босса я никогда больше не увижу. Тогда – в тот самый день – мы опять выпили вина за то, что с боссом покончено навсегда. Не знаю, помнит ли он. Но кто же знал, что не только босса я увидела в последний раз. Его тоже.
Или, по крайней мере, тогда я думала, что в последний. Три или четыре месяца я думала, что в последний. Три месяца я думала, что никогда в жизни больше не увижу его. ТРИ! И это после того, как мы виделись каждый день, и болтали, и смеялись, и рассказывали друг другу про наших отцов и любовников. Это-то и послужило причиной. За три месяца может многое произойти. Можно, например, побывать Травиатой. Не смейтесь, шринкам нельзя смеяться над их клиентами.
Боже, как мне опротивел этот ее глупый босс – сколько раз можно его обсуждать вообще? Хотелось закричать в ее глупое ухо: замолчи, несчастная дурочка, замолчи навеки со своей напористой незрелостью, перестань мусолить очевидное!
Ты, наверное, тоже наслушался этого высокопарного бреда, не представляю, как ты все это выдерживал, – глупенькая, надоедливая барышенька измотала всех до последней истерики. Все, что удалось с ней сделать, это превратить ее корпоративную тусовку в упрощенную метафору. Чтобы она могла справиться. Ну ты видел, куда все это неслось. Ты знаешь, с метафорой работать легче, чем с действительностью: мгновенно решается любая задача, если метафора верная. Нет, тебе метафор я не давала, мне бы это было слишком сложно. А ее мне нужно было как-то занять. Она изрядно дивилась на свою несообразительность и неспособность эту метафору расшифровать. Постоянно извинялась, что смотрит на жизнь магически. Все цеплялась за то, что «это» было «к чему-то». Ну допустим. Этот босс, который сидел в голове годами. Пока она все решала, для чего ей знак такой, что он там расселся… Никак не могла решить, что вообще на это время тратить не надо, а надо просто от него бежать или победить силой и равнодушием видения мира-как-он-есть, которое не дается разлядыванием его через глупые и, простите, бабские очки магии – магии, основанной просто на лени и надежде, что все само устроится. Мы его и так вертели, и этак, отправляли на корабле из канцелярских скрепок в вечное плавание. Он все пульсировал до бесконечности – вот дьявол!
Ну да ладно. Так вот. В тот день борьба с этим ее бумажным боссом закончилась навсегда, слава Богу. Но ты – ты нет. Ты не должен был по ее плану кончаться, а получилось, что кончился. Я тут ни при чем, хотя мне тебя было ужасно жаль. Все то время, что вы вместе ко мне ходили.
Сейчас я смотрю на тебя и вообще не понимаю. Может, ты опустился с тех пор, а может, я просто не замечала. Но я не понимаю, как она вообще могла. Ты так пахнешь, так ходишь, так смеешься. Когда ты перестал пахнуть успехом? Ты перестал носить голубые рубашки навыпуск. Те мелкие голубые полоски на белом фоне – они были невыносимые, томительные. Каждый раз, когда ты мне о ней рассказывал, мне было плохо, меня тошнило, мне хотелось выйти с тобой на улицу и идти, чтобы твои голубые полоски мелькали рядом со мной. Чирикать бы рядом с полосками. Нас принимали за пару. Когда ты начал хромать? Ты вообще знаешь, что это значит? Что она мне тут тараторит? Я устала от ее высокопарных обид. Вот послушай:
– И я рада, что мне не надо с ним больше ругаться и пытаться его куда-то вытаскивать. И смотреть, как он боится, что друзья могут подумать. И узнавать, что он куда-то ездил, а меня не позвал. И видеть, как он меня стеснялся перед кем-то. Одновременно гордился и стеснялся. Стеснялся моей высокопарной глупости, даже когда мы вдвоем: я видела, как он стеснялся, когда я не понимала его шуток. Все эти местные шутки для него – как знак того, что с человеком вообще можно говорить. Зачем тогда со мной связываться, если со мной не о чем говорить и раз я не знаю ничего вашего местного?
Да она вообще знает, что в этом городе кроме тебя никто ничего не читал? А теперь она хочет, чтобы ты позвонил и она бы могла тебя куда-то там устроить – Набокова, что ли, переводить? Воображает, что она стала великой писательницей или бог весть еще кем, вроде Татьяны Лариной за генералом. И жалуется, что ты не помогал ей, как она выражается, встать на ноги, и желает проявить великодушие и помочь из этого своего будущего величия. Мол, ты стеснялся ее и не верил, а она теперь вот – великодушничает.
Вот я смотрю фильм как бы про нас. И не верю: как я могла? Что за магия такая с этой потребностью иметь рядом с собой мужчину? Это нам все внушили в детстве. А вам что внушили? Почему вообще это нужно – вся эта дрожь и страдание, страдание от того, что нет, а потом от того, что все не то?
И почему ты не страдаешь? Ты просто говоришь, что страдаешь. Или нет – ты заставляешь себя страдать. Ты заставляешь себя мучиться, чтобы потом переработать это мучение в хлеб творчества. Ты сам это говорил. У меня мейл сохранился. На что ты потом пускаешь наши муки – на картинки, которые рисуешь? Вот я смотрю на тебя теперь. Иногда я вижу, как ты постарел. Иногда не вижу. Почему я видела только твой блеск и обещание? Я же знаю, тебе страшно хочется всем доказать. Куда это все делось? А теперь вижу: когда ты поворачиваешь голову, у тебя старческие складки образуются. Так всегда было или ты вдруг постарел? Стареющий мальчик. Поскорее унесите стереотип!
Да, ты показывал мне свой роман. Да, он обо мне и как твое сердце разбито. Метатекст. А потом ты говоришь – нет, не могу, не могу закончить, а я знаю: ты боишься. Прости.








