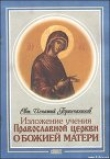Текст книги "Змеиный поцелуй"
Автор книги: Ефим Сорокин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
23
Когда Иосиф-солнце, должно быть, спрятался в ров запада, а Иона-месяц, должно быть, показался из чрева востока, Офонасей снова услышал наверху шипение змеи и торопливый шёпот молочницы Анасуйи:
– О, уважаемая змея с девичьим сердцем…
Уговорив змею, молочница грузно уселась на край колодца и спустила вниз узелок с кувшином:
– Ятри, сегодня через деревню проходили два странствующих отшельника. Я подала им милостыню, и они, поблагодарив, спросили, не останавливался ли у нас белый ятри. Я сказала им, что тебя посадили в колодец по ложному обвинению. Они спросили меня, смогу ли я передать тебе свитки, обещанные каким-то господином. Я взялась передать их тебе.
– Позволь, великодушная, поблагодарить тебя, – по-восточному сказал Офонасей. – Но я не смогу прочитать их, ведь здесь, на дне колодца, темно!
– Я принесла светильник, огниво и кремень.
Когда Офонасей запалил фитиль и разгладил бересту дрожащими от нетерпения пальцами, Анасуйя сказала сверху:
– Мне пора, ятри, начинается дождь.
– Тысячу благодарных поклонов, – по-восточному прошептал Офонасей, склонившись над берестой.
24
«Капли неба упали на землю, когда послышался крик младенца.
Роды принимали две повивальные бабы: Агафоклия – мать княжеского бирюча Игнатия, и Мария – мать дьячка Дулы из Спаса Златоверхого, женщины сугубо набожные и уважаемые за свою глубокую непоказную набожность.
Микита поднялся из-за стола, когда полнотелая Мария вышла из-за занавеса спальни.
– Что же? – сурово спросил Микита, не понимая молчания Марии, и повысил голос: – Что молчишь?
– Мальчик, – сказала Мария.
Слёзы дрожали в кротких большущих глазах повивальной бабы.
– Что-то не так? – с беспокойством спросил Микита. – Чего не договариваешь?
Сердце уже было спрошено и отвечало всему естеству: что-то произошло. Высокая Агафоклия, отодвинув худым плечом занавес, вышла со спелёнутым кричащим младенцем. Личико его было прикрыто пелёнкой. Взгляд Микиты беспокойно метался от Марии к Агафоклии, от Агафоклии – к младенцу, от младенца – к Марии.
– Его лицо… – произнесла наконец Мария. Её уста, тронутые едва заметной улыбкой, не могли сказать ничего дурного: – Лицо младенца светится.
Микита неуверенно шагнул к Агафоклии и взял кричащий свёрток в свои большие руки. Агафоклия подняла край пелёнки с лица новорождённого. Микита глянул на лицо сына и поднял вопросительный взгляд на баб.
– Ну и? Что вы несёте? – Микита держал младенца неуверенно, неловко, с трогательной бережностью.
А Мария, глядя на младенца, сказала Агафоклии:
– Микита не видит. – И Агафоклия кивнула, подтвердив догадку Марии.
– Вы это, разыгрываете меня? – спрашивал Микита со скупой улыбкой, которой сам смущался.
Несмело качал младенца. Микита попытался напеть что-то вроде колыбельной. Умилил всех: и Марию, и Агафоклию, и столпившуюся в дверях прислугу, потому что никогда не пел – ни в церкви, ни в застольях. Понял, что сильно перевирает. Будто как сердясь, передал сына Агафоклии.
– Ваш свет только с чистой природой соединяется, а я – природа вроде как нечистая, потому и славу ангелов не вижу, – без сокрушения проговорил Микита. – Что столпились? – попытался ворчать на прислугу, но от скрываемой радости не получилось: – Брешут бабы, а вы ухи развесили, как… слоны.
И все засмеялись. Больно уж сравнение диковинное. Ну и как-никак хозяин пошутил. Такое нечасто.
– Скоро этот свет станет невидимым, – сказала Мария. – Лишь бы он не удалился от новорождённого, и его место не занял грех, – говорила, а головой указывала Миките на занавеску. И Микита заглянул к жене, которая родила ему сына.
Когда пришёл отец Пафнутий прочитать молитвы роженице, свет на лице младенца стал уже невидимым. Батюшка перекрестился, выслушав рассказ Агафоклии, задумался, сделал губы куриной гузкой и сказал:
– Пойду уточню!
На осьмой день понесли мальчика в храм. Батюшка, прочитав молитвы, наложил крестное знамение на чело младенца, уста, перси, взял дитятко в руки, по воздуху сотворил образ креста с младенцем в руках. Отцу Пафнутию напомнили про свет, который шёл от личика младенца. Отец Пафнутий глубоко задумался, сделал губы куриной гузкой и сказал:
– Пойду уточню! – и скрылся в алтаре.
Подождали-подождали, но отец Пафнутий не появлялся.
В третий раз батюшке напомнили про свет при рождении младенца сразу после крещения. Батюшка опять задумался, сделал губы куриной гузкой и, сказав:
– Пойду уточню! – удалился».
25
Офонасей читал и плакал, будто получил весточку с родины, будто из домашней поварни пахнуло теплом и дымком и ещё чем-то родным, уже забытым… солодом, что ли. Офонасей читал и плакал, слёзы, большие, точно ферганские виноградины, запятнали бересту. Читал и плакал, даже раненный татарином глаз плакал. Вкрапливались воспоминания, даже запахи вспоминались. Овчиной пахла рубаха отца… Но кто так гожо написал? Офонасей читал и перечитывал бересту и не мог начитаться. А между строчками вспоминалось.
– Тять? А тять? – он, мальчонка, зовёт отца. Все уже улеглись. В избе темно. – Тять?
– Ась? – чуть ворчливо.
– А Ындия далеко?
– Она тебе на что, Ындия? – скрипит под тятей лавка – шумно переворачивается он на другой бок.
– Ну, далеко?
– Далеко, путь истомен, – и после паузы – помягче, точно вспоминая о чём-то своём: – Если бы Тверь была в сто крат богаче, то и тогда не хватило бы денег на бумагу, чтобы сокровища ындийского царя переписать. Вот она какая – Ындия!
– Тять?
– Ась?
– А какой веры ындийский царь?
– Какой-какой… Известно какой – православной! Какой же ему веры быть, если переправы у них на реках открыты всем желающим, пошлину берут по-божески. Дороги от разбойников свободны, потому как нет в Ындии ни татя, ни человека завистливого.
– Эх, тять! Вот бы и у нас в Твери так же устроить! Мы же тоже православные. Почему же у нас не так?
Микита мнёт в кулаке бороду.
– Кх, они, видать, давно православные, а мы всё воюем и воюем, всё булгак да булгак, народец и ожесточился чуток. А в Ындии… Там до рая недалеко.
– Наивные люди, – прерывая воспоминания, вслух сказал Офонасей.
И гулко прозвучали его слова в заброшенном колодце. Дрожащими пальцами Микитин развернул другую бересту.
«– Ты что, Офонька, задумчивый такой?
Офоня повернулся к матери.
– Ах, мама! Какую книгу я прочитал! Если бы ты умела читать, ты бы позавидовала мне, порадовалась вместе со мной.
– Видать, хорошая книга, коли ты так задумался, – улыбаясь, сказала мать, протирая убрусом парадную посуду на полках. – Отец Пафнутий книгу почитать дал?
– Да, мама! Ему купцы из Киева книгу привезли. Больших денег стоит.
– Откуда же у попа такие деньги?
– Он переписал её и продал. У него, мама, способность переписывать книги. Он, когда переписывает, молится. Поэтому у него буквы красивые получаются. Я, мама, всю ночь не спал, всю ночь читал. Одних лучин извёл…
– Смотри, не запали нас! Упадёт лучина мимо чана… Ночью люди спать должны!
– Ах, мама, да разве можно заснуть за такой книжкой?! Читаешь, и будто перед тобой другая жизнь открывается. Жизнь другая, царства другие, и люди, и реки другие.
– Выдумки люди пишут. Что за книга? Сказки…
– Какие выдумки, мама? – возмутился Офонька. – Какие выдумки!.. Разве могут быть в таких книгах выдумки? Неправда твоя! Ты сама никогда не читала, и не суди, коли сама не читала. Эти книги, отец Пафнутий говорит, жить по-православному учат. Это же житие святого апостола Фомы! Нет, мама, в таких книгах выдумки быть не может!
– Какого Фомы, который неверующий?
– Да какой «неверующий», мама?! – от обиды Офонька готов был разреветься. – Он апостол! Он Ындию крестил!..»
– Да кто? Кто пишет про мою жизнь? – вопрошал себя Офонасей. – И почему?
И вспоминались слова Махмета-хазиначи при последнем прощании: «Ты, Офонасей, особенный, непростой человек, только сам этого ещё не знаешь».
И чего я не знаю? Не о том ли говорил махатма? «Как ветхозаветные пророки были предтечами христианства, так и ты, Офонасей, вернёшься на Русь апостолом новой религии», – вспоминал Офонасей и не мог понять лестного доверия к себе. Ведь то, что с ним происходит, носит печать посвящения в какой-то избранный круг. Надвигалось что-то неотвратимое.
Ближе подносит Микитин фитилёк к бересте, так близко, что ещё чуть-чуть, и пламя копотно лизнёт текст.
«… – Читал я книжку, что ему Пафнутий дал, – Микита мнёт в кулаке бороду. – В Ерусалиме Фому наняли как архитектора. Как в Ындию прибыли, царь ихний дал Фоме сундук золота, чтобы он дворец строил, а тот весь сундук на базаре нищим раздал.
Жена слушает с тревогой, не перебивает, хотя Офонька ей житие Фомы не раз уже пересказывал. То же и муж говорит, только без сыновьего восторга в голосе, с тревогой. Она и жене передаётся. Только исток тревоги мужниной непонятен женщине.
– Царь ихний спрашивает слуг своих, как, мол, Фома дворец строит. Не строит, говорят, весь сундук нищим раздал. Царь Фому в темницу посадил… Отнять надо у Офоньки книжку эту!
– Что же отнимать?
– Не такой он немного у нас, Офонька наш! Больно уж книжкам верит. Жизни не знает, а книжкам верит. А что, если захочет этому Фоме подражать?
– Так ведь житие же, Микита! Как ему не верить? Ты что?!
– Так-то так… А как надумает наш Офонька всё нажитое нищим на площади раздать? Скажет: «Я, как Фома, дворец на небесах построю». Пусть у него только мысль такая будет… Какой из него купец получится? Смех, да и только!
– Что же тогда выходит, Микита? Выходит, по-Божьи и жить невозможно?
Микита не отвечает, только мнёт в кулаке бороду.
– А Пафнутия от дома отдалить надо. Выучил мальчонку – Спаси Бог! Мы люди не каменные – благодарность помним. Вон мастера за горшок каши грамоте обучают.
– Зря ты, Микита! Сколько, он у нас в доме всенощных отслужил. И панихиды, и молебны… Молится за нас, – говорит и гладит убрус по вышитым птичкам. – Может, вредная она какая, книжка эта? Все они там, в Киеве, шибко грамотные. А? Может, к отцу Ферапонту сходить спросить?
– Много твой отец Ферапонт знает! Он отродясь ни одной книжки не прочитал. Его, твоего Ферапонта, с голосу службе учили. Он и Евангелие по слогам читает, когда дьякона нет. Откуда твоему отцу Ферапонту знать? Отнять книжку эту и спрятать! – не очень уверенно заключил Микита.
– Так ведь Офонька…
– Что?..
– Он её всю, почитай, на свою бересту переписал, не хуже Пафнутия. И бересту отнять?
Микита мнёт в кулаке бороду.
– Из головы не выбьешь… Может, отвлечь его чем-нибудь? – и, не давая ответить, продолжил: – Тут с московскими купцами стражник приехал. На площади всех побивает. И не скажешь, что больно велик ростом, – так, как все, чуть повыше. Против нашего Гири – клоп, а Гирю нашего на кулаках одолел.
– Секрет, значит, какой знает?
– Кулаками машет вроде как беспорядочно, а только никто до него рукой достать не может. С завязанными глазами супротив двоих бился – и обоих положил. В ночном бою такому цены нет! Вот бы Офоньку нашего к нему на обучение отдать.
– Как бы не изувечил мальчонку.
– Не изувечит! Мужик с головой и тверёзый всё время.
– И дорого возьмёт?
– Дорого-недорого, а в отъезжих торгах пригодится. Нельзя без этого! Согласился бы!
– Офонька без прилежания ходить к нему будет. Он ведь у нас отродясь ни с кем не дрался.
Отец усмехнулся.
– Прилежание будет! Скажу: без этого дела, Офонька, до Ындии не дойдёшь! Сам побежит, – Микита довольно усмехается в бороду, хитровато прищуривает левый глаз. – Купец должен быть свычен к ратному делу».
Офонасей читал, перечитывал бересту, пока не отворилась каменная кладка с колодезным скрипом.
26
Каменная кладка с колодезным скрипом отворилась. И в образовавшемся проёме, в серых сумерках, мелькнул белый сполох одежд махатмы, проявились очертания его магической красоты. Подспудно я ждал его, был рад ему и на онемевших ногах бросился в образовавшийся проём.
Я шёл за махатмой, как идут за пророком, почтительно стараясь ступать в ногу с ним.
– Я знаю, что тебя не было в хижине, когда покалечили сына брахмана, – не оглядываясь, проговорил махатма.
– Вы знаете, кто покалечил сына брахмана? – спросил я, оглядываясь, точно за нами могла быть погоня. То ли над головой, то ли сзади блазнились мне догоняющие шаги. – Кто же он? Или она? Или они?
– Я хочу помочь тебе, Офонасей, проникнуть в потаённые уголки твоей души, в самую суть твоих желаний, помогу понять тебе твоё предназначение в царстве земли и космоса. – Махатма шёл медленно, очень медленно. А я семенил за ним в серых потёмках по его хрупким следам. – Ты, Офонасей, вития. Ты должен глубже знать не только себя, но и других людей. И единоверцев, и соплеменников, и людей других вероисповеданий. Образ мысли, образ чувств или безчувствие ындуса, буддиста или бесермена. Иначе тексты твои будут поверхностны не только в духовном плане, но и житейском. Коль ты считаешь себя христианином, ты должен писать так, чтобы буддист не улыбнулся снисходительно, прочитав твои мысли о Будде, а папа римский пожалел, что Западная Церковь отпала от православия. А для этого ты должен стать местом, на котором стоишь. Увидишь дерево, и должен стать деревом. Увидишь птицу, и должен стать птицей. Я научу тебя быть тем, что ты видишь. И ты выйдешь из этого мира. И твоё заточение покажется тебе смешным. Ты превратишься в птицу и будешь ловить рыбу в реке. Ты сможешь описать ощущения рыбы, когда её чешую сжимает клюв птицы. А чтобы ты мог описать то, что происходит в ином мире, я научу тебя духом покидать тело… И так ли уж важно, кто покалечил сына брахмана? Господь выключил тебя из внешней среды. Вот это главное! И спроси себя: «Для чего?»
– Мне передали свитки, – сказал я после длительной паузы. – И я прочитал их.
– Тебя что-то смущает?
– Да… Поначалу я был в недоумении, потом в неком тихом восторге, но потом некоторые детали стали смущать меня, – чистосердечно признался я.
– Что же смутило тебя? – обернувшись, на ходу спросил махатма.
– Слова.
– Слова?
– Да, слова… На бересте о моём рождении слишком дерзко губы священника сравниваются с куриной гузкой, христианин так написать не мог. Тем более православный человек.
– Ты так считаешь? – Махатма в смущении остановился и с изумлением посмотрел на меня. – Может быть, ты и прав. Пока этот текст дошёл до меня, его вполне могла коснуться рука неправославного переписчика… Ты сможешь исправить ошибку!
– Но кто?.. Кто написал эти тексты?
– Я не знаю, Офонасей, – на ходу ответил махатма как можно увереннее, но голос его стал голосом лгущего человека (если он был человеком).
– И тятя, и матушка так похожи! И отец Пафнутий похож!
– Несмотря на «куриную гузку»?
– Может быть, и благодаря ей, но нельзя, нельзя подобное писать о губах священника!
– А о губах кого бы то ни было? Я имею в виду человека…
– Ну-у… – я замялся, – если герой отрицательный…
– А кто определяет отрицательность? Ты?.. Человек сотворён по образу и подобию Божьему, не так ли?
Махатма остановился и, обернувшись, улыбнулся непонятной улыбкой. Я был в замешательстве.
– Когда я упоминал Единого Бога вслух, ты не возражал мне, но мысленно всегда повторял: Единого в Троице. Я должен тебе кое-что показать, Офонасей.
– Мне трудно дышать, – сказал я с придыханием.
– Это ненадолго… Мне хочется, чтобы ты воочию убедился, что идея триединства божества была присуща всем или почти всем верованиям, всем или почти всем народам, населяющим вселенную.
27
Мы свернули со знакомой подземной тропы в унылый ход и стали спускаться вниз. Перед нами зиял огромный кратер, на дне которого, в скале, был выбит храм. К нему концентрическими кругами загадочно спускалась каменная лестница. Как освещалось пространство, оставалось непонятным. Красноватый свет будто просвечивался из другого мира.
Когда мы спустились к храму, дышать стало ещё тяжелее из-за поднятой вековой пыли. И я сказал об этом махатме.
– Это ненадолго, – снова сказал он.
И мы вошли под своды древнего храма. Изнутри они поддерживались каменными столбами и пилястрами. Из стен и колонн как бы вырастали буты. Первым я увидел громадного истукана в человеческом обличии с тремя лицами, обращёнными в разные стороны.
– Ни до, ни после об этих истуканах я не слышал, но почему-то запомнил всё, что говорил мне про них махатма, – рассказывал Офонасей купцам на русском подворье в Кафе, – хотя и чувствовал я себя довольно погано из-за нехватки воздуха. Порой казалось, что одна морда будто выглядывает из-за уха другой и подмигивает мне.
– Это образ триединого бога Брахмы, – неспешно рассказывал махатма, точно не замечая, что мне плохо из-за нехватки воздуха. – Всевышнее существо постигается только духом мысленного созерцания…
На стене были выбиты иероглифы, какими пишут в стране Чин, и махатма сказал, что на древнем камне запечатлено славословие буддистов – восхваление ипостаси высшего духа.
– И заметь, Офонасей, иероглифы расположены так, что имена ипостаси высшего духа нельзя прочитать одно прежде другого… А это триединое божество персов Ахурамазда.
Из земли торчал идол с тремя нечеловеческими головами.
– А на этой колонне – памятник древнехалдейской письменности…
Красноватая пыльца из-под моих ног повисла в воздухе храма. Махатма скользил, не задевая ни пылинки. Земляной прах под его ступнями не шелохнулся. А сквозь завесу пыли и духоту казалось, что буты трепещут руками и ногами. А буквенные строки на треснувших языческих скрижалях поочерёдно увеличивались, будто невидимая рука проносила по-над ними чистый кусок льда. А я, не зная древнего языка, читал. И понимал прочитанное. Триединые красавицы и триединые уроды Рима, Египта и Греции дышали на меня сказкой. Мы проходили между ними точно по инобытию.
– Все народы стремились к Единому Богу, но не всегда получалось…
Я уже плохо соображал, не хватало духу попросить махатму поскорее уйти отсюда. И точно через воду слышал его красивый голос:
– Осирис, Исида, Тор… И, хотя иудеи сегодня отвергают Троичное Божество, ты, Офонасей, не хуже меня знаешь, что в книгах Ветхого Завета упоминается о Троице, пусть и подспудно. Я уже не говорю о том, что три имени Единого Бога – Иегова, Эпохим, Адонаи – заменяются одно другим. Про оттенки этих имён ты как христианин…
И тут среди гигантских триединых уродов, на стене, я увидел скромную фреску, где Бог Отец и Бог Сын сидят рядом, а между ними – Бог Дух Святой в виде голубя.
Пол храма заходил подо мною ходуном. Мне показалось, я моргнул и заметил движение век, и очутился на известной мне площади с маленьким прудом и водопадом. Махатма остановился, как и всегда, у солнечной бреши в корнях. Из света доносился щебет обезьян, из кустов алоэ поднимались лягушачьи трели. Я упал на колени у пруда и, сделав ладони лодочкой, протянул их к воде. Она повторила мой жест.
– Никто не сможет увидеть себя в воде без света, – сказал махатма, будто процитировал, но не пояснил откуда. В мыслях у меня было большое замешательство. Я долго пил воду, а насытившись, повалился на замшелые камни и долго созерцал перевёрнутые струи водопада, с середины – солнечные.
Махатма учил меня собирать и концентрировать прану – разлитую повсюду жизненную силу. Я обучался с усердием. Я черпал силы в каждом упражнении, каждом слове махатмы. Мои телодвижения походили на дыхательную гимнастику, которой занимался в Декане продавец чаем. Помнится, он звал меня с собою в страну Чин, где люди желтолицы и узкоглазы. А махатма, следя за моими несложными движениями, время от времени веским словом поправлял мою осанку или разворот ладони и как бы между делом просвещал меня:
– Я попытаюсь объяснить тебе то, что объяснить невозможно ни человеку, ни ангелу…
Я мало что понимал. Махатма думал обо мне много лучше, чем я того заслуживал. В мыслях у меня было большое замешательство.
– …Это вечная мыслеоснова вселенной, из которой излучается Первый Логос или выраженные мысли. «В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог»…
Я не улавливал связи между словами махатмы и изречением из Евангелия, но терпеливо помалкивал.
– Логос необходим для творения мира. Логос совечен Отцу. У Отца всегда необходимость миротворения. Логос был всегда (прежде всех век). Бог всегда был творцом. А если всегда был творцом, значит, прежде того, как создал наш мир, создавал другие миры. Бог обязан творить. И после создания нашего мира Он творит другие миры и населяет их. Душа путешествует из тела в тело и воплощается в каждом из миров «паки и паки». – Махатма с покровительственным благодушием улыбнулся, и я улыбнулся на его «паки и паки». И вдруг махатма сухо щёлкнул: – Повтори!
И я к своему изумлению повторил однажды услышанное слово в слово.
– Я призываю тебя, Офонасей, избавиться от христианской зашоренности и усвоить, что наша душа при новом вступлении в материальный мир выпивает напиток из чаши забвения, которую подносит ангел. А выпив, забывает свою предыдущую жизнь. Я надеюсь, ты понимаешь, что всё это символы?
– Но откуда это известно? – не удержался я. – Кто-то пронёс чашу мимо рта?
– Ты необычный человек, Офонасей, – сказал махатма, повернув ко мне лицо. Он лучезарно улыбался. Но от меня не ускользнул его мгновенный пытливый взгляд. – В сущности, ты прав. Никто не знает, почему некоторые люди (независимо от кастовой принадлежности) помнят свою предыдущую жизнь. Но махатмы знают об этом, ибо мы вышли из круга воплощений. – Он поправил мой локоть, развернул мою ладонь и опустился на замшелый зеленоватый камень у пруда. – Знаешь ли ты, Офонасей, что Фома написал евангелие, когда вернулся из Иерусалима?
– Нет.
– Между верными, что хоронили Богородицу, ходили уже свитки с рассказами о жизни Христа. Дочь апостола Филиппа достала для Фомы творение Никодима, который снимал Иисуса с Креста. Я надеюсь, что ты, Офонасей, в курсе, что до того, как записал своё Евангелие апостол Матфей, было уже более пятидесяти формализованных благих вестей, написанных людьми, близкими ко Христу?
Притворно соглашаясь, я кивнул, хотя слышал об этом впервые.
– Прочитав Евангелие от Никодима, Фома дал себе слово, что, вернувшись в Ындию, непременно напишет своё Евангелие. И он написал его. Он выдавил его ногтем на листьях лотоса. И я позабочусь, Офонасей, чтобы ты прочитал его.
– Мне передадут лотосы?
– Нет, – махатма улыбнулся нежными, невинными, светлыми глазами. – Лотосы, должно быть, давно рассыпались от времени. Я подарю тебе пергамент с греческим текстом. Надеюсь, что сможешь прочитать его. Он существенно обогатит твоё представление о святом апостоле Фоме, а стало быть, и твою повесть о нём.
– Это было бы замечательно, поскольку у меня трудности с написанием некоторых глав, – мне захотелось поделиться с махатмой, и, оставив упражнения, единым махом я оказался у ног учителя. – Отправляясь в Ындию, я думал, что найду товар на Русь, думал найти верных Церкви, которую насадил святой апостол Фома, думал написать о нём повесть. У меня была цель. И не одна! Но все они кажутся маленькими и несущественными в сравнении с тем, что предстояло в Ындии святому апостолу. И я не могу представить, что мог чувствовать Фома, перед тем как покинул Палестину.
К моей радости, махатма начал рассказ, который много позже я предал бумаге, когда милостью Божьей прошёл три моря и добрался до Кафы в Крыму.