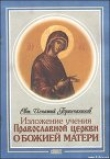Текст книги "Змеиный поцелуй"
Автор книги: Ефим Сорокин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Ефим Сорокин
ЗМЕИНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
повесть
1
Никто не видел, как он вошёл в деревню, но наутро все узнали, что поселился ятри[1]1
Ятри – странник.
[Закрыть] на краю рисового поля в хижине умершей бездетной старухи, которую почему-то не сожгли с умершим мужем. Позже выяснилось, что первыми ятри увидели сын брахмана[2]2
Брахман – член высшей касты в Индии.
[Закрыть] Арун и Мара из табора.
На восходе солнца они покинули берег реки, где всё вокруг было тайно сопричастным их уединению, и поспешили к опустевшей хижине, у порога которой уже пророс дикий рис. Но внутри хижины, в прямом бледном луче, идущем от прорехи в соломенной крыше, увидели они спящего на земляном полу человека. И долго, дивясь, смотрели на него, потому что ятри был белокож и светловолос. Но ни Арун, ни Мара не могли никому рассказать о ятри, ибо брахман запрещал сыну близко подходить к табору, потому что наты[3]3
Наты – каста, в которую входят танцоры, канатные плясуны, жонглёры.
[Закрыть] принадлежали к низшей касте. Поначалу говорили, что в таборе о белом человеке поведал ребёнок, которому от роду было три дня, и этому многие поверили, потому что у натов уже случалось подобное.
Пожилая молочница Анасуйя в предрассветный час, когда ещё не проснулись и не залаяли деревенские собаки, как обычно, понесла в дом судьи Нидана масло, творог и дахи[4]4
Дахи – простокваша.
[Закрыть] и в нежном серебристо-молочном свете зари заметила у одинокой хижины красный сполох, который напомнил ей красную юбку Мары. А когда молочница увидела Аруна, прямого, как ствол банановой пальмы, который несмелым и застенчивым шагом шёл по земляным перемычкам рисового поля, она мягко опустила кувшины на землю, накрыла их большими зелёными листьями и поспешила к хижине, надеясь найти там какие-нибудь улики тайной встречи и из самых лучших побуждений донести о том брахману. Обратно от хижины Анасуйя бежала, точно молодая слониха. Сквозь редкие чёрные усики под крупным пористым носом проступили бусинки пота. Пока брахман совершал омовение и утреннюю пуджу[5]5
Пуджа – приношение богам.
[Закрыть] на берегу реки, молочница, точно оживший раскрашенный бут[6]6
Бут – идол.
[Закрыть], в нетерпении ходила туда-сюда перед его домом, покусывая крашенные бетелем[7]7
Бетель – род перца.
[Закрыть] губы.
– Он белый! – воскликнула молочница и всплеснула полными руками.
– Кто белый? – безучастно переспросил подошедший к Анасуйе жрец, думая о твороге, который та, как обычно, непременно расхваливала. Брахман не находил взглядом ни кувшина, ни крынки.
– У него белая кожа… светлые волосы! – молочница поправила на полной груди яркое сари. – Белый человек в заброшенной хижине!.. От маковицы до века левого глаза у него жуткий шрам!
– Шрам? – в раздумье произнёс брахман. – Если он плохой человек, пусть его боги позовут его обратно!.. Что он делает в хижине?
– Он спит, – загадочно произнесла Анасуйя.
– Спит? – переспросил брахман таким тоном, будто молочница поведала о чём-то необычном.
– Да, он спит.
И молочница что-то взахлёб зашептала брахману на ухо. Тот сорвал с кустарника лист, выдавил на нём ногтем несколько знаков и протянул записку молочнице с просьбой отнести судье Нидану. Молочница завернула листок в уголок сари и поспешила к дому судьи.
Судья Нидан умел выколачивать из людей налоги, поэтому крыша его дома была восьмискатной и, понятно, покрыта черепицей. Староста деревни был глубоким стариком, и все обращались к Нидану. И раджа был доволен Ниданом. Кроме того, судья знал толк в рисе и шерсти. В последнее время Нидан вёл себя так важно, будто уже купил себе слона. Несмотря на раннее утро, тонкие острые усики судьи были уже подщипаны. Он прочитал записку брахмана и позвал своих молчаливых братьев, которые помогали ему собирать налоги. Чуть задрав свой хищный нос, Нидан благосклонно слушал молочницу, а та, видя благорасположение судьи, рассыпалась в подробностях. Слуга принёс Нидану белый плащ.
Подходя к хижине на краю рисового поля, судья увидел, что возле неё собралась чуть ли не вся деревня. Пришли даже наты из табора, пришёл даже их вождь, у которого на груди висел амулет, как говорили, с костью дьявола. Пришёл даже нелюдимый перевозчик, оставив без присмотра свой бамбуковый плот на берегу реки. В зарослях манговых деревьев, у белого коня ятри, среди детворы, блеснула острая лысина брахмана.
Когда брахман в сопровождении Нидана подошёл к хижине, все расступились…
Несколько лет спустя, за девять дней до Филиппова поста, милостью Божьей пройдя три моря, в Крыму, в умирающей генуэзской Кафе[8]8
Кафа – генуэзская колония в Крыму.
[Закрыть], на русском подворье, Офонасей Микитин будет рассказывать купцам о своём хождении, но из всех мест, которые посетил, он подробно остановится на одной ындийской деревне, название которой не произнесёт, а об остальных местах, которые посетил, скажет вкратце, дабы пребывание его в этой загадочной деревне стало мало-мальски понятным. И когда Офонасей рассказывал о тех днях, ему самому они казались лучше, интереснее, чем когда он проживал их. Никто ничего не мог понять относительно имён, потому что Офонасей изменил имена, дабы по ним нельзя было определить местность, где происходили события. Даже времена года как бы накладывались друг на друга, и это было сделано рассказчиком сознательно, дабы недобрый пытливый ум, по географической карте идя вслед за русичем по Ындии, не смог выведать местопребывание катакомбных христиан.
2
– Каким богам ты молишься? – спросил меня брахман.
– Христу Распятому, я – христианин.
И сказал ему веру свою. Христа он не знал. Это смутило меня. И, полный сомнений, я спросил себя: «Не зря ли я сделал крюк и пришёл сюда, не облазнился ли я, не обманул ли меня хаджа Махмет-хазиначи[9]9
Хазиначи – казначей.
[Закрыть] в Джуннаре?»
Нидан первым признал во мне купца. Он слышал про Московию, но про Тверь не слыхал. Присел рядом, и я долго описывал ему гостиный двор в Твери, мясные, сурожские, ножевые ряды, рассказывал, какие звери, птицы и люди живут на Руси. Немного приукрашивал, не без этого, и Тверь с моих слов становилась похожа на снежную, морозную сказку и, должно быть, казалась не менее загадочной, чем Ындия из Твери. В то время я уже тосковал по родине и подробно описывал Нидану волжские просторы, сильное и спокойное движение воды, неварное солнце, от которого всюду – мягкий блеск, описывал благорастворение воздухов, напоённых смолистым запахом елей и сосен… Налог? Налог есть, как не быть! Только плати!.. Оборони, Боже!..
Молодая красивая натка провела пальцем по своему лицу, как бы повторяя безобразную извилину моего шрама, и вопросительно посмотрела мне в глаза. И я рассказал ей, как по пути в Ындию, близ Азъ-тархана, трое татар предупредили, что пара сотен головорезов сторожат нас ниже по Волге, чтобы ограбить и взять в полон. Мы одарили азътарханских татар, и они поклялись бесшумно провести нас мимо засад, но сбежали, как только наши ладьи запутались в рыболовных сетях. Мы сражались, и в одном из нападавших, прежде чем его сабля рассекла мне лицо, я узнал татарина, которого одарил сукном. И, когда я рассказал об этом, вокруг меня недовольно и осуждающе зашумели. «Слава Богу, – подумал я, – у народа, к которому я попал, не считается за добродетель обмануть и ограбить иноплеменника». В тёмных очах молодой натки (как пишут бесерменские[10]10
Бесермены – магометане.
[Закрыть] витии) я уловил пламенную страсть.
Тут произошло неожиданное. Всё вдруг замерло, стихло. По жерди, над головой, извивающимся страхом скользнула змея. Прыгнула вниз, хвостом держась за жердь, и ужалила меня в лоб. И снова тишина. И жутковатый шорох в рисовой соломе.
Брахман оказался весьма благоискусен в змеиных укусах. Даже раджа знал о брахмане-лекаре и однажды привозил к нему своего гостя, ужаленного змеёй на охоте. Жрец взял мою голову длинными чуткими пальцами и, чуть прищурившись, внимательно стал изучать ранки. Колотьба в моей груди не унималась. Наконец брахман сказал:
– Змеиный поцелуй.
Люди шумно вздохнули:
– О!
И только Нидан отнёсся к словам брахмана недоверчиво, точно ждал каверзы от жреца. Судья хмуро улыбнулся, зорко, как опытный ворон, следя за всеми. Люди нет-нет да и посматривали вверх, на то место, где исчезла змея. Шептали в недоумении:
– Змеиный поцелуй?.. Змеиный поцелуй?..
– Такое иногда случается. – Все смолкли, даже юркие ребятишки присмирели, когда брахман заговорил. – Сердце этой змеи переполнено любовью. У змеи, которая тебя поцеловала, ятри, девичье сердце! Эта змея никогда не причинит тебе вреда. Она любит.
Я недоверчиво улыбнулся, но улыбнулся открыто, и жрец не обиделся. Во всяком случае, обида никак не проявилась на желтоватом, в глубоких морщинах лице.
– Ни один заклинатель змеи не сможет приручить её, и ни один мангуст не сможет одолеть её, ибо она любит. Но теперь, пока змея рядом, ни одна женщина не подойдёт к тебе. А когда ты умрёшь (я не знаю, как хоронят в твоей стороне, ятри), прежде чем тебя сожгут, пустят по водам или предадут земле, эта змея свернётся на твоей груди и умрёт вместе с тобой.
Я не поверил брахману, но его слова несколько озадачили меня. Поразмыслив, я решил, что змея послана Господом для моего вразумления. В последнее время я до того избаловался, что в городах, которые проходил, непременно осквернял себя с некрещёными жёнками. Они были красивы и дёшевы. И любого цвета кожи. Порой даром. Трудно было посмотреть на них без вожделения, когда груди у них голы и только на гузне – плат. А гузно выглядит, как правило, весьма вызывающе. И, хотя читал я покаянные молитвы, но, подходя к новому городу, ловил себя на бежавшей тайной трусцой мысли: непременно зайду к позорным жёнкам. И любодейственную страсть паки проявлял. И вот, похоже, долготерпение Господа закончилось, и Он, чтобы обуздать мою похоть, по немощи моей послал мне змею с девичьим сердцем.
Вечером меня посетила молочница Анасуйя, возраст которой не боялся любвеобильной змеи. Молочница пришла за домашними бутами. И я ещё раз спросил женщину, знает ли она Христа Распятого.
– Нет, – был ответ. И снова сомнения охватили меня, и дым очага и запах рисовой похлёбки показались мне в тот вечер нестерпимо горькими. Собирая домашних бутов, молочница сновала по хижине, то открывая, то загораживая собой огонь очага. Тогда я спросил Анасуйю о вере её, а она только сказывала:
– Верую… верую… – и кланялась домашним бутам.
Я был озадачен. Сколько я ковов[11]11
Ков (инд.) – мера длины, в среднем около десяти километров.
[Закрыть] лишних дал?! И дебрью лесной, и колючкою злой. И во рту, кроме кичиря сухого, ничего не было. Думал, вы во Единого Бога Отца веруете… и в Господа нашего Иисуса Христа… и в Духа Святого Господа Животворящего, и что я вижу? Думал, нашёл-таки Церковь, которую насадил святой апостол Фома!..
– Верую… верую… – шептала коротышка-толстуха с лоснящейся кожей и немного смешно кланялась, сложив, точно папежница[12]12
Папежница – католичка.
[Закрыть], ладони у подбородка. А я бездумно смотрел на шею женщины с тремя гладкими, как у раковины, складками.
3
Офонасей не знал и не мог знать, что накануне его прибытия в деревню во дворцовой бутхане[13]13
Бутхана – храм идолов.
[Закрыть] голова идола ответила молящемуся радже шёпотом. И раджа, озадаченный, вынул из-под языка золотую пластинку с именем бога и задумался над тем, что прошептал идол.
Ветер поднял белый занавес, когда раджа вышел из внутренних покоев, и телохранители вытянулись в знак приветствия, не удивившись, что на божественном одежда простолюдина.
Древние повествования сохранили много трогательных и поучительных рассказов о царях, которые переодетыми покидали стены своих дворцов и инкогнито ходили по городам и весям, наблюдая жизнь своих подданных. Конечно, подданные узнавали в них вельмож, но они, как правило, скрывали свой титул и представлялись наблюдателями за справедливостью.
И вот однажды в хижину молочницы Анасуйи постучал человек в одежде простолюдина. Постучал так тихо, что Анасуйя сперва подумала, будто большой жук бьётся о бамбуковые жерди хижины. Анасуйя сразу признала в пришедшем вельможу (ибо он был «глубже и свободнее»), пригласила гостя в дом и омыла ему ноги. И когда она омывала ноги вельможе в одежде простолюдина, тот представился наблюдателем за справедливостью. Анасуйя на миг замерла. Но тут же подумала, что бояться ей нечего, потому что уже несколько лет как она вдова, и её муж, которому она была неверна, уже не узнает о её изменах. А молоко она никогда не разбавляла. Анасуйя покорно взглянула на гостя и спокойным голосом спросила:
– Что я должна делать, господин?
– С севера в наши земли идёт ятри. Он купец и вития, поклоняется Распятому, – говорил наблюдатель за справедливостью, лаская пальцами золотую пластинку с буквенной вязью. – Пишет повесть об апостоле Распятого – Фоме. Имя ятри – Офонасей. Ищет в Ындии единоверцев Церкви, которую насадил Фома. Остановится в вашей деревне.
– Этот ятри несёт в себе какую-то угрозу нашему радже и его подданным?
– Нет, скорее, наоборот, он может нам пригодиться. Через его сердце пройдёт битва в неземном измерении.
– Я должна полюбить его?
Наблюдатель за справедливостью был несколько озадачен, ибо из слов молочницы следовало, что пожилой она себя не считает. Владыка улыбнулся про себя и, опасаясь зазря обидеть Анасуйю, сказал:
– Полюби его беззаветно и тихо, как сестра, – и с этими словами наблюдатель за справедливостью щедрой рукой положил в нишу с домашними бутами туго набитый мешочек.
Вельможа отказался от трапезы.
– Ты должна запомнить несколько фраз и при случае вставить их в разговор с ятри.
– Я сделаю всё, что надо, господин, – сказала Анасуйя и приготовилась слушать и запоминать.
Покинув дом молочницы, наблюдатель за справедливостью дошёл до края деревни, как вдруг остановился и зашагал обратно, точно что-то забыл сказать. Подойдя к хижине, заглянул в приоткрытую дверь. Стоя на коленях у ниши с домашними бутами, Анасуйя большими глотками пила из лохани воду, которой только что омывала ноги гостю. Наблюдатель за справедливостью удовлетворённо кивнул и, положив под язык золотой талисман с буквенной вязью, зашагал к краю деревни, где его поджидала колесница.
4
Табор спит, но не спит старый нат – вождь кочующих натов. Смотрит на горящий костёр, будто читает по пламени. Щёлкнула веточка под чьей-то осторожной ступнёй, и старый нат тяжело поднял глаза.
– Я слышала, Сарасака, – присаживаясь, сказала Мара, – что ты знаком с древними обрядами и можешь заговорить всех змей в округе.
Сарасака долго молчал. Он знал обряды тех древних времён, когда наты ещё вели оседлый образ жизни. Мара отчаялась услышать ответ. Нат поднял с земли сухую ветку и бросил в костёр. Смотрел, как занимается она огнём.
– У меня есть ожерелье, – сказала Мара, когда веточка догорела. – Ожерелье досталось мне от матери, а ей – от её матери. Если верить им, что оно такое ценное, ты, Сарасака, на него сможешь купить себе коня, не хуже, чем у белого ятри.
– Змея не подпускает тебя к ятри? – спросил вождь, с недоверием посматривая на Мару. Та глубоко кивнула и, глядя на вождя, положила голову себе на колени. Её длинные волосы, выбеленные лунным светом, коснулись земли. Мара боялась, что вождь уличит её во лжи, что скажет, нет никакой змеи с девичьим сердцем. И Мара сказала:
– Всё тело моё горит, Сарасака! И я умру, если не утолю мою страсть!
– Утром, – пообещал вождь. От старости его голос был скрипуч, как голос попугая. – У белого ятри хороший конь. Длина головы коня тридцать два пальца, длина туловища – сто шестьдесят пальцев, высота – восемьдесят пальцев. Очень хороший конь у белого ятри! Высших кровей конь!
А на следующее утро посреди гладкой возвышенности, окружённой лесистыми холмами, совсем рядом с деревней, вырыли большую яму и накидали в неё камней. Сарасака сложил из них жертвенник. Мара поднялась на холм и остановилась на каменистом выступе, нависающем над поляной. Вдали, за лесом, были видны край деревни с восьмискатной крышей судейского дома, река, как раз то место, где сжигали умерших. Мара наблюдала за старым вождём, который на дне ямы обкладывал камни жертвенника хворостом. Средь бела дня Сарасака развёл гигантский костёр и, выбравшись из ямы, опустился на колени, повернувшись лицом на север, вскинул руки и стал молиться только ему одному известным богам. Мара замерла.
Время шло, но внизу ничего не происходило. Дрожащее марево чуть искажало коленопреклонённую фигуру. Сарасака поднимал руки горе, падал ниц, указывал рукой на пылающий жертвенник, но тщетно. Мара мерила каменный мыс шажками. «У него ничего не получается», – усмехнулась Мара. Она уже ступила на тропинку, чтобы сойти вниз, и вдруг на другой стороне поляны увидела…
– Змеи?! – удивлённо прошептала Мара.
Из леса выползало великое множество змей. Медленно, точно нехотя, они приближались к яме с жертвенником. Некоторые из гадов пытались повернуть обратно, но невидимая сила перегибала их и направляла к огню. Зловещее шуршание послышалось совсем рядом. Трава вокруг каменного выступа зашевелилась. Ползли змеи. Земля внизу, казалось, ожила. Как речная вода огибает островок, так ползущие огибали молящегося вождя. Змеи падали в яму, и запах палёного вскоре достиг утёса, на котором застыла поражённая Мара. С молчаливым преклонением смотрела она вниз на Сарасаку.
И вот он поднялся и, подойдя к каменному выступу, крикнул Маре:
– Пространство, на котором слышится мычание буйволицы, очищено от змей.
5
С детства привыкла Мара к кочевой жизни, кострам, звукам наковальни, лаю собак и мычанию буйволиц. Племя кочевало по Ындии. Неподалёку от деревень наты разбивали свои лагеря, ставя пёстрые незатейливые шатры. В разноцветных лохмотьях входили наты в деревню под весёлые звуки наггары[14]14
Наггара – барабан.
[Закрыть], под скрип телег, под приветливый галдёж деревенской голопузой детворы, под растерянный лай собак. Одни из натов пели, другие плясали, были среди них и акробаты, умеющие танцевать на канате, который натягивали между бамбуковыми шестами. Вождь Сарасака научил Мару заклинать змей, и в этом ремесле она достигла совершенства. И ещё долго развлекала бы она деревенских ротозеев, приторговывала бы опиумом, но одна случайность изменила всю её жизнь.
В городе на морском побережье, где наты давали представление, на зрелищной площадке, Мара увидела пророка Ишара. Должно быть, благочестивым поведением в своих прошлых жизнях пророк заслужил красноречие и уважение людей. Говорили, что он женат на изгнанной принцессе, хотя сам принадлежал к низшей касте. Он высмеивал касты, но, главное, веще говорил о том времени, когда все религии объединятся в одну вселенскую веру в единого Бога. Мара без удивления слушала пророка, а после проповеди подошла к нему. Кончик чалмы Ишара точно рог торчал над ушной раковиной с замысловатым узором. Мара сказала пророку, что сама много раз думала так, как он говорил, но не решалась поверить себе. Высоченный Ишар улыбнулся так, как всегда улыбался тем, кто внял его проповеди, и сказал:
– Доверяй себе! Смелее! У тебя, дева, большое будущее! Ты – не простой человек, – пророк посулил Маре трудную, но счастливую жизнь. И продолжил: – Тебя полюбит сын брахмана, и ты станешь его женой, когда он будет жрецом новой объединённой религии!
Однажды фиалковым вечером Мара доила буйволицу и отчётливо услышала голос какого-то невидимого существа. И испугалась, хотя голос был довольно приятным. На всякий случай сделала знак от злых асуров[15]15
Асуры – демоны.
[Закрыть]. Мара вглядывалась в сумерки сквозь туман курений, которые загодя разожгла, чтобы уберечь скотину от гнуса, но никого разглядеть не могла. Голос шёл ниоткуда.
– Не бойся меня, Мара! Я тот, с кем ты была в своей прошлой жизни.
– Но кто ты? И кем я была в своей прошлой жизни? – спросила Мара и расправила брови.
– Вы, люди, подвержены времени, и для вас прошлые жизни как бы не существуют. А я вижу…
Мара пришла в тихий восторг от льстивых речей и замерла в ожидании чего-то необычного, потому что наверняка знала, что говорит с богом. Она не видела его, но чувствовала благоухание ароматной воды, притираний и благовоний для рта.
– Божественный, почему ты почтил меня своим присутствием? – волнуясь, спросила Мара.
– Ты – моя небесная невеста, изгнанная за мнимое прелюбодеяние. Я не могу соединиться с тобою, потому что мы пребываем в разных мирах, но наступит время, и мы снова будем вместе. Но для дела, которое боги задумали на Земле, ты должна ответить взаимностью сыну деревенского брахмана. Он уже видел тебя во время представления и воспылал страстью.
– Я сделаю всё, что ты скажешь, – заверила Мара. Так между ними зародилось заговорщицкое согласие.
Офонасей не знал и не мог знать, что в тот день, когда его атаковала змея, Арун и Мара, перед тем как зайти в хижину на краю рисового поля, удалились в недавно проснувшийся лес. Арун нёс корзину со змеёй и ритуальный коврик. Когда Мара, сидя на нём, с закрытыми глазами распевала заклинания, Арун, прислонившись спиной к дереву, не моргая, глядел на сжатый кулачок Мары, точно опасаясь, что она не удержит горчичные зёрна, и змея вернётся с полпути и укусит ту, кто её направила.
– Нам пора, Арун! – ободрила Мара. И они вернулись на край рисового поля. Кулачок левой руки Мары был по-прежнему крепко сжат.
Деревенский брахман, обследуя чуткими пальцами ранки на лбу укушенного ятри, обнаружил пыльцу горчичных зёрен. И подумал: «Кто-то шкодит чарами и посылает змею, чтобы…» Кто и зачем это делает, старый брахман не знал. Вслух он необыкновенно мягко отозвался о змее с девичьим сердцем, сказал, чтобы подбодрить ятри, такого бледного, будто от него всё живое отхлынуло. И балованные голопузые дети, и морщинистые старики с удивлением воскликнули: «О!» Брахман выпрямился и взглянул на то место в соломенной крыше, куда ускользнула змея. Он оказался наблюдательным. Здесь, на рисовой соломе, пыльца от горчичных зёрен тоже оставила едва различимый след. Когда Мара спросила ятри о происхождении безобразного шрама на его лице, а ятри рассказал о нём, Мара повернулась к Аруну и шепнула:
– Нам пора!
И они, поспешая, пошли к тому месту в лесу, где оставили ритуальный коврик и пустую плетёнку с открытой крышкой. Они ждали змею. Мара сидела на коврике, а Арун очарованно глядел на свою возлюбленную. Её смуглая бронзовая кожа блестела. Убогая одежда подчёркивала ладную фигуру Мары. В траве долгожданным извивом скользнула змея и заползла внутрь плетёнки. Арун захлопнул крышку и помог Маре разжать онемевшие пальцы. Зёрна просыпались на коврик.
– Ты боялся за меня, Арун, почему? – спросила Мара, лукаво поглядывая на сына брахмана.
Арун с волнением наблюдал, как нежно раскрываются и закрываются губы любимой. Они были цвета красноспелого перца.
– Ты же знал, что у этой змеи ядовитые зубы слишком далеко в пасти, чтобы причинить вред человеку.
– Укус укусу рознь… И если бы ты просыпала зёрна…
– А я волновалась за ятри, – поддразнивая Аруна, сказала Мара и улыбнулась губами цвета красноспелого перца.
Маре не пришлось изображать страсть к ятри, на чём настаивал божественный голос. Когда она видела или вспоминала ятри, волоски поднимались на всём её теле. И Арун почувствовал неподдельную страсть своей возлюбленной к белому человеку.