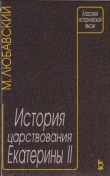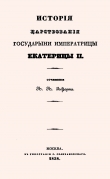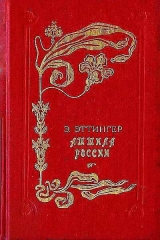
Текст книги "Аттила России"
Автор книги: Эдуард Мария Эттингер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
VII
Время – лучший целитель. Нет таких ран, нет таких сердечных страданий, которые не затянулись бы, не смягчились бы под его благодетельным влиянием.
Проплакав пять месяцев подряд над могилой любимого фаворита, Екатерина II вдруг почувствовала, что ей слишком тяжело продолжать жить в этой скорби, что она еще слишком молода, чтобы оставаться без ласки, без любви, без нежного сочувствия.
Придумать достойного заместителя покойному – это было вполне в компетенции Потемкина, и когда ему было разрешено вернуться из Херсона, он первым делом стал тщательно осматривать офицеров, выбирая подходящих.
Он остановился сразу на двоих – на Петре Ермолове и Александре Мамонове. Под каким-то незначительным предлогом он послал их обоих к императрице, чтобы она сама решила, который из них больше подходит ей. Ей понравились оба, но она решила сначала остановиться на Ермолове.
Сейчас же Потемкин поспешил произвести поручика Ермолова в свои адъютанты; в качестве такового он имел доступ к императрице, а она через месяц произвела Ермолова в полковники и взяла к себе флигель-адъютантом. Ермолов переехал в те же комнаты, которые занимал до того Ланской. Государыня подарила ему для первоначального обзаведения сто тысяч рублей и дала для уплаты мелких долгов еще пятьдесят тысяч рублей.
Новый флигель-адъютант представлял собою тип самого обыкновенного армейского офицера. Он не был ни умен ни глуп, ни образован ни полный невежда, ни рыцарь ни проходимец. Вернее – всего понемножку. Конечно, быстрая перемена в его судьбе не могла не вскружить ему голову – «белый араб от радости взбесился!», добродушно говаривал Потемкин.
Это прозвище – «белый араб» – было дано Ермолову и утвердилось за ним благодаря Потемкину. Кличке нельзя было отказать в меткости: действительно, Ермолов был курчав, имел широкие скулы, толстые, чувственные губы и белые как снег зубы – словом, вполне арабчонок, если бы только не льняные волосы.
«Белый араб» недолго продержался в милости у государыни, но его падение было связано с целой цепью причин.
У Ермолова был дядя, некто Левашов, живший исключительно карточной и бильярдной игрой. Хотя его и считали шулером, но он тем не менее принадлежал к числу постоянных партнеров Потемкина.
Подругой жизни Левашова была весьма сомнительного поведения немка, начавшая свою карьеру на шоколадной фабрике в Кенигсберге, а потом ставшая «рабыней веселья», в качестве каковой она и прибыла пытать счастье в Петербург. Как ее звали на самом деле, никто не знал. В шикарном квартале ее звали «Гелией», в квартале средней руки – «черноглазой Машкой», в рабочем – «Минной Ивановной». Отличаясь крайней беспорядочностью жизни, она то пировала под именем Гелии с дворянчиками из не особенно богатых, то, пропив все свои туалеты, делила в качестве Минны Ивановны трудовую косушку рабочего. После того как она несколько раз совершила подобные нис– и восхождения, побывала два-три раза в больнице, посидела несколько раз в кутузке за назойливые приставания к прохожим, судьба столкнула ее с полковником в отставке Левашовым, и она переехала к нему на постоянное житье.
В прошлой карьере у Гелии-Машки-Минны было одно отличительное достоинство: не умея никогда сберечь ни одной копейки для себя, она с одинаковым шиком «пускала по ветру» как бедного рабочего, так и богатого помещика. В крайнем случае она довольствовалась и малым, но не было такого большого, которого хватило бы на ее потребности. Нечего и говорить, что скромного бюджета Левашова не хватало на ее жизнь. До того времени он просто играл не особенно чисто, теперь же пустился ла откровенное, профессиональное шулерство.
Однажды, явившись к Потемкину, он притащил с собой также и свою Гелию.
– Вот, ваша светлость, прекрасная Леда, которая ощипала уже не одного лебедя и разорила не одного Юпитера! – сказал он, представляя князю свою сожительницу.
Та бесстыдно улыбнулась при этом и показала два ряда таких жемчужно-белых зубов, которые особенно нравились светлейшему.
– А ну-ка, покажись! – сказал он и стал бесцеремонно вертеть Гелию, осматривая ее по всем статьям, словно лошадь. – Ничего! Товарец добрый! – заключил он в результате.
Сели играть. Потемкин пожелал играть в кости и уже это не понравилось Левашову: в кости не сплутуешь. К тому же ему сильно не везло: он стал горячиться и проиграл все, что у него было.
– Ваша светлость, изволите продолжать играть в кредит? – спросил он.
– Нет! – спокойно отрезал князь.
– Тогда я могу предложить следующее: я поставлю на карту свою подругу, а вы – некоторую сумму, в какую ее оцените…
– Хорошо, но назначь сам.
– Пять тысяч рублей не много будет?
– Нет! – сухо отрезал Потемкин.
– Тогда давайте играть. Выиграю – деньги мои, ну, а проиграю…
– Тогда что?
– Что ж тогда? Останется только пулю в лоб пустить!
– Ничего не имею против!
Стали бросать кости. Первый бросал Потемкин и выкинул семнадцать очков. Он уже втайне торжествовал, но Левашов выкинул очком больше.
– Я проиграл! – равнодушно заметил князь. – Угодно вам продолжать игру?
– С удовольствием!
На этот раз проиграл Левашов: кучка золота уплыла так же быстро, как и появилась.
– Ну, что же, попытаем еще раз! – сказал он.
– На тех же условиях?
– На тех же, ваша светлость!
Опять кинули кости, и опять судьба отвернулась от Левашова: он проиграл.
– Ну, что же, – безнадежно сказал он, – все пропало, мне остается только уйти…
– Как уйти? – крикнула Гелия. – Нет, голубчик, ты должен исполнить свое обещание и застрелиться!
– Обещаний, сударь, на ветер не дают, – сухо прибавил Потемкин.
Левашов грустно посмотрел на Гелию, достал из кармана заряженный пистолет, засунул дулом в рот и спустил курок.
Гелия разразилась презрительным хохотом. Потемкин позвонил и приказал убрать труп, что было немедленно исполнено.
– Ну а ты, красавица, останешься у меня до утра! – спокойно сказал светлейший.
– До утра? А потом?
– В свое время узнаешь! – ответил Потемкин, обнимая Гелию.
На следующее утро он сказал ей:
– Ну-с, красавица, а теперь убирайся, да поскорее! Такое подлое, развратное существо, как ты, опасно держать у себя слишком долго!
– Как «убирайся»? – начала было кричать Гелия, но Потемкин позвонил и приказал выбросить ее за дверь, что и было буквально исполнено.
Когда Ермолов узнал обо всем этом, он кинулся к Потемкину и принялся кричать на него, угрожая всеми карами и громами, как небесными, так и земными.
Потемкин взял его за шиворот и собственноручно выбросил из дверей во двор; он мог безопасно пойти на это, так как более чем когда-либо был нужен императрице: это было время горячего обсуждения византийского проекта.
После такой расправы светлейший поехал во дворец и без всяких околичностей сказал императрице:
– Ваше величество, я явился с просьбой немедленно прогнать Ермолова!
– Почему? Что такое случилось?
– Он ведет себя со мною неподобающим образом. Только что он наговорил таких дерзостей, что я был принужден собственноручно выбросить его за дверь.
– Как жаль! – задумчиво сказала государыня. – Он такой смешной, такой забавный…
– Но это не дает ему право третировать старейших слуг вашего величества!
– Ну, да, конечно… Хорошо, через три дня я его удалю!
– Извините, ваше величество, я не стану ждать и трех часов. Моя честь должна получить удовлетворение немедленно!
– Вы забываете, князь, с кем вы говорите?
– Нет, нисколько. Я говорю с императрицей Екатериной, которую весь мир называет мудрой и справедливой.
– Но нельзя же быть таким нетерпеливым!
– В делах чести, ваше величество, отлагательства быть не может!
– Ах, какой ты!.. Ну, хорошо, завтра утром я удалю его!
– Как угодно будет вам, ваше величество, но тогда сегодня я попрошу отпустить меня на покой!
– Господи, ну неужели ты не можешь подарить мне несколько часов?
– В деле чести – нет…
– Ну что с тобой поделаешь! Ладно, будь по-твоему! Через полчаса Ермолов получил от императрицы в подарок сто тысяч рублей и предписание немедленно выехать из Петербурга. Через два часа он мчался по московскому шоссе.
VIII
В тот же день, когда Ермолов так неожиданно для себя слетел с вершины своего счастья, вечером императрица пригласила к ужину второго из присланных ей когда-то Потемкиным офицеров – Александра Мамонова. На следующий день Мамонов переехал в очищенные Ермоловым комнаты.
Мамонов заметно выделялся из всей вереницы фаворитов, последовательно приближаемых императрицей в последнее время. Он далеко не отличался красотой, у него был дурной цвет лица и калмыцкие скулы, он был самым некрасивым интимным другом императрицы, и все-таки в очень короткое время ему удалось совершенно вытеснить из сердца государыни образ «незабвенного» Ланского.
Мамонов был очень умен, честолюбив, образован, циничен и скрытен. В его взоре сквозило превосходство; редко кто дерзал оскорбить его – а ведь он не был ни бретером, ни выдающимся мастером шпаги. Впоследствии, будучи за границей и присутствуя на рауте у Кауница, Мамонов спокойно рассказывал о своей роли при русской императрице, об удивительном запасе молодых сил в этом старом заплывшем жиром теле, о некоторых неудобствах обязанностей фаворита, о выгодности последних вообще и для него – в частности.
Существуют вещи, о которых все знают, но в которых нельзя признаваться. Всякого другого за подобные рассказы в аристократическом обществе немедленно бы оборвали, осыпали ироническими замечаниями, перестали принимать…
Однажды в ответ на одно из особенно циничных признаний Мамонова слушатели было возмутились, а влиятельный князь фон Ритберг-Азенау даже пустил ядовитое замечание.
Но Мамонов обвел общество спокойным, ледяным взглядом – и присутствующие поспешили выразить на лицах растерянную улыбку; потом он уставился на фон Ритберга, и через секунду князь как-то удивительно глупо сорвался с места, подбежал к Мамонову с комплиментами, прося непременно посетить его.
– Хорошо, ваша светлость, – все тем же ровным, ледяным голосом ответил Мамонов, – если выберу время, то как-нибудь заеду к вам! – И, кинув эту небрежную фразу, он равнодушно отвернулся от князя.
Мы нарочно привели эту сценку, чтобы показать, сколько нравственной силы и способности оказывать влияние на других было заложено в этом человеке.
По отношению к Потемкину Мамонов с первого же дня сумел поставить себя в совершенно определенные рамки. Когда после официального признания Мамонова новым фаворитом светлейший сунулся было к нему с советами и указаниями, последний безукоризненно вежливо оборвал Потемкина. В дальнейшем он достаточно ясно показал, что не позволит светлейшему ни на йоту вмешиваться. Он очень прозрачно намекнул, что не имеет ни малейшего желания вступать в борьбу с Потемкиным, так как хочет с большей пользой употребить время на собственную карьеру, но если его поставят в необходимость поднять перчатку, то…
Потемкин внутренне выругался, но должен был примириться с этим. Ему некогда было теперь возиться с Мамоновым – государыня все чаще поговаривала о своем желании посетить юг России, и приходилось слишком много работать над обустройством новых русских областей. А потом – к чему? Сейчас Мамонов не был ему опасен, так как с большой корректностью воздерживался от какого-либо вмешательства в интересы светлейшего.
– Это он себе на закуску оставляет! – нередко говаривал Потемкин Бауэрхану. – Ну да там видно будет!
А тем временем Мамонов действительно употреблял свое время «с большой пользой». За самый короткий срок он стал уже генерал-майором. Вскоре польский король Станислав Понятовский, имевший свои основания ухаживать за русской императрицей, прислал ее фавориту сразу два высших польских ордена. Мамонов поблагодарил короля, но сказал, что, не имея ни одного русского ордена, он не может носить польские. Разумеется, Екатерина II сейчас же узнала об этом и пожаловала умному любимцу орден св. Анны, усыпанный бриллиантами на 100 000 рублей. Через полгода Мамонов получил орден Александра Невского, который, благодаря усыпавшим его бриллиантам, тоже представлял собой ценность в 100 000 рублей. С тех пор награды стали все учащаться и учащаться, и редкая неделя проходила без какого-нибудь знака внимания императрицы.
IX
7 января 1787 года императрица наконец отправилась исполнить давнишнее желание – «осмотреть свое маленькое хозяйство», как она шутливо выразилась, то есть посетить Новороссию и Крым.
Читателям, разумеется, отлично известна эта нашумевшая во всем мире историческая феерия. Поэтому мы остановимся только на нескольких черточках, характерных для интересующего нас русского Аттилы.
Надо было быть Потемкиным, чтобы решиться так нагло обмануть государыню, чтобы так талантливо, так быстро инсценировать грандиозный спектакль, преподнесенный императрице под видом действительности.
Еще в 1784 году, когда Потемкин был назначен генерал-губернатором Крыма, он отправил бригадиру Синельникову точный план путешествия государыни с указанием, где должно построить для нее дворцы, обеденные столы, станции и т. п. Таким образом, за три года до фактического путешествия его детали были уже предрешены. Как только день выезда был назначен, Потемкин выехал вперед, чтобы быстро поставить декорации, необходимые для его феерии.
Прежде всего он удалил от себя к приезду императрицы лично ей известного генерала Тутолмина, человека очень энергичного и деятельного, много сделавшего для нового русского края, но отличавшегося неудобной для Потемкина честностью. Вторым актом светлейшего было следующее: желая как можно больше поразить императрицу роскошью и великолепием управляемого им края, он устроил так, что графу Румянцеву-Задунайскому, бывшему в то время малороссийским генерал-губернатором, не дали денег, тогда как сам Потемкин черпал их полными пригоршнями. Румянцев не мог даже как следует выровнять дороги для проезда императрицы. И вот, проезжая Малороссией, она видела самую обыкновенную, серенькую, неприкрашенную Русь. Но стоило ей вступить в пределы генерал-губернаторства Потемкина, как колеса экипажей покатились словно по паркету, а вокруг все дышало прелестью фантастической сказки.
Императрица ехала сначала в экипажах, потом в галерах по Днепру. Проезжая по чудным дорогам, она видела вдали нарядные хутора, огромные толпы народа, якобы занимающегося полевыми работами, бесконечные стада скота. Но когда императрица подъезжала к назначенному для ночлега месту, декорации, изображавшие хутора, поспешно собирались и перевозились дальше, «народ» и «стада» тоже перегонялись вперед, и на следующий день, продолжая свое путешествие, государыня снова видела богатые хутора, пестро и нарядно разодетых крестьян, тучные стада скота.
По Днепру ехали в галерах, и тут обман был еще наглее. Ведь, проезжая по твердой земле, государыня могла вздумать остановить экипаж, подозвать рабочего, расспросить, могла захотеть лично осмотреть нарисованный хутор; сидя же на палубе галеры, она была лишена возможности проверить что-либо и только наслаждалась созерцанием пестрого калейдоскопа, развертывавшегося перед ее глазами.
Теперь декорации изображали уже не отдельные хутора, тонущие в зелени садов, а целые селения, города, из которых выбегал народ, церкви, тихо перезванивавшиеся колоколами, татарские аулы, откуда выезжали пестро одетые джигиты. По временам от картонных городов отъезжали эскадроны «сформированных» (а честно говоря – набранных из других частей и переряженных) Потемкиным легкоконных полков. И снова тянулись, снова красовались перед изумленными зрителями хутора, поля, города, села, казармы, крепости, церкви… Единственное, что удивляло многих, в том числе Иосифа II и польского короля, тоже сопровождавших Екатерину II в этой увеселительной прогулке, – это почему селения и города не у пышной, многоводной реки, а все больше в стороне.
Все города и селения, расположенные у самой реки, находились в периоде строительства. Это были уже не декорации, а действительность. Потемкин не упустил такой правдоподобной детали – не все, дескать, готово, многое еще продолжает строиться.
В Херсоне и Севастополе светлейший блеснул уже по-настоящему. Там Екатерина II лично видела и осматривала готовые крепостные стены, арсеналы, интендантские склады, корабли, строящиеся на чудом выросших из земли верфях. Но Иосиф II, любивший и у себя дома совать нос повсюду, осмотрев лазареты, крепостные работы, верфи, только пожимал плечами: везде сквозили либо невежество, либо небрежность, либо явный обман. А если бы он мог пробраться тайком в интендантские склады и распороть один из мешков с мукой, грудой которых так восторгалась Екатерина II, то увидел бы, что в этих мешках… просто песок!
Императрица была в восторге, а вследствие этого влияние и могущество Потемкина возросло до чрезвычайной степени, и за все это пришлось расплачиваться все тому же многострадальному русскому народу.
Прежде всего это путешествие дало возможность Потемкину и Мамонову украсть довольно порядочные суммы. Для того, чтобы не быть вынужденной самой отдавать самые разные мелкие приказания, императрица вручила Потемкину и Мамонову чистые листки со своей подписью. И тот и другой использовали часть их так, что написали над подписью императрицы ордера в казначейство, по которым и получили солидные суммы.
Помимо украденного, само по себе путешествие Екатерины II стоило народу (ибо кто же, как не народ, оплачивает государственные феерии?) больше двух миллионов рублей серебром.
А главное – Турция справедливо усмотрела в путешествии русской императрицы, в надписях на триумфальных арках, говорящих о «пути в Софию», в воинственных выкриках агрессивные намерения. Следствием этого была кровопролитная война, тоже немало стоившая народу, так как даже самая победоносная война, отрывая крестьянина от плуга и посылая его убивать своего ближнего, наносит невосполнимый ущерб стране.
Но последовавшая за путешествием Екатерины II война оказалась гибельной также и для самого Потемкина: в то время как он стоял во главе южной армии, в милость императрицы вошел Платон Зубов, единственный из фаворитов Екатерины II, которому удалось серьезно подкопаться под влияние светлейшего. Впрочем, сначала нам надо рассказать читателю о Мамонове и о его дальнейшей судьбе.
X
В 1789 году положение Мамонова было настолько высоко, что он считался самым вероятным кандидатом в вице-канцлеры, для чего императрица собиралась убрать занимавшего тогда эту должность графа Безбородко. Последний, был не из таких людей, которые позволяют легко подставить себе ногу. Екатерина II очень ценила его ум и опытность, называла его «Вольтером, переведенным на русский язык», но ее очень отпугивали его циничность и лживость. В этом отношении лучшей характеристикой служит следующее острое словцо, сказанное им как-то про себя:
– Если я говорю «ей-Богу», то я лгу, но если я подкрепляю сказанное своим честным словом, то, ей-Богу, мне можно верить!
Безбородко снесся с Потемкиным и узнал от него кое-что такое, чего пока еще не знали при русском дворе: Мамонов изменял императрице с восемнадцатилетней княжной Елизаветой Щербатовой!
Каким образом узнал это Потемкин, сидя в Херсоне, осталось совершенно неизвестным. Но, очевидно, он уже давно окружил фаворита невидимой сетью шпионов и держал все добытые сведения про запас. Сообщение Безбородко показало, что наступил момент, когда пора пустить «запас» в ход. Потемкин раскрыл вице-канцлеру ахиллесову пяту опасного соперника, и последний был поражен метким копьем интриги.
Когда императрица узнала об измене своего фаворита, она впала в самую дикую ярость. Если бы Мамонов попался ей в этот момент, то наверное ему плохо пришлось бы. Но когда первый приступ гнева прошел у государыни, то она подумала, что вовсе ни к чему выходить из себя, – все мужчины таковы, и женщина, которая показывает, что она поражена изменой в самое сердце, только унижает себя. Поэтому она дала себе окончательно успокоиться и потом, дождавшись прихода Мамонова, повела с ним такой разговор.
– У меня к тебе большая просьба, Александр!
– Приказывай, царица!
– Тебе следует жениться!
– Мне? Жениться? Но на ком же? – спросил удивленный Мамонов.
– У меня имеется в виду для тебя очень блестящая партия. Невеста, которую я наметила для тебя, молода, знатна и очень богата. Это дочь графа Якова Александровича Брюса.
– Нет, ваше величество, вы не можете требовать этого от меня! Я ни за что не женюсь!
– Да почему же, дурачок? Разве ты знаешь ее?
– Очень мало, но я нахожу ее слишком неинтересной… Да и вообще я ни на ком никогда не женюсь.
– Ты говоришь это серьезно, Александр?
– Клянусь всеми святыми!
– Всеми, говоришь ты? Ну, к чему всеми… Довольно будет святой Елизаветы.
– Елизаветы? Но… почему?
– Потому что так зовут княжну Щербатову. Но почему ты так изменился в лице? Что с тобой? Тебе нездоровится?
– Да… голова… и вообще…
– Что «вообще»? Не вообще, а сердце, должно быть?
– Да, и сердце тоже…
– Эх, Александр, Александр! И ты, значит, не лучше других! Ты не только изменяешь мне, но и лжешь прямо в глаза! Стыдись! У тебя хватает смелости только грешить, но твердо, как подобает мужчине и дворянину, сознаться в своем проступке – это тебе не по вкусу?
– Прости, царица! – упал Мамонов на колени.
– Встань, пожалуйста! Ну к чему эти трагические представления? Ты, может быть, думаешь, что я очень огорчена? Пожалуй, мне неприятно, что ты оказался способным на ложь, на подлую трусость… Но в остальном… Разве могу я ждать чего-нибудь хорошего от холодного авантюриста, готового торговать собой ради чинов, наград, подарков? Встаньте, граф Мамонов! Я прощаю вас, но с одним условием!
– Каким, ваше величество?
– С условием, чтобы через неделю вы были уже женаты на обольщенной вами девушке.
– Ваше величество, вам благоугодно шутить?
– Я далеко не расположена шутить с вами, граф, да и не шучу такими вещами. Через неделю княжна Щербатова должна стать графиней Мамоновой или… Ну, да договаривать, наверное, не нужно! Теперь уходите и смотрите, чтобы вы никогда больше не попадались мне на глаза! Я и без того принуждена видеть больше негодяев, чем могу вынести!
Через неделю – это было в июле 1789 года – в дворцовой церкви Царского Села состоялось бракосочетание графа Мамонова и княжны Щербатовой. Императрица простерла свое великодушие до того, что прислала новобрачным обручальные кольца ценностью в 20 000 рублей.
В то же время Мамонову было приказано в тот же вечер выехать с молодой женой из Петербурга.
За четверть часа до отъезда Мамонов получил запечатанный конверт. Он с любопытством вскрыл его и нашел там свой миниатюрный портрет, который государыня постоянно носила на груди. В этом портрете оба глаза были выколоты – такой символической местью императрица удовольствовалась по отношению к изменившему ей фавориту.
Новобрачные отправились в Москву. Их дальнейшая судьба не имеет отношения к течению нашего повествования, но она так характерна для нравов того времени, что мы, с позволения читателя, вкратце остановимся на ней.